Текст книги "Все цвета моей жизни"
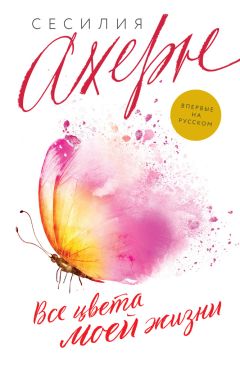
Автор книги: Сесилия Ахерн
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Ты чего? Ну и холодина здесь! – говорю я.
– Иэна жду. Он уже час как должен приехать, – отвечает она, кипя от гнева.
– Ты куда-то собираешься?
Я бросаю взгляд на кухонный стол: нет конверта, который обычно предназначается для виновника торжества. Я думаю, что она и правда позабыла о моем дне рождения, и напоминаю себе, что уже слишком взрослая, чтобы такое меня волновало.
– Нет. А, вот и он!
Дядя Иэн останавливает перед домом свой минивэн.
– Опаздываешь, как всегда! – кричит она ему, пока он суетливо выбирается из машины.
– Извини, извини, – отвечает он. – Куда их девать? Здесь оставить?
– Нет, заноси.
– Домой?
– Да, чего стоишь? Я же сказала тебе – в восемь.
– Лили, машин на улицах – жуть просто! – отвечает он, открывая задние дверцы минивэна. Он идет к нам с ящиком цветов, замечает меня и говорит:
– Привет, дорогая!
– Отдай Элис, – командует она. – Это ей на день рождения. Так, я чайник ставлю, чайку выпьешь?
– Ага, давай. С днем рождения, Элис!
– Это не от него! – кричит она из кухни. – Иэн, будь добр, подойди, в чайник воды набери!
Он делает мне большие глаза и спешит в кухню.
– Думал, ты меня чаем угостишь, а мне, оказывается, самому его нужно сделать!
– А что, если я не достаю?
– Значит, столешницы пониже надо сделать.
– А платить кто будет? Ты, что ли?
Они продолжают беззлобно препираться, а стою в гостиной с ящиком красивейших красных и розовых цветов в руках.
– Герань, – вдруг произносит она, я поднимаю голову и вижу, как она смотрит на меня. – Тебе в сад.
– Спасибо, – отвечаю я и чувствую комок в горле.
* * *
По воскресеньям мы навещаем Олли.
Он отбывает срок в тюрьме Маунтджой, где вместе с ним сидят еще пятьсот человек. С возрастом он окреп, из неуклюжего подростка превратился в молодого человека, подтянутого и мускулистого, потому что его любимым занятием стали тренировки в тюремном спортзале. Вот с угрями у него дела плохи: еда казенная, и тут уже ничего не поделаешь. Он мог бы пойти учиться, но с тех пор, как его перевели в мужскую тюрьму, он ни о чем таком и слышать не желает, твердя, что хуже, чем школа в тюрьме, просто ничего быть не может. Для него теперь тюрьма – дом родной, и это меня беспокоит.
Он рассказывает, что работает в прачечной.
– Опытный будешь, когда домой вернешься, – замечает Лили.
– Трусы ваши грязные стирать? Перебьетесь! – отвечает он, и оба они как бы улыбаются, как всегда хорошо понимая свой загадочный, непостижимый для посторонних юмор.
Он спрашивает ее о кресле и о спине.
Она жалуется ему, как все ужасно.
Они говорят о том, какая дурная погода – серая, холодная.
Она ни слова не говорит о наших чудесных прогулках, о том, что мы делаем каждый день, о новых встречах и новых знакомых, о том, что после каждого нового сеанса физиотерапии ей становится лучше, что она теперь может передвигаться на костылях, без помощи стула. Ничего светлого она ему не приносит. Своими словами она как бы дает ему понять: тебе и здесь неплохо, ничего такого особенного там, на воле, ты не пропускаешь. Можно было бы сказать, что она делает это для него; может, она и сама сказала бы именно так, если бы я спросила, да только я так не думаю. А думаю я, что их навсегда соединило все, что есть мерзкого и темного в этом мире.
Мне приходит в голову рассказать ему только об одном: о Госпеле. Как он играет и какое место в лиге занимает его команда. Я, правда, не разговариваю с Госпелом, не разговариваю с тех пор, как мы распрощались навсегда, а просто пересказываю все, что сумела узнать из газет, журналов, телевизора, то, что слышу от комментаторов, других игроков, наставников, менеджеров.
Олли не хочет книг, учиться ему неинтересно, он считает дни до освобождения. Я вспоминаю, как в первые недели после вынесения приговора мы навещали его в тюрьме для несовершеннолетних; сначала он считал время до середины своего срока, трех лет и четырех месяцев, а потом собирался начать обратный отсчет.
– А он вроде бы ничего, – говорит Лили каждый раз, когда мы уходим, и в этом она права.
Он действительно вроде бы ничего. Тюремная жизнь вроде бы как раз по нему. У него своя компания, которую поддерживает он и которая поддерживает его. Он вроде бы получает удовольствие, выстраивая схемы и планы просто так, без всякой цели, увязает в ничтожных мелочах, вместо того чтобы смотреть на весь большой мир целиком или видеть в нем для себя большее, чем сейчас, место.
После первых же посещений я сказала ей, что он на чем-то сидит, но она не желала ничего слышать и обрывала меня: «Перестань, Элис!»
Вот я и перестала. А он – нет.
Я была бы только рада не навещать Олли, а он явно был бы рад меня не видеть, но без меня Лили не может добраться до него. В кресле-каталке совершать это путешествие нелегко, сама она его ни за что не осилила бы. Я сдерживаю дыхание, насколько могу. Здесь спертый воздух. Здесь плохо пахнет. Все тела притиснуты друг к другу, все унылые, перепуганные, – худшие, самые низкосортные варианты людей.
Я рада, что могу физически дистанцироваться ото всех, но страх и безысходность висят в воздухе: у кого-то выдалась плохая ночь, у кого-то – неделя, кто-то содрогается при мысли о том, что нужно идти обратно в камеру, слышать за собой грохот двери и лязг замка. Бывает, ощущается радостное волнение при виде папочки, бывает, в комнате столько любви, что почти забываешь, где находишься. Но я не забываю. Оранжево-коричневый туман над тюрьмой несет не только энергию людей, которые сейчас сидят в ней, но и тех, кто был заточен много веков назад. Это здание с плохим светом и плохим воздухом, с ржавчиной, с гнилью.
Олли притягивает окружающую его безнадегу. Он прямо впитывает ее в себя. В комнате для свиданий она надвигается на него, как грозовое облако. Он, конечно, не один такой, но я сосредоточиваюсь только на нем. По-моему, он принимает антидепрессанты. Во всем его теле, в лице, в глазах заметно какое-то оцепенение. Цвета его теперь грязно-синие, серые, окруженные неестественно зеленым туманом. Не таким зеленым, который успокаивает, а неоново-зеленым. Оттенка чистящего средства для туалетов. Не знаю, что за таблетки ему дают, но уж, наверное, что-нибудь низкосортное. Это синтетическое, химическое спокойствие; настоящие, подлинные чувства никуда не делись, их только прикрыл химически окрашенный нейлон, от которого все зудит и чешется. Мне бы хотелось принести ему клочок травы, на котором можно было бы постоять, который он мог бы впустить в свои клетки, зарыться пальцами ног в землю, как он, бывало, делал, и успокоиться, пустить корни, увидеть перспективу, вспомнить, что не все поверхности твердые, жесткие, не пористые.
Горести других посетителей комнаты для свиданий надвигаются на него, как армия, зависают вокруг, мобилизуются, часть их прорывается и атакует его энергию, но неоново-зеленые таблетки делают свое дело и отражают вторжение. Если после того, как он принял таблетку, прошло какое-то время, можно увидеть, как отрицательная энергия начинает пробивать силовое поле и искать, как попасть внутрь. Может, им дают эти таблетки перед свиданием, чтобы всем было легче. Иногда из своей камеры к нам он идет дольше, чем обычно, его задерживает какая-нибудь стычка или драма, и, когда добирается до нас, таблетки уже почти перестают действовать.
– На что смотришь? – спрашивает он меня, оглядываясь через плечо; наверное, думает, что за ним кто-то стоит.
– Она всегда так, не обращай внимания, – произносит Лили.
– Перестань, чокнутая, – говорит Олли.
После наших свиданий я долго моюсь под душем. Вода смывает все. Все убожество, всю потраченную впустую жизнь. Я провожу много времени в саду. Я ем сырую морковь и сельдерей, жую семена чиа, воображаю, как тыквенные семечки чистят мой желудок и прямую кишку, пью зеленые смузи; я хочу основательно себя вычистить. Ей нравится усесться на диван с пакетом чипсов, который мы покупаем по пути домой, и, когда она смотрит сериал «Улица Коронации», меланхолия капает с нее, как старый жир, в котором их жарят.
* * *
– Скоро дома будешь, – говорит Лили.
– Угу.
– Комната твоя уже готова. Покрывалом со «Звездными войнами» кровать застелили.
– Можешь сжечь все это на фиг, – с широкой улыбкой говорит он. Я вижу, что у него недостает одного зуба, сбоку, ближе к коренному. – У меня друг вчера освободился. Десять лет просидел. Из Корка сам. Так он нас спрашивал: когда его выпустят и он на улицу выйдет, куда ему идти – налево или направо.
На какой-то миг мне кажется, что он философствует, но оба они начинают смеяться. Она даже фыркает.
– Придурок! – говорит он.
Хоть я и хвалюсь тем, что с первого взгляда могу понять, что передо мной за человек, по-хорошему на это нужен не один год. Я, может, и знаю, что не люблю их, что не доверяю им, но вот почему – никогда не пойму. Бывает, я вижу какой-нибудь новый цвет и не могу прочесть его, не могу понять, что он означает. А чтобы понять, мне нужен человек, у которого есть такие цвета, нужно понаблюдать за его характером. Есть цвета, которые я видела всего у одного человека, и больше ни у кого, и в тот момент, когда я вижу этот цвет еще раз, тот первый человек становится совершенно понятным, ясным, четко очерчивается у меня в голове.
Вот это и происходит, когда раздается звонок в дверь, я открываю и вижу мужчину в окружении яркого фуксиевого цвета – цвет красивый и идет этому красавцу, но я точно знаю, кто он такой.
Его цвет я раньше видела.
* * *
Я уже стараюсь держаться подальше от Эсме, инструктора по рэйки в спецшколе «Новый взгляд», эта женщина глубоко мне противна, но она тоже обладает способностью притягивать к себе. Мне кажется, я ощущаю ее даже раньше, чем вижу: подхожу, например, к какому-нибудь углу и знаю, что она за ним. А когда она с очаровательной улыбкой проходит мимо, то высасывает из комнаты весь кислород и оставляет во мне чувство полной пустоты. Никогда столько времени и энергии у меня не уходило на то, чтобы так невзлюбить человека. Нелюбовь к ней, одержимость ею стала моим хобби.
Я разрабатываю план, как бы Госпелу сходить к ней на занятие.
– Твой заклятый враг, – зловещим шепотом произносит он, зная, что я одержима ею.
Но оба мы хохочем и вообще-то не думаем, что это так.
Понятно, что она одна, а нас сотни, что лист ожидания большой, а работать она может лишь несколько часов в день, потому что занятия изнуряют. Но лист листом, а прежде всего школа обращает внимание на самых плохих, поэтому довольно скоро первым на очереди оказывается Госпел. Я уже заметила, что когда у него стресс или сильное переживание, например экзамен, то тик усиливается. Госпел объяснял, что его тики – это нечто вроде привязавшейся мелодии: приходится дергаться до тех пор, пока он не почувствует, что в этом больше нет необходимости. Чем больше кто-нибудь говорит об этом состоянии и чем больше внимания привлекает к нему, тем сильнее у него потребность делать это и дальше.
На экзамене по истории у Госпела случается такой приступ тика, что шея то и дело отбрасывает его голову назад, и он бубнит свой ответ со скоростью пулемета. Его выводят из класса. Госпел очень расстроен, все время извиняется и просит дать ему позаниматься с Эсме.
Когда Госпел идет к Эсме, я украдкой перебегаю спортивные площадки и останавливаюсь у того домика, где она проводит свои занятия. Госпел знает, что я здесь и, когда Эсме оборачивается к нему спиной, подмигивает мне, явно получая удовольствие от моей шпионской миссии. Они начинают разговор о тике и его последствиях – переменах настроения; слушать мне неловко, я отодвигаюсь от окна, чтобы он не смущался. Она объясняет, что такое рэйки и что она хочет очистить его чакры. Он ложится на кушетку.
Если бы мне нужно было описать цвет Госпела одним словом, я сказала бы – медовый. Он не совсем оранжевый, не совсем желтый, скорее, смесь этих цветов, но теплая, густая, похожая на сироп. Когда Госпел приходит в ярость, цвета у него становится сердитыми, как у всех, но его личный цвет – медовый. Этот цвет оживает, когда мы заняты чем-нибудь в школе. Он сообразительный; он очень любит всякую сложную технику. Он превосходно играет в футбол. В этой игре лучше его никого нет. Только там у него не бывает тика, и поэтому на поле он старается бывать как можно больше, совершенствуя свои навыки и способности, а оттого, что там тика у него не бывает, он перестает волноваться, а значит, не теряет головы. Это его убежище, и на поле он король.
Оранжевый цвет яркий и теплый, желтый – чистый и резкий и, смешиваясь, они дают медовый, цвет сахара, растопленного на сковородке, когда он превращается в карамель. Смотреть на его цвета – это все равно что смотреть, как работает его мозг. Острый, сосредоточенный, напряженный ум превращает грубости в нечто мягкое. Решения обдумываются. Мысли текут неторопливо, тянутся, как сироп.
Сейчас он не тревожится. Или тревожится не сильно. Я вижу, как иногда от тика у него дергаются плечи, но в общем он спокоен.
Эсме делает несколько глубоких вдохов и выдохов. Ее пурпурный цвет не такой яркий, как был, когда она занималась со мной: с Госпелом ей не нужно так же высокомерно обозначать свою территорию. В это время я наблюдаю за ее пурпурным, жду, что он станет ярче, сосредоточеннее, но происходит нечто странное. Появляется серый, даже, пожалуй, дымчато-белый. Ярко-пурпурный и дымчато-белый. Я наблюдаю за дымкой, размышляя, откуда она взялась и что означает.
Она стоит у его головы, спиной ко мне, так что приходится подвинуться, чтобы лучше видеть. Она просит его глубоко дышать, считает до трех, когда он вдыхает, и до пяти, когда выдыхает. С цветами Госпела абсолютно ничего не происходит. Она стоит у его головы и плеч десять минут, закрыв глаза и протянув вперед руки. Я жду, что появится цвет жара, о котором она говорила, но между ее руками и его плечами ничего, совсем ничего нет. Она двигается к его грудной клетке, потом дальше, вдоль всего тела.
Через двадцать сводящих с ума минут, за которые ничего не происходит, она мягко произносит: «А теперь я заблокирую энергию».
Она сильно машет руками, как будто отгоняет муху. Его цвет начинает разбрызгиваться. Кое-что прилипает ей на руки. Она промокает их, цвет отскакивает и опять садится на Госпела. Она разделяет медовый на оранжевый и желтый. Дальше желтый делится на разные оттенки, становится светлым, резким, чистым, ясным, ярко-канареечным, и все это происходит, пока она стоит над ним, как шеф-повар из китайского ресторана, исполняющий искусный трюк с ножами. Раз-раз-раз – и цвета делятся, разлетаются по комнате. То же самое происходит с оранжевым; бледно-оранжевая капля висит у его колена. Это сбивает с толку. Сейчас она похожа на девочку, которая, балуясь, разбрызгивает краски. Капли летят по всей комнате. Я еле сдерживаюсь, чтобы не ворваться туда и остановить ее безумное шоу.
Но вот ловля мух, рубка ножом и разбрызгивание красок заканчиваются. Она тихо произносит его имя, но он не шевелится.
Не шевелится.
Глаза у него не открываются. У меня колотится сердце. Я несусь вдоль стены к двери домика и открываю ее чуть ли не ногой.
– Что вы с ним сделали? – ору я не своим голосом; распахнутая дверь ударяет о стену.
Она испуганно вскрикивает.
Госпел садится на кушетке. Он видит меня, широко улыбается и говорит:
– Я заснул.
Потом переводит взгляд на Эсме и спрашивает:
– Заснул, да?
Эсме кивает, прижимая руки к груди. Я напугала ее.
– А что было-то? – спрашивает он, медленно спускает ноги с кушетки, смотрит то на меня, то на нее скорее весело, а не беспокойно, понятия не имея, какой опасности она его подвергала.
Я свирепо взираю на нее, чувствуя физическое отвращение. Нас разделяет только воздух, но он не дает мне подойти к ней, как будто отталкиваются два магнитных полюса. Да я вовсе и не хочу подходить. Наоборот, хочу уйти из этой комнаты, подальше от нее.
– Пошли, – говорю я.
– Да я ничего и не почувствовал, – говорит Госпел, спрыгивает на пол и засовывает ноги в свои кроссовки. Он приземляется жестковато и, выпрямляясь, немножко прихрамывает.
Я беру его за руку и через все спортивные площадки тащу обратно в школу, а он старается не потерять кроссовки, которые не успел зашнуровать.
– Что такое? – весело, а вовсе не взволнованно спрашивает он. – Что случилось-то? Я думал, ты ее убьешь. Она что-то не то сделала?
Он моргает раз, другой. Голова у него откидывается назад, и он бормочет:
– А член мой она случайно не трогала?
– Нет! Что ты! Ничего такого даже близко не было. Как ты себя чувствуешь? – спрашиваю я.
– Да нормально. Как раньше, в общем. Заснул, и все. Расслабился. Слушай, мне очень нравится, что ты мой рыцарь в сверкающих доспехах и что ты держишь меня за руку, но только у меня сейчас футбол. Мне сюда.
– А… – Я стараюсь высвободить руку, но он прямо висит на ней и улыбается во весь рот. Он целует меня, но быстро, легко, наши губы лишь чуть касаются, потому что нам этого не разрешено. Он наконец отпускает меня, и я в одиночестве возвращаюсь в школу.
– Потом поговорим, ладно? – кричит он мне вслед.
– Ладно, – отвечаю я, не оборачиваясь.
Но кровь во мне кипит, а сердце колотится, стоит вспомнить ярко-пурпурный и дымчато-белый этой самозванки. Я не могу сдерживать свою ярость. Я даже не пробую те дыхательные техники, которым она меня научила. В этот раз меня не собьешь. Я не хочу успокаиваться; чтобы усмирить гнев, есть только один способ. Я иду в туалет, беру рулон туалетной бумаги, отправляюсь на парковку и обматываю бумагой машину Эсме. Один слой, другой, третий; я расходую весь рулон, какие-то дети смотрят на меня и весело ржут.
– Шпилька есть?
Кто-то радостно протягивает мне ее.
На ветровом стекле я царапаю: ВРУШКА. Четко, ясно, разборчиво.
Потом я узнаю, что Госпел недолго играл тогда в футбол. У него разболелось колено, то самое, к которому она подвесила капельку бледно-оранжевой энергии.
* * *
– Здравствуйте! – радостно произносит мужчина у моей двери. – Меня зовут Говард Хиггинс.
Он протягивает мне листовку, и я улыбаюсь. Прислоняюсь к дверному косяку. Сейчас поприкалываемся.
– Это информация обо мне. Я работаю тут, у вашего соседа, только что закончил работу и заметил, что и вам на крыше нужно кое-что подлатать. А у нас как раз от прошлого заказа материалы остались, так что я могу сегодня же все сделать со скидкой, если вам это интересно. Я бы посоветовал не тянуть, а то потом только хуже будет, – произносит он и озабоченно смотрит наверх.
– А вы в каком доме работали?
– В двадцать пятом.
– Ага, значит, у Джонстонов.
– Вообще-то я их фамилию не запомнил. Там мой коллега всем командовал. А как вас зовут, кстати? – спрашивает он и широко улыбается.
– Минни, – отвечаю я. – Что вы у них делали?
– Водосточные трубы чистил. Знаете, когда листья и всякий мусор забивают водосточные трубы так, что вода из них переливается, крыша может загнить, и у вас как раз такая беда. Пойдемте, покажу.
Я почти не сомневаюсь, что он выдумывает все это на ходу: и что работал у соседей, и что мою крышу нужно чинить.
Я выхожу вместе с ним из дома и смотрю на крышу.
– Лучше всего чистить два раза в год. Раз весной, раз осенью. Я знаю – вы на свои водосточные трубы внимание вряд ли обращаете, но мы для этого и работаем. Если сегодня будем чистить, то все сделаем со скидкой, а потом, осенью, еще раз заглянем. Тут тянуть не надо, это я вам точно говорю. Но дело хозяйское, дело хозяйское, дорогая.
– Сколько?
Он, надув щеки, произносит:
– Я бы сотенку взял. Наличными. Так-то раза в два дороже стоит.
– У меня наличных нет.
– А я бы с вами до банкомата прогулялся. Я как раз кофейку иду попить.
Я отвечаю с улыбкой:
– Спасибо, не надо.
– Так я вас на следующий раз запишу. Минни, правильно?
– Да. Мин-ни. По-моему, вы к нам уже заходили, – отвечаю я. – С мамой разговаривали.
Время от времени я признаю ее официальную роль, что там говорить.
– Точно.
– С колясочницей.
– А, да, помню. Фамилия ваша как?
– Маус.
Он бросает на меня быстрый взгляд и кажется, вот-вот ударит, но вместо этого разворачивается и со злым лицом уходит. Он знает, что я знаю, что он мошенник. Я всякое жулье издалека чую. Обаятельные, расчетливые – один раз увидишь и поймешь, какого пошиба эти люди. В них есть что-то елейное. Он идет к ожидающему его белому минивэну и уезжает.
* * *
Отсидев пять лет, Олли освобождается и получает разрешение вернуться домой. Попал он в тюрьму в шестнадцать лет, выходит в двадцать один. Он получил условно-досрочное.
Я с тревогой жду его возвращения, в точности не зная, что за человек появится у нас на пороге. Что за незнакомец будет теперь рядом с нами? Но мне и легче оттого, что у него, по крайней мере, будет возможность жить, пользоваться свободой, выйти прогуляться, когда захочется, поесть, когда захочется, поспать, когда захочется. Я переживаю, что молодого человека с тюремным прошлым никто не возьмет на работу, что мир будет жесток к нему, не поможет стать лучшей версией себя самого, и он вернется к привычным занятиям. Я хочу посоветовать ему быть мудрым, осторожным, измениться, не упустить свой второй шанс. Предупредить, что, хоть ворота тюрьмы для него и открылись, это еще не значит, что его срок закончился.
Я хочу быть сострадательной к человеку, который только что обрел свободу. Я готова помогать ему, стать той старшей сестрой, которой он никогда не разрешал мне быть. Конечно, он считал свои дни и недели, но и я считала свои, потому что думала: как только он вернется домой, начнется моя свобода. Нас у Лили станет двое, а это значит, что, может быть, я смогу заняться чем-то еще. И теперь, даже не зная, о чем именно, я целыми днями думаю и надеюсь.
Как бы не так.
Домой он приходит, как на поле боя. Окидывает взглядом дом, свою комнату, где так и лежит покрывало со сценами из «Звездных войн», которое она сохранила, и сразу понимает, сколько времени потерял. Взрывается, подобно гранате. И за все потерянное винит меня, потому что я якобы не составила ему алиби. Он орет, что я хорошо пристроилась, не работаю, зато проживаю пенсию Лили, хоть никогда по-настоящему за ней и не ухаживала, и заканчивает свою тираду оглушительным хлопком двери – за тысячу восемьсот двадцать пять дней он первый раз сам закрыл ее за собой.
* * *
Лили и Олли сидят за кухонным столом и смотрят на меня. Двое против одной.
Начинает Лили:
– Несправедливо получается! Вы с Олли теперь вдвоем за мной ухаживаете, а деньги получаешь одна ты.
– В чем дело? Он тебя несколько раз на прогулку вывез, да и то так, для прикрытия, потому что с женщиной в инвалидном кресле он меньше похож на продавца наркотиков.
– Закрой рот! – орет Олли, стуча одной рукой по столу, а пальцем другой тыча мне чуть ли не в лицо.
Этот неожиданный всплеск гнева и тревожит, и пугает меня. В его цветах я не вижу никакого предупреждения. Он прямо взрывается, и цвет этого взрыва угольно-черный, как порох. Не черный, черного в людях я боюсь, но опасно близкий.
– Ничего себе! – резко вскрикивает Лили, хватает его за руку и с силой отводит ее от моего лица, как будто он глупый маленький мальчик, а не амбал, только что вышедший из тюрьмы.
Я сглатываю слюну и чувствую, как внутри все дрожит.
– Так вот, – говорю я, глядя на Лили, не в силах уделить ему хоть какое-то внимание. – Теперь мы не можем делать вид, что ничего не происходит.
По ее лицу мне не понятно, знала ли она, для чего ее используют. Она вовсе не идиотка, но он легко может обвести вокруг пальца. Особенно ее; Олли, ее малыш, очаровывает ее за один миг.
– Я уже и так много своих денег ему отдала, чтобы он на ноги поднялся, – говорю я ей. – Но взаймы; он мне теперь должен.
– Ни черта я тебе не должен! – вопит он, с отвращением глядя на меня. – Для тебя семья что-то значит или ты как, банк здесь держишь?
– Для меня семья что значит? – стиснув зубы, переспрашиваю я его и чувствую, как внутри поднимается волна ярости.
Я смотрю на Лили, жду от нее защиты. Я очень хочу, чтобы она вмешалась. Раньше она никогда так не делала, а вот теперь мне очень этого хочется. Я осталась здесь. Я осталась. Последние пять лет я делала для нее все. Да вообще-то и раньше делала все. Какая восьмилетняя девочка собирает завтрак в школу своему пятилетнему брату? А сейчас не похоже, чтобы он был благодарен за это.
– Мы вот о чем: разреши Олли получать деньги вместо себя, а сама можешь поискать работу.
– Так я работаю. Я на попе ровно не сижу.
– Его никто не возьмет.
– А он почти и не пробовал устраиваться.
– Рот закрыла, ты!
– Олли! – ору я в ответ. – Мы с тобой, кажется, разговариваем. И ты не главарь шайки, чтобы затыкать мне рот всякий раз, когда его открываю. Так что уж разреши, я выскажусь. Я-то здесь осталась. А вы с Хью – нет…
– Хью сам решил уехать. У меня выбора не было…
– Был! Был у тебя выбор! Ты и выбрал: вломился в дом, отдубасил людей битой, обокрал. Вот что ты выбрал. Ты сам, лично. И вот за что тебя наказали. А я была здесь. Здесь!
Я, как он, шарахаю кулаком по столу и чувствую, что в руку будто вонзается стрела.
– За всем следила. Так что ты не дождешься, что я буду вокруг тебя теперь плясать. Мы сейчас говорим как взрослые люди в реальном мире, а не в тюрьме. Понимаешь?
Тишина.
В горле у меня пересохло. Меня бесит, что он вынудил меня говорить так. Но я продолжаю.
– Если я отдам Олли свои деньги, то другую работу уже не найду. Это же все официально – любой работодатель сразу увидит. Две зарплаты я получать не могу.
– Работать тебе можно, только не больше восемнадцати с половиной часов в неделю, если тебя это так уж волнует. Да что-то раньше ты не горела таким желанием.
Ух ты, а она, оказывается, изучила этот вопрос. Я выхожу из себя:
– Но у меня нет лишних восемнадцати часов в неделю. Я ухаживаю за тобой круглосуточно!
Я не могу поверить, что мне нужно объяснять ей очевидное; она что, не видит, что я все время чем-нибудь занята?
– Все часы регистрируются специальным сотрудником; информацию нужно предоставлять к сроку, точно и аккуратно. Вот так рассчитывается мое пособие. А помнишь, как я попробовала работать ночью? Ты тогда свалилась с кровати и обгадилась. Помнишь?
Олли смотрит на Лили и злорадно ухмыляется.
– Чего лыбишься? Она оставила меня одну. Надо было попробовать самой до туалета добраться, понял? – говорит Лили ему и, обращаясь ко мне, продолжает: – Можно найти место, где наличными платят. Такое, где часы не учитывают.
– И где же мне наличными будут платить? Где наркотиками торгуют?
Олли сердито пинает ножку стола. Мы пережидаем – пусть побушует.
– Уборка, – изрекает Лили. – Возьми несколько домов – и вполне прилично заработаешь. Вот Сэм получает пятнадцать евро в час, а работает два раза в неделю. И это только в одном доме. А она несколько домов в день успевает убрать.
Я смотрю то на него, то на нее. Они абсолютно серьезны, они все обсудили, все спланировали.
– Но на меня могут в суд подать, – возражаю я. – Обман государства, вот как это называется.
– Да ладно тебе тут драмы разыгрывать! Кто узнает-то? Разве что ты сама первая рассказывать побежишь. С какой стати мы будем соблюдать правила, если их никто не соблюдает?
Я смотрю на Олли и спрашиваю:
– А ты хоть представляешь себе, сколько я получаю? Двести девятнадцать евро в неделю. Только и хватает, что все счета оплатить.
– Хью присылает мне деньги, – говорит Лили, и, опустив глаза, то складывает, то расправляет край блузки, а потом смахивает воображаемую пушинку с груди. – Только она их себе забирает, – бубнит она себе под нос, опустив глаза.
– Сколько? – спрашивает Олли, и в глазах у него загораются символы евро.
– Каждую неделю по пятьдесят, – говорит она, глядя на меня, как обвинитель.
У нее не хватало духа сказать это, пока его здесь не было, когда она была совсем одна, и только я делала для нее все. И вот теперь все всплывает.
– Но это и не секрет, – отвечаю я. – Да, я беру их потому, что веду хозяйство и оплачиваю все счета. Мы договорились, что так будет удобнее.
– Я так и знал, – говорит Олли.
– И мое пособие по инвалидности ты тоже забираешь, – вставляет она. – А это, между прочим, каждую неделю почти по сотне.
Олли смотрит на меня, будто видит впервые, и спрашивает:
– Ты что, все деньги у нее тыришь?
– Так я все и трачу, Олли, можешь счета проверить. Почти все идет на коммуналку, потом тебе в тюрьму…
– Моего пособия хватает на газ и электричество, – говорит Лили, как будто хочет меня подловить.
– Ты крадешь у нее деньги, – снова начинает Олли; он даже не слушает моих доводов, воображает себе, наверное, что я здесь купаюсь в золоте. – Ты тут несколько сотен в неделю зашибаешь.
Я закатываю глаза вверх и сдаюсь.
– А почему бы Олли не податься в уборщики? – предлагаю я. – У него, между прочим, опыт работы уже пять лет.
Не успеваю я договорить, как Олли хватает меня за шею и начинает душить.
Лили орет, чтобы он перестал, бьет его по руке, толкает со всей силы, неистово визжит, как свинья на бойне. Я хватаю его за руки, пробую оторвать их от шеи, но у меня ничего не получается: сил маловато. Кажется, что это длится целую вечность, но на самом деле проходит, наверное, всего несколько секунд. А потом, ни с того ни сего, он ослабляет хватку и предупреждает:
– Поговори еще у меня…
* * *
– Двигай оттуда, – говорит Хью.
– А я и двигаю, – отвечаю я, меряя шагами розарий садов Ормсби.
Я сбежала, как только Олли отпустил мое горло. И прежде всего подумала об этом месте. Членская карта дает ощущение, что я дома, а то, что за вход нужно платить, защищает меня и от Олли, и от нее. Сейчас, правда, ноябрь, розы не цветут. Все голо, серо, обнажено до скелета, розарий похож на кладбище розовых кустов. Сейчас это место не дает подъема, который мне нужен, я снова ощущаю панику, стеснение в груди. В горле дерет от крика, шея ноет от хватки.
– Я тебе говорю: двигай из этого дома как можно скорее. Собирай вещички и двигай.
– Тогда получится, что я оставлю ее на него, – отвечаю я. – Думаешь, он будет ее мыть, одевать, кормить? Да он понятия ни о чем этом не имеет, Хью. Она даже до мойки не может дотянуться, чаю не может себе сделать.
– Если она захотела, чтобы он получал деньги за уход, то добьется своего. Как только они смеют?
Он сердится так, что из телефона, кажется, идет пар.
– Как он смеет руку на тебя поднимать! Нет, давай, собирай вещи – и вперед!
Я слышу, как По спрашивает, в чем дело.
– Олли с маманей. А ты думала, что? – резко бросает он в ответ.
Но он не грубит ей; это гнев на то, что не дает ему покоя. Могу поспорить, что ему очень хочется избавиться от нас всех. Могу поспорить, что тогда жизнь его стала бы намного легче. Я представляю себе, как, лежа в постели, они ругают нас последними словами; мы отравляем ему все.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































