Текст книги "Возвращение к себе"
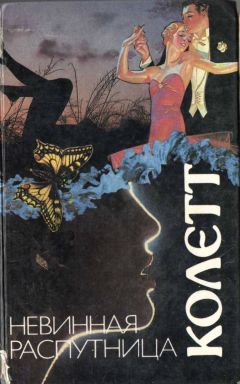
Автор книги: Сидони-Габриель Колетт
Жанр: Исторические любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
– Лично я первым делом помчалась бы к администратору и всё выяснила.
– Я так и сделала, – клюёт Анни.
– Наверное, у него было красивое испанское многоэтажное имя с буквой «и» в качестве переходиков.
– Вовсе нет! – рассерженно восклицает Анни. – Его звали Мартен.
– Даже до Мартинеса не дотянул? Уж мог бы расстараться, ну хотя бы для вас!
Она наклоняет голову, но я всё же успеваю заметить её улыбку – улыбку той, незнакомой Анни.
– Он так много сделал для меня… – в её голосе звучит что-то похожее на нежность.
– А что было дальше, Анни, на следующую ночь?
– На следующую ночь?
Она смотрит на меня открытым, ясным взором и гордо изрекает:
– На следующую ночь я собрала вещички и отбыла в Нюрнберг.
– Но зачем?.. Ну что за глупость!..
– Я испугалась, – шепчет чуть слышно Анни, опустив ресницы… – Испугалась, что всё начнётся сначала, что я стану ежедневной добычей мужчины, испугалась за свою свободу, ещё совсем слабенькую и такую неловкую свободу!.. А потом, знаете, Клодина, тот парень, ну в общем, мне кажется, это он украл мою розовую жемчужину…
Что тут скажешь? Бедная Анни… приключение оказалось банальным, а если б не кончилось так быстро, стало бы ещё и унизительным…
Анни молчит; что она, интересно, видит? Может, рисунок на ковре, кресло снизу, чёрную косу, свисающую с её запрокинутой головы…
– Анни!.. Анни!..
– А? – Она даже вздрагивает.
– Давайте дальше!.. часть вторая… с кем ещё свёл вас чудесный случай?
– Пить хочу, – вздыхает Анни.
– Успеете, напьётесь. Сначала расскажите. Не могу же я в самом деле позвать сейчас Огюстину, чтобы она увидела вас вот такой – глаза горят страстью, голова растрёпана, – уж и не знаю, что она подумает…
Она покорно уступает моей просьбе, как уступила вожделению незнакомца.
– Потом долго ничего не было, Клодина. Я сбежала от него так же, как сбежала от Алена, тогда я вообще страшно боялась за свою свободу, так что первые несколько дней радовалась избавлению от него и, как мне казалось, от себя самой. Вот тут-то и начался весь ужас, Клодина! Пришли сожаления, острые до боли, невыносимые и наивно отчаянные… Не понимаете, почему я считаю своё отчаяние наивным? Да потому что я, словно глупенькая гимназистка, поверила в исключительную власть незнакомца над собой! Вообразила, исходя слезами, что само Провидение швырнуло меня голую, послушную под ноги этому мужчине, что он создан специально для меня, что он моя вторая половина, что мы подходим друг другу, как розетка с вилкой…
В тот день, когда я получила по телеграфу ответ из Бада – да, я послала туда запрос: «Господин Мартен выбыл неизвестном направлении», в тот день.
Клодина, я уже рыдала в голос, ломала руки и молилась всему, на что только падал взгляд! То собиралась умереть, то нанять частных агентов для его розыска, то надышаться эфира… пока…
– Пока что, дорогая?
С облегчением вздохнув, словно добравшись после долгого плавания до суши, Анни кладёт голову мне на плечо.
– Пока не обнаружила, что другой мужчина – даже не один, а многие – могут дать мне то, что я в своём полуневедении считала потерянным навсегда…
К чему эти перифразы!.. Я убираю со своего плеча голову Анни, чтобы лучше её видеть. Ресницы опущены, на устах играет улыбка блаженства, как у девы, узревшей ангелов перед смертью… Но она уже снова заговорила, да с такой рвущейся из души трогательной благодарностью – «всем, всем спасибо», что я и сама разволновалась…
– В тот самый день, Клодина, я наконец поняла, что такое жизнь!.. Это сад, где позволено рвать плоды, есть их или не есть, бросать всё и начинать снова… Менять – не значит изменять, поскольку на самом деле я люблю лишь себя самоё и лишь для себя желаю наслаждения… Клодина! У меня раскрылись глаза, с каким спокойствием я стала глядеть на мужчину, любого мужчину, с тех пор как мальчик, который был вторым…
– Что за мальчик?
– Швейцар из гостиницы в Карлсбаде. Вы бывали в Карлсбаде? Это там евреи до сих пор одеваются по-еврейски: широкий плащ топорщится от грязи, длинные, как у Христа, волосы вьются кольцами, и маленький ночной горшок на голове. А австрийцы плюются, когда проходят мимо них…
– Да ну их… Лучше про швейцара…
– Чудесный мальчик! – с неосознанной развязностью подхватывает Анни. – Знаете, их ведь специально отбирают. Изящный такой австриец, беленький, щепетильный – прямо идеальный слуга…
Сейчас говорит незнакомая Анни – её описание точно, бесстыдно – и улыбается с видом знатока, словно смакует воспоминания. Лихорадка открытий красит мои щёки!..
– …идеальный слуга, я вам говорю! Вечно переживал, что я в чём-нибудь нуждаюсь или мне недостаточно хорошо. Он заносил мне почту, утром и вечером, розовенькая такая мордашка. А однажды вечером он, держа форменную фуражку в руке, уважительно сообщил мне, что его на два дня заменит на этаже приятель Ганс…
Она заливается смехом и падает на мои колени, она смеётся отрывисто и нервно, словно кашляет. Эге! Слишком уж долго она смеётся! Уж не истерика ли у нас?.. Нет… К счастью, прекратилось. Зовут обедать!..
Излияния – да что я говорю? – извержения Анни ошеломили меня. Мне так хотелось заглянуть «в глубины её загадочной души», вот она их и разверзла, эти глубины, как сказал бы Можи, и я в изнеможении зажмурилась! Моё отношение к Анни изменилось как-то помимо моей воли: теперь я испытываю к ней больше уважения, но она мне уже не так интересна. Я понимаю: Анни кинулась в признания очертя голову, и ей сразу стало легче, но всё же немного сержусь на неё – могла бы чуть-чуть потянуть, не выдавать так быстро все свои тайны. Или даже не за это – мне жаль, что в её откровениях нет ничего необычного, выдающегося, не похожего на секреты тысяч других женщин… Как же я винила её мужа! Трудно даже представить себе, что может случиться с женщиной, если первым мужчиной в её жизни оказался дурак… Какой-то там мелкий служка Небесного Царства, в чьём ведении находится грязная работёнка по ведомству Любви, уберёг Анни от «дурных болезней», как говаривала старушка Мели, за что ему большое спасибо. Отвага моей подруги сравнима только с её неведением: Брие[1]1
Эжен Брие (1858–1932) – французский драматург, стремившийся создать «полезный» театр, освещая в мелодрамах социальные проблемы. (Здесь и далее примечания переводчиков.)
[Закрыть] не добрался ещё до чистых душ…
Любимый уверяет меня в письме, что чувствует себя хорошо:
«…Большая открытая солнечная веранда с постелями для отдыха, твой старый муж лежит запелёнутый в одеяла, горы сверкают, как слюдяные, воздух так прозрачен, что сначала каждый звук режет ухо, но потом влюбляешься в его чистоту… солнце тут обманчиво и лишено жара, оно холодное и золотистое, будто вино с горных склонов…»
Как грустно сознавать, что он всего лишь один из пациентов, такой же, как другие больные! Что за гордыня меня обуяла? И почему все дорогие моему сердцу люди должны быть особенными? Стоит им встать в один ряд с остальными, как я начинаю сердиться и на них, и на себя. И потом, мне так тяжело сохранять непринуждённость, когда я пишу Рено!.. Увы, легко мне только любить его! Слишком долго я жила рядом с ним, вместе с ним, внутри него, письма выходят неловкими, прохладными или жеманными, похожими на воспитанницу пансиона, что всё ломается и никак не садится играть вальс-каприс… Слышит хоть он меня за этими строчками или нет? Догадывается ли, как я натянута, хмура, зла? Я всегда такая, когда особенно люблю его. Его отсутствие, мой переезд в Казамену отстранили меня от нашего прошлого, и я чувствую себя одинокой, хоть Анни всегда рядом, страшно одинокой…
Не знаю, есть ли вообще на свете женщина более одинокая, чем я, несмотря на Рено, из-за Рено? Или, может быть, это обычный, вполне естественный удел всякого, кто отдал себя без остатка, раз и навсегда?
Женская дружба мне неведома – Анни не больше чем милая приятельница… Одно лишь воспоминание, скверное и сладкое, жжёт нас обоих, один розово-чёрный цветок в кровь ранит нас шипами: Рези… Ни Рено, ни я, мы никогда больше не вспоминаем о ней. В душе каждого из нас остался страх, стыд, глухая ревность, тщеславие от того, что он заставил страдать другого, и тайное удовлетворение от точно нанесённого и удачно отпарированного удара… Так чего же ещё? Какое дело мне до тех, кто зовёт меня своей подругой? Рено нет рядом, остаётся замкнуться в себе, и я скрываюсь в собственном сердце, чувствуя себя от этого ещё более одинокой: его пронизали глубокие корни деревьев, оно поросло густой остролистой травой – то вдруг выскользнет из неё уж, живой и подвижный, словно только что появившееся на свет, не успевшее расправить усики насекомое, – кожа переливается, как ручеёк между корней, – то вдруг забьёт родник, пшеница выбросит колосок или дикая роза – бутон…
Сумею ли я, когда исчезнет смысл жизни по имени Рено, сумею ли найти опору в себе самой, смогу ли сделать одиночество – оно всегда действовало на меня как тонизирующее, пьянящее и опасное зелье – той горькой и сбрасывающей груз лет силой, которая сохранит мою почерневшую и помертвевшую душу?
Я родилась в одиночестве, росла без матери, без братьев и сестёр, со взбалмошным отцом – мне ещё и самой приходилось за ним присматривать, – и никогда не имела друзей. Может быть, эта нравственная изоляция и сделала меня такой: в меру весела, в меру грустна, вспыхиваю от ерунды и так же мгновенно гасну, не добра, не зла, в общем-то, необщительна, ближе к животным, чем к людям?.. Отвага – о да! Физическая отвага у меня есть – умение ничего не бояться, – спокойная уверенность в том, что нервы меня не подведут, что я совладаю с чувствами. Честность… пожалуй – только рядится она продажной девкой. Жалость – только не к несчастным созданиям вроде меня – они часто сами выбирают страдания, да и вообще, разве можно кого-то жалеть, когда ты влюблена?.. «Влюблена» – что за жалкое слово для такого чувства!.. «Пропитана насквозь» – вот это уже ближе… Да, именно пропитана насквозь, от поверхности тела до глубины души, любовь так бесповоротно проникла в каждую мою клетку, что, окрась она мне кожу и волосы в другой цвет, я бы не удивилась.
Что за чудо здешние звери – старый приятель Тоби-Пёс и недавно объявившаяся царица Перонель.
С Тоби мы знакомы сто лет, глубокое знание человеческой натуры подсказывает ему, что настоящая хозяйка здесь я: Анни он рассматривает как бесплатное приложение. В свои пять лет он сохранил в душе детскую наивность, для него всё чисто, даже ложь. Сердце бульдога-сердечника каждую минуту готово разорваться, однако не рвётся. Тоби таинственно вздыхает, как его названая сестрица жаба, с таким же сплюснутым носом, с такими же красивыми глазами, а когда летит запыхавшись, в мыле, на своих «кривульках», перепачканных пылью, всегда предусмотрительно сделает крюк, если заметит на дорожке вооружённого святошу богомола!
Перонель, напротив, чужда всякого страха. В дом она попала на излечение – Анни нашла её в траве умирающей от голода, шуба у неё скромного серого цвета, но отменного качества короткий, как бархат, шелковистый ворс тает под рукой и отливает на солнце серебром. Ничего общего с расфуфыренными сомнительными иностранцами, к примеру с пёстрыми, как попугаи, португалками. Две чёрные полоски вокруг шеи, по три браслета на передних лапах, крепкий хвост, изысканная форма головы и удивительной красоты изумрудные глаза – они смотрят на вас в упор, нахально и ласково, уголки приподняты и словно подведены; если Перонель рассердится, её не заставит отступить ни сам Бог-Отец, ни даже я. Она мурлычет, лижется, кусается, выпускает когти, и весь дом пляшет под её дудку. Как-то недавно Анни сказала про неё:
– Перонель похожа на мою золовку Марту, только симпатичней.
Перонель непоседлива и шумна, Казамена всегда наполнена её голубиным воркованием или пронзительным мяуканьем. Когда загораются лампы, она шалеет от восторга, рвёт газеты, таскает клубки, потом, видно, напяливает незримые сапоги-скороходы и принимается по-жеребячьи носиться галопом по комнате, прыгает на стол и тут же становится кроткой, как овечка, трётся крепким лбом о наши подбородки, лижет щёку Анни шершавым, как зубная щётка, языком, а моей головой пользуется как ступенькой, чтобы запрыгнуть на камин.
Она любит меня, а я не могу забыть свою Фаншетту… у белоснежной бедняжки Фаншетты была чудесная душа современной провинциалки, ко всему на свете она относилась исключительно добросовестно! Спала богатырским сном, любила погулять, ела с аппетитом, добычу могла выслеживать часами. И всего-то ничего – подумаешь, куриная косточка, может, чуть острее других, – а хватило: золотисто-зелёные глаза налились кровью, когти беспомощно царапнули воздух, разодрали белое раздувшееся, как у голубя, горло – и Фаншетты не стало!.. В прошлом остались папа, Фаншетта и Мели – я обогнала их и пошла дальше, правда, ушла не слишком далеко…
Незадолго до того, как оставить меня. Мели вдруг резко сдала, на неё, как на святую Литвинну, навалились все мыслимые и немыслимые хвори: спину согнул ревматизм, ноги отекли, она оглохла, ослепла, что-то там ещё, так что, узнав о её смерти, все с облегчением вздохнули: «Отмучилась!»
Мой великолепный батюшка, мой отец с трёхцветной бородой, окончил дни свои среди книг, бах!.. и клюнул носом, может, по рассеянности – ему ничего не стоило забыть пообедать или завязать галстук. Мне трудно было смириться с его смертью, ещё несколько дней его красивый, так звучно ругавшийся голос эхом разносился по дому, и я всё бродила из помещения в помещение, как та упрямая собака – знает, что хозяин уехал, но всё же проверяет, открывая мордой двери, каждую комнату: «Здесь нет. Может быть, в соседней? Тоже нет. Тогда, наверное, он вошёл в ту, первую, пока я искала в этой. Надо посмотреть ещё раз…»
Одно за другим приходят письма от Рено, а дни всё короче и короче. Мой дорогой в конце концов приобрёл трогательную привычку всех больных, которым обеспечен заботливый уход, проявлять запоздало повышенное внимание к своим внутренним органам: они вдруг открывают для себя, что у них есть печень, желудок, и увлекаются определениями, которые абсолютно ни о чём не говорят. В письмах то и дело проскальзывают специальные термины, теперь уже он употребляет их без всякой иронии, даже с некоторым пафосом, свойственным обычно студентам-медикам. Самым тревожным событием стало для него ежедневное взвешивание, а имя некоего Кушру, неврастеника с редким диагнозом, санаторской знаменитости, на четырёх страницах встречается трижды… Нет, не такая уж я злая, но всё же… оставили бы нас наедине с этим самым Кушру минут на пятнадцать – он бы у меня узнал, как лечится острая неврастения!..
Пришло письмо – очень смешное – от Марселя. Клянчит, как всегда, но на этот раз так много, что я даже не сержусь. Три тысячи франков! Видно, мальчик ударился головкой. Три тысячи – за что? За физиономию притомившейся девки? Сто франков в зубы, пять-шесть любезно-ироничных строчек – и моя совесть мачехи снова спокойна.
Анни снова молчит: кажется, она уже стесняется своего вчерашнего приступа откровенности. Она бесшумно бродит вокруг меня с сокрушённым видом, как кошка, разбившая вазу…
Сегодня утром я увидела её, зябкую со сна, на крыльце с расходившимися ступенями – они качаются под ногами, как плохо положенные камни, по которым переходят вброд ручей… Только что пробило семь, я выбралась из лабиринта: вся мокрая от росы, из носа течёт, пальцы окоченели, на руке корзинка. Октябрьское утро опьяняюще пахло туманом, дымком костра и палым листом. Френуа посуровел: сквозь траву сильнее стали выпирать голые валуны, он порыжел от солнца и холодов… Ржавый рассвет поднял меня с постели и потащил к осиному гнезду – я давно наблюдала за тем, как осы впадают в оцепенение…
– Хотите орешек, Анни?
Из голубого, как её глаза, пеньюара выныривает рука… Коса висит вдоль спины, от холода и призрачного утреннего света она стала ещё больше похожа на больного арабчонка… Я отвожу её руку:
– Глупая, вы хоть сначала посмотрите, что берёте!
Она непонимающе склоняется над плетёнкой, в которой кишит что-то зернистое, жёлто-чёрное, с перламутровым отливом… Я набрала полную корзину этой осиной массы с отвратительным запахом воска и принесла, чтобы сжечь в печке… Анни смотрит спокойно, хоть и с опаской, и прячет руки за спину…
– Зачем вы так рано вскочили, детка?
Она поднимает тяжёлые веки с густыми ресницами – они припухли то ли со сна, то ли от бессонницы.
– Принесли телеграмму, Клодина, а вас в спальне не оказалось. Вот я и пошла вас искать…
– Телеграмму?..
Рено? Что с ним? Да что же! Проклятый синий листок не хочет разворачиваться!.. Я склоняюсь над несколькими строчками без запятых и точек, как только что Анни над корзиной с осами…
Анни бьёт озноб от холода и от волнения.
– Что там? Клодина, говорите!
Я с дурацким видом протягиваю ей телеграмму:
«Можно мне приехать? Я совсем потерял голову. Марсель».
Моё облегчение прорывается наружу возмущёнными насмешками.
– Это уж слишком! Нет, вы только подумайте! Был бы тут его отец! Ну погоди, сейчас я тебе отвечу – коротко и ясно!
Анни – сама осторожность или само безразличие – молчит, я яростно ворошу ореховым прутом мёртвых ос…
– Что вы собираетесь делать, Клодина? – спрашивает она наконец.
– Сообщу Рено, чёрт возьми!.. То есть…
Нет, Рено трогать нельзя, можно нарушить тонкую скорлупку его покоя, вызвать обострение, замедлить выздоровление, отдалить, пусть хоть на час, тот миг, когда он примет меня, ослабевшую в одночасье, в свои опять молодые объятья…
– Анни, скажите сами, ну что мне делать?
Она напускает на себя понимающий вид и даёт совет на все случаи жизни:
– Дорогая, пусть приедет, а там будет видно…
Я всё никак не успокоюсь. Марсель явится сюда! В Париже я ещё как-то могу его переносить, я снисходительна к его порокам, хитрости и несвойственной мужчинам мелочности. По сути, с тех пор как я знаю Марселя, он всё тот же: его жизнь подвержена периодическим изменениям – я бы сравнила их с фазами луны, – он то взвинчен, то подавлен, но приходит срок, и он снова становится самим собой. Для нас с Рено Марсель – восемнадцатилетний мальчишка с дурными наклонностями, а между тем, если я не разучилась считать, на следующий год и ему, и мне стукнет двадцать семь!.. Жизнь его весьма однообразна, как у какого-нибудь маньяка, чиновника или уличной девки – впрочем, на девку он больше похож. Зевнёт, вяло и раздражённо, втянув живот и раскинув руки, и простонет: «Ужас, какая скука! Никого на сегодня нет». От него часто можно услышать, что в таком-то мюзик-холле самый «выигрышный» зал, или что «шикарный англичанин в этом сезоне не выступает», или «такой-то, мальчик что надо, стал крутить динамо». Он часами талдычил мне про ужасные методики, применяемые в Институте косметики: «Меньше чем с двумя луидорами, дорогая моя, туда и соваться нечего, а кремы просто убийственны для кожи». Он будет до бесконечности рассказывать вам про отвар айвы, чистый ланолин, с увлечением беседовать о софийской воде, растворе росного ладана или розовой воде, он пьёт только простоквашу и регулярно делает массаж нижних век. Затерзает вопросами Каллиопа ван Лангендонка, допытываясь у бесподобного красавца, «что хорошо для кожи», «что плохо для кожи»… Потом вдруг пропадёт недели на три, вернётся опустошённый, бледно-розовый, как вьюнок, лихорадочно-возбуждённый – говорить толком не может, едва отвечает на вопросы. Бросит мне на лету одну-две фразы на понятном лишь нам языке, не в силах скрывать правду и не стесняясь её: «Не мальчик, а чудо, Клодина! Чистенький воспитанник пансиона… Его держат взаперти в Шато-До…»
Рено, выросший в другое время, когда к таким людям относились менее снисходительно, а сами они вели себя не так бесстыдно, не может привыкнуть к выходкам сына. И действует непоследовательно. То жалеет Марселя как «больного», то в ярости кричит на него, угрожает отхлестать по щекам, засадить в колонию, ну и всё в том же духе… «Малыш», как я его называю, выслушивает отца молча, только недобро поглядывает на него. И тут между ними встреваю я – не столько в надежде что-то уладить, сколько из желания тишины и покоя, – и, представьте себе, мой безумный пасынок иногда проявляет благодарность. Не к отцу, а ко мне он обращается нежнейшим голоском: «Знаете, Клодина, у меня в карманах совсем пусто…» Устав повторять: «Они у вас, должно быть, дырявые», я выдаю ему луидор, он тут же прячет его и, прикладываясь к моей руке, облегчённо вздыхает: «Вы просто прелесть, Клодина! Ей-же-ей! Не будь вы женщиной…»
Да, но это в Париже… А здесь – видеть рядом сомнительных нравов бездельника, пусть даже не дольше недели, слушать его звонкий смех, чувствовать, как он умирает от скуки рядом со мной и Анни… о, нет! нет, нет и нет! Я готова отдать пятьдесят луидоров, только не это! Пусть убирается и не тревожит тёплой горечи моего одиночества, не оскверняет «моей Казамены»: моего убежища, где порыжевшую, благоухающую самшитом землю захватил дикий виноградник – она лежит на голубой мягкой вате гор как неогранённый драгоценный камень. Неосторожное обещание Анни: «Казамена будет вашей» – проникло в самую глубь моей весьма приземлённой души. Неужели правда этот островок с лабиринтом, крохотным мраморным фронтоном, зарослями багрянника и мошника, эта драгоценность, вышедшая из моды, как брошки с миниатюрным портретом, будет принадлежать мне? Потом, когда Рено снова окажется рядом, я дам волю своему фермерскому инстинкту, доставшемуся мне от предков из Пюизэ – крестьян, ревностно следивших за своим добром.
Уже теперь, когда мне становится тяжело думать о Рено, считать дни, представлять его пополневшие щёки, совсем поседевшие усы (он этим по-детски огорчён), вспоминать, как его левая праздная ладонь раскрывается в расточительном жесте, а правая сжимает несуществующее перо, когда мой нахмуренный до боли лоб устаёт от размышлений, – я обращаюсь мыслями к Казамене, новой своей игрушке. Теперь я не могу с прежним безразличием видеть упавший побег виноградной лозы. Обязательно подвяжу его скрученными стеблями тростника, потом приподниму пышную листву розового куста, озабоченно рассматривая почки будущего года. То ковырну жирную землю, то сломаю сочную травинку, и всё это с мыслью, достойной первого человека, отвоевавшего себе прибежище: «Вот эта трава – моя, и жирная земля под ней – тоже, и тот пласт, где копошатся черви, и извилистые ходы крота, и та твердь под ними, что никогда не видела света, – тоже моя; если я захочу, то завладею чёрными подземными водами и первой выпью глоток с запахом песчаника и ржавчины…»
Монтиньи? Ну что ж! Монтиньи от этого не менее дорог моему сердцу. Дом в Монтиньи остаётся тем, чем был для меня всегда: реликвией, норкой, цитаделью, музеем моей юности… Как жаль, что я не могу обнести его вместе с зелёным, как трава у колодца, садом, высоченной стеной, оградившей бы его от чужих взглядов! Моя стыдливая любовь к Монтиньи делает его подобным миражу, только обманывает этот мираж меня одну! Так мэтр Френгофе прятал своё уродливое творение от неразумного и неглубокого человеческого взгляда.
Что скажут мне Анни, и Марта Пайе, и Каллиоп ван Лангендонк, и толстый Можи, если я покажу им свой Монтиньи? Они скажут: «Ну и что особенного? Дом как дом».
Нет, это не просто старый дом, неразумные вы мои! Это дом в Монтиньи. Когда я умру, ему тоже придёт конец… Мой взгляд, прежде чем потухнуть навсегда, поднимется к его фиолетовой черепичной крыше, раскрашенной жёлтым лишайником, и по этому знаку зелень сада, без единого цветного пятна, растворится в призрачном тумане, задрожит сумрачный гребень в радуге семицветного спектра, и мы застынем на секунду, дом и я, между тем миром и этим…
«Оседлая моя бродяжка!..»
Дорогой мой, дорогой, я словно наяву слышу твой голос. Мне и стыдно, и печально. Разве не о нём должны быть все мои мысли? А впрочем, они и не могут быть не о нём, ведь это мои мысли, а я привязана к нему, как корневой побег к розе: вот он убегает под землёй далеко-далеко от материнского куста и только потом выбрасывает на поверхность свой первый росток, нежный, гладкий, розово-коричневый, как дождевой червяк…
Видно, недосветившее в августе солнце принялось вдруг сегодня нас жарить – разморило, одурманило. А ещё вчера утром были заморозки. Анни молчит, она сидит рядом со мной на земле, привалившись спиной к вековой вишне – у неё такой толстый ствол, что нам обеим хватает места. Закрыв глаза, она подставила лицо лучам, пассивная, неподвижная, но больше ей меня не обмануть… Наверняка именно так она подставляет губы поцелуям мужчин, равным в её глазах богам!
Она ушла в себя, ей безразлично, что на один день вернулось лето, я же впитываю каждый его час, заботливо укладываю каждый его голубой отблеск в гербарий своей памяти. Рено, любимый! Неужели в этот миг воздух вокруг вас золотится от мороза и оседает на ваших длинных усах крошечными жемчужинками, переливающимися от дыхания? Мне неприятно думать об этом, меня это ранит: сегодня мы с вами дальше друг от друга, чем обычно!..
В почти раскалённом воздухе листья плакучей акации – чахлого, старого дерева с коротким стволом, тянущего во все стороны, словно руки, корявые ветви, – падают один за другим редким дождём, медленно кружатся и ложатся на землю. Осень обесцветила их, они стали почти белыми, как зеленоватая слоновая кость…
Всё ближе, ближе голубиное воркование, торопливое, перекатывающееся. Это Перонель обнаружила нас под вишней и спешит сообщить сногсшибательную новость: для неё настала пора любви! Мы воспринимаем известие гораздо прохладнее, чем она рассчитывала. Месяца не случается, чтобы Перонель не приходила в охоту, а котов в округе не водится.
Бесстыдная и весёлая, она на наших глазах предаётся древним кошачьим танцам, соблюдая каждое движение обряда. Она очаровательна: полосатая, как змея, на рыжем животе четыре ряда чёрных точек – бархатные пуговицы, на которые застёгивается её безукоризненного вкуса шубка…
Трижды она вытягивает шею и с тревогой в глазах отчётливо по слогам вопит: «Ми-я-у». За священным призывом следует менее выразительное и труднообъяснимое птичье щебетанье. Далее танцевальный номер из вращений: раз – перекатилась налево, два – направо и выгнулась дугой, точь-в-точь буйный помешанный в Сальпетриере.[2]2
Сальпетриер – комплекс средневековых зданий в Париже, где со времён Людовика XIV располагался приют для бездомных всех категорий, в том числе и дом для умалишённых.
[Закрыть]
Снова на ногах, она вглядывается в окрестности и, раздув горло, издаёт мычание, такое низкое, чудовищно громкое, несуразное, что Анни открывает глаза и улыбается…
Антракт: священная пляска… Но кота что-то не видно, а солнце греет так ласково, словно вернулось лето, листья акаций падают так соблазнительно медленно, что Перонель вскакивает, хвост трубой, комкает конец ритуала, на секунду застывает, пристально глядя на нас огромными, во всю морду, глазами бешеной козы, и бросается вдогонку за летящим мимо семечком чертополоха… Прыжки её точны и стремительны, она увлеклась игрой, очень быстро вошла в раж, и теперь то и дело раздаётся её короткий, отрывистый кошачий зов: «Мяв! мяв!..»
– Анни…
– Да… что такое?
– Скажи, Перонель… со своим танцем любви, извиваниями баядерки… никого тебе не напоминает?
Она добросовестно обдумывает ответ, сунув смуглые ручки в карманы маленького фартука домохозяйки-чистюли. Низкий тяжёлый узел волос натягивает лоб, выгибая брови дугой, и от этого она ещё больше становится похожа на Золушку-мещанку – невыносимо трогательно.
– Не притворяйтесь, Анни! Я хорошо представляю себе, как вы лежали, воркуя, поперёк чужой кровати в отеле, точно так же втянув живот…
Самые избитые приёмы действуют, как правило, безотказно! Анни попалась на удочку.
– Нет, Клодина, что вы! Разве я так шумела! Само целомудрие! и жест, стирающий греховную картину! Если бы в тот вечер я не слышала собственными ушами рассказ Анни, ей удалось бы меня обмануть. Нет уж, пусть говорит! Пусть говорит! Это единственное развлечение, хоть и с привкусом вины, которое она может мне предоставить.
– Так вы что же, и в момент экстаза тоже были немы?
Она поворачивается ко мне, ей не по себе:
– Клодина, как вы можете среди бела дня, при ярком солнце спокойно обсуждать… это!
– Ну да, гораздо естественней этим заниматься! Она поднимает и прикусывает веточку вишни ушедшего лета, скелетик ягоды с так и присохшей косточкой. Она размышляет, нахмурив китайские ниточки бровей. Она по обыкновению сосредоточена и старательна…
– Да, – признаёт она наконец. – И естественней, и проще…
Да, с ней не заскучаешь. Чтобы лучше видеть Анни, я взмахом головы – привычным, как тик, – отбрасываю со лба короткую чёлку. Погода так чудесна, что поневоле загрустишь, я чувствую тепло земли, на которой сижу. Солнце изменило цвет, небо за соснами стало розовым, как большая банка варенья. Перонель утомилась и задремала, а бдительный без пользы Тоби-Пёс неустанно роет кроличью нору: этого занятия ему хватит на полчаса…
– Объяснитесь, Анни!
– Это не слишком удобно, Клодина. Если есть в мире дорогой мне человек, то это вы… И я бы не хотела пасть слишком низко в ваших глазах… Когда ещё я появлялась на людях, все они – Марта, мой зять, Можи, мой муж – считали меня глупой. А я не глупа, Клодина, хотя и бестолкова. Но это не одно и то же. Простофиля – так, пожалуй, будет точнее. Мне тяжело что-то делать и даже что-то говорить – такая я вялая. Но не пустая, Клодина. Я думаю, живу, особенно после… в общем… после…
– После Баден-Бадена, наверное? Очень тонко сказал об этом Мишель Провен: «Женщина не виновата в том, что она испытывает…»
– А я теперь точно знаю, что та женщина беззащитней, сдаётся быстрее и легче остальных, которая скромнее прочих, молчаливее, она не будет флиртовать, потираясь плечом или коленом о плечо или ногу мужчины, она меньше всех думает о грехе, понимаете! Она прячет глаза, отвечает лишь на вопросы, а ноги держит под стулом. Ей даже в голову не приходит, что что-то может произойти… Но стоит мужчине положить ей ладонь на лоб, чтобы запрокинуть лицо и рассмотреть получше цвет глаз, она пропала. Она сдаётся от незнания своей собственной природы, от страха, нежелания казаться смешной – да, Клодина! – и ещё потому, что торопится покончить с этим, чтобы не нужно было больше сопротивляться, ей кажется, что, уступив, она быстрее вернёт себе покой и одиночество… Да только не получается – вкусив греха, она вдруг обретает цель и смысл жизни, и тогда… Анни замолкает: дыхание её прерывисто, движение век, хотя она, вероятно, и не сознаёт этого, выглядит театрально, ресницы быстро опускаются, пряча взгляд, и я без труда представляю себе, как великолепно должно быть её лицо в наслаждении, какое у него целомудренное и собранное выражение, как она сводит, словно для молитвы, плечи… Боже, и она бросает такое чудо под ноги сладострастным боровам!
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































