Текст книги "Киногид извращенца. Кино, философия, идеология"
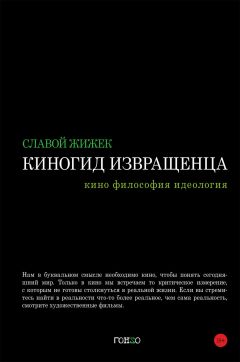
Автор книги: Славой Жижек
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Объяснение, предложенное самим Хичкоком в беседах с Трюффо, как обычно, обманчиво в самой своей обезоруживающей убедительности; Хичкок приводит две причины, по которым он включил этот «взгляд с точки зрения Бога»: 1) он делает сцену прозрачной и тем самым помогает режиссеру сохранить в тайне идентичность «Матери», не вызывая подозрения, что он обманывает или что-то скрывает; 2) он вводит контраст между безмятежным, неподвижным «взглядом с точки зрения Бога» и следующим кадром, динамично показывающим падение Арбогаста с лестницы[104]104
Изд. на рус. яз.: Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. М., 1996. С. 161. – Примеч. ред.
[Закрыть].
Чего не удается объяснить Хичкоку, так это raison d’être быстрой смены кадра «нормального» вида Арбогаста на нижнем уровне взглядом на нижний план сверху – то есть на включение «точки зрения Бога» (или во втором случае – raison d’être продолжительной и непрерывной съемки с движения от пытливого взгляда на нижний план до «взгляда с точки зрения Бога»). Быстрая смена следующего за этим кадра с убийством Арбогаста отличается еще большей одиозностью: она переносит нас с уровня реальности (то есть с точки зрения чистого метаязыка, делающего прозрачным нижний план реальности) в Реальное, в «пятно», выходящее за рамки реальности: пока мы наблюдаем сцену «с точки зрения Бога», «пятно» (смертоносная Вещь) входит в кадр, и уже следующий кадр показывает точку зрения этого пятна. Эта быстрая смена кадра по направлению к субъективной точке зрения самого (самой?) убийцы – к невозможному взгляду Вещи, только что появившейся в визуальном поле реальности, – превращает, выражаясь гегельянским языком, рефлексию-в-себя объективного взгляда во взгляд самого объекта, – как таковая, быстрая смена кадра обозначает здесь точный момент перехода к извращению.
Внутреннее развертывание всей сцены убийства Арбогаста отражает траекторию перехода «Психо» от истерии к извращению[105]105
См.: Bellour R. Psychosis, Neurosis, Perversion // A Hitchcock Reader / ed. M. Deutelbaum, L. Poague. P. 311–331.
[Закрыть]: истерия определяется отождествлением желания субъекта с желанием другого (в данном случае желания зрителя с пытливым желанием Арбогаста как диегетической личности), тогда как извращение предполагает отождествление с «невозможным» взглядом самого объекта-Вещи – когда нож режет лицо Арбогаста, мы видим сцену глазами той самой «невозможной» смертоносной Вещи[106]106
По поводу мистического отношения Якоба Беме к Богу как Вещи Лакан говорит: «Перепутать его созерцательный взгляд со взглядом, каким на него смотрит Бог, означает, разумеется, стать сопричастным извращенному jouissance» (Lacan J. God and the Jouissance of the Women // Feminine Sexuality: Jacques Lacan and the École Freudienne. New York: Norton, 1982. P. 147).
[Закрыть]. Говоря языком лакановских матем, мы совершаем переход от $ <> а к a <> $ – от субъекта, тревожно вглядывающегося в пространство перед собой в поисках следов того, что «больше, чем может вместить глаз», – в поисках таинственной Вещи, напоминающей мать, – к взгляду самой Вещи на субъекта[107]107
Этот извращенный взгляд Вещи впервые появляется в «Критике практического разума» у Канта; в последнем абзаце первой части ставится вопрос, отчего Бог сотворил мир таким образом, что высшее благо непознаваемо для нас, конечных людей, так что мы даже не в силах когда-либо с полнотой представить его себе? Единственный способ избежать гипотезы о злом Боге, который создал мир с явным намерением досадить человечеству, состоит в том, чтобы сделать непостижимость Вещи (в данном случае Бога) позитивным условием нашей этической деятельности: если бы Бог как Вещь должен был раскрыть Себя нам немедленно, наша деятельность больше не могла бы быть этической, поскольку мы делали бы Добро не в силу самого нравственного Закона, а из-за нашего непосредственного знания природы Бога, т. е. из-за непосредственной уверенности в том, что Зло будет наказано. Парадокс этого объяснения состоит в том, что, по крайней мере на мгновение, Кант вынужден совершить нечто в других случаях в его «критической философии» строго запрещенное – переход $ <> а к a <> $ – и взглянуть на мир глазами Вещи (Бога): вся его аргументация предполагает, что мы находимся внутри рассуждения Бога.
[Закрыть].
Поэтому объяснение Хичкока, согласно которому задача «взгляда с точки зрения Бога» заключается в том, чтобы держать нас, зрителей, в неведении (относительно идентичности матери), не вызывая подозрения в том, что режиссер старается от нас что-то скрыть, подталкивает к неожиданному, но все-таки неизбежному выводу: если при помощи «взгляда с точки зрения Бога» нас держат в неведении, то определенное радикальное неведение должно быть присуще статусу самого Бога, который четко соответствует слепому функционированию символической машины. Бог Хичкока следует собственным путем, будучи безразличным к нашим мелким человеческим делам, – точнее говоря, Он совершенно неспособен понимать нас, живых людей, поскольку Его царство – это царство мертвых (то есть поскольку символ есть убийство вещи). В этом отношении он подобен Богу из мемуаров Даниэля Пауля Шребера, ибо он «привыкши к общению только с мертвыми, не понимает живых людей»[108]108
Freud S. Psychoanalytic Notes on an Autobiographical Account of a Case of Paranoia (Schreber) // Case Histories II. Harmondsworth: Penguin, 1979. P. 156.
[Закрыть] или, цитируя самого Шребера, «в соответствии с Порядком Вещей, Бог на самом деле ничего не знал о живых людях, и у него не было в том потребности; сообразно Порядку Вещей, у Него была потребность в общении лишь с трупами»[109]109
Freud S. Psychoanalytic Notes on an Autobiographical Account of a Case of Paranoia (Schreber) // Case Histories II. Harmondsworth: Penguin, 1979. P. 156.
[Закрыть].
Такой порядок вещей, разумеется, есть не что иное, как символический порядок, который умерщвляет живое тело и освобождает его от субстанции Наслаждения. Иными словами, Бог как Имя Отца, сведенный к фигуре символической власти, «мертв» (также) и в том смысле, что Он ничего не ведает о наслаждении, о жизни-субстанции: символический порядок (большой Другой) и наслаждение радикально несовместимы[110]110
Ср. знаменитый ответ Авраама Линкольна на просьбу оказать особую милость: «Как у президента, у меня нет других глаз, кроме конституционных; я вас не вижу».
[Закрыть]. Вот почему знаменитое фрейдовское сновидение о сыне, который предстает перед отцом и упрекает его со словами: «Отец, разве ты не видишь, что я горю?», можно перевести попросту как: «Отец, разве ты не видишь, что я наслаждаюсь?» – разве ты не видишь, что я жив, горю от наслаждения? Отец не видит этого, потому что он мертв, из-за чего мне открыта возможность наслаждаться не только за пределами его знания – без его ведома, – но еще и в самом его неведении. Другое, не менее известное фрейдовское сновидение об отце, который не знает, что он мертв, тем самым может быть дополнено: «(Я, видящий сон, наслаждаюсь тем, что) отец не знает, что он мертв»[111]111
В этом и состоит, согласно Лакану, асимметрия между Эдипом и Иокастой: Эдип не ведал, что творил, тогда как его мать всегда знала, кем был ее половой партнер, – источником ее наслаждения было именно неведение Эдипа. Пресловутый тезис о сокровенной связи между женским наслаждением и неведением тем самым обретает новое, интерсубъективное измерение: женщина наслаждается, поскольку ее другой (мужчина) не знает.
[Закрыть].
Вернемся к «Психо»: «пятно» (Мать), таким образом, наносит удар, подобно протянутой руке ослепленного Божества, подобно Его бесчувственному и бессмысленному вмешательству в мир. Подрывной характер этой перестановки станет очевидным, когда мы сопоставим ее с другой, почти идентичной перестановкой в фильме Фреда Уолтона «Когда звонит незнакомец» – быть может, лучшей вариацией на тему анонимных угроз по телефону. Первая часть фильма рассказывается с точки зрения девушки, которая работает няней в пригородном особняке: дети спят на первом этаже, а она смотрит телевизор в гостиной. После первых угрожающих звонков с повторяющимся требованием «Ты проверила детей?» она обращается в полицию, а та рекомендует ей никого не впускать в дом и постараться втянуть шантажиста в продолжительную беседу, которая позволит полицейским установить, кто звонит. Вскоре после этого полиция обнаруживает звонившего: другой телефон в том же доме… Шантажист находился там все время и уже убил детей. Тем самым убийца предстает в качестве непостижимого объекта, с которым невозможны никакие идентификации, поскольку это чистое Реальное, вызывающее неописуемый ужас. Однако в этот момент фильм принимает неожиданный оборот: внезапно нас подводят к точке зрения самого убийцы, показывая жалкое будничное существование этого одинокого и отчаявшегося индивида – он спит в ночлежке, бродит по грязным кафе и безуспешно пытается общаться с соседями; поэтому когда детектив, нанятый отцом убитых детей, готовится вонзить в него нож, наши симпатии целиком и полностью на стороне бедного убийцы. Как и в самом «Психо», в самом предъявлении двух точек зрения нет ничего подрывного: если бы рассказ велся только с точки зрения юной няни, мы имели бы дело со стандартным случаем жертвы, которой угрожает нечто призрачное, бестелесное и потому еще более грозное; если бы мы удовольствовались самоощущением убийцы, то получили бы стандартное описание патологического мира убийцы. Весь подрывной эффект зависит от разрыва, от перехода от одной перспективы к другой, от изменения, наделяющего голосом невозможный/недостижимый до той поры объект и заставляющего его говорить – словом, субъективирующего его. Сначала убийца описан как непостижимое жуткое существо, как объект в лакановском смысле слова со всей вложенной в него энергией переноса; затем нас внезапно подводят к его собственной точке зрения[112]112
Аналогичную инверсию мы видим в многочисленных «крутых» романах и фильмах – в момент, когда субъективируется femme fatale. Сначала она показывается с точки зрения ее (мужского) социального окружения и предстает в виде рокового объекта влечения, сеющего вокруг себя разрушение и губящего жизни, оставляя «пустые оболочки»; когда же в конечном итоге нас подводят к ее точке зрения, становится очевидным, что она не может совладать с воздействием «того, что в ней больше ее самой», объектом в ней, на ее окружение – не в меньшей степени, чем окружающие ее мужчины, она является беспомощной жертвой Рока.
[Закрыть]. Тем не менее важнейшая особенность «Психо» заключается в том, что Хичкок как раз не совершает этого шага к субъективации: когда мы брошены под «субъективный» взгляд Вещи, Вещь, хотя она и становится субъектом, не субъективируется, не «открывается», не «обнаруживает своих глубин», не выставляет себя для нашего патетического сострадания, не показывает нам трещину, сквозь которую мы могли бы увидеть все многообразие опыта ее самости. План, снятый с ее точки зрения, делает ее еще недоступнее – мы смотрим ее глазами, и само совпадение нашего взгляда со взглядом Вещи усиливает ее радикальную Другость до почти невыносимой степени.
«Субъективное опустошение»
Другой способ определить взгляд вещи на субъекта, расшатывающий обычную оппозицию «субъективного» и «объективного», состоит в том, чтобы сказать, что им отмечается момент, когда субъект оказывается напрямую пойманным в ловушку видения Другого-Вещи, захвачен этим видением. В предшествующих «Психо» фильмах Хичкока схожая съемка встречается дважды: в «Головокружении», когда в своем сновидении Скотти (Джеймс Стюарт) смотрит на собственную голову, изображенную как своеобразный психотический частичный объект, расположенный в точке схождения бегущих линий на заднем плане; и, прежде всего, тридцатью годами ранее в «Убийстве», когда – за несколько секунд до самоубийственного прыжка Фейна – во время его полета на трапеции перед ним проходит ряд видений; сначала – лица двух главных героев (сэра Джона и Дианы), затем – качающаяся пустота. Эта сцена как будто бы основана на стандартном приеме «прямой съемки/обратной съемки»: объективная съемка с Фейном чередуется с субъективной съемкой его видений, вследствие чего интерпретаторы (к примеру, Ротман) сосредоточиваются на содержании его видений; подлинной же тайной этой сцены является жуткая «объективная» съемка Фейна, который летит по воздуху, глядя в камеру странным, мазохистски-агрессивным взглядом.
Основное впечатление от этой съемки (и двух схожих случаев из «Головокружения» и «Психо») заключается в том, что «естественные» отношения между движением и состоянием покоя переворачиваются: дело выглядит так, как если бы голова, уставившаяся в камеру (точка взгляда), находилась в состоянии покоя, тогда как целый мир вокруг нее пребывал в состоянии кружения и утрачивал четкие очертания, – в отличие от «истинного» положения вещей, когда голова проносится мимо, а фон застывает на месте[113]113
Разумеется, в конечном итоге ответственность за такое впечатление ложится на отсталость техники киносъемки: в тот период было технически невозможно скрыть разлад между фигурой и ее фоном, – и все-таки парадокс заключается в том, что сам этот разлад производит сильнейшее художественное впечатление.
[Закрыть]. Гомология этого невозможного взгляда с точки зрения Вещи, вызывающей оцепенение субъекта, сводит его к неподвижности, и анаморфоза никоим образом не случайна: дело выглядит так, как если бы в трех вышеупомянутых кадрах анаморфическое пятно обретало ясные и отчетливые очертания, тогда как все остальное, оставшаяся реальность, становилось расплывчатым. Словом, мы смотрим на экран с точки анаморфоза, с точки, делающей пятно отчетливым, – и цена, которую мы платим за это, заключается в «утрате реальности». (Более забавный, но все-таки не столь действенный вариант того же самого встречается в «Незнакомцах в поезде» в съемке толпы на трибунах около теннисного корта: все головы поворачиваются в одном ритме, наблюдая за мячом, – кроме одной, головы убийцы Бруно, который неподвижно уставился в камеру – то есть на Гая, обозревающего трибуны[114]114
Возникает соблазн предположить, что в этом кадре раскрывается тайна платонизма: единственный способ изолировать – т. е. отделить от вселенского процесса порождения и разложения – место абсолютного покоя состоит в фиксации на взгляде Другого как на неподвижной точке на картине.
[Закрыть].)
Следовательно, взгляд Вещи заключает в себе «триаду», члены которой образуют своего рода «отрицание отрицания»: 1) чередование прямой съемки / обратной съемки Арбогаста с тем, что он видит, остается на уровне стандартного саспенса – исследователь входит в запретную зону, где «рыщет» неизвестное X – иначе говоря, где каждый изображенный объект окрашен желанием и/или тревогой субъекта; 2) быстрая смена плана на объективный «взгляд с точки зрения Бога» «отрицает» этот уровень – стирает пятно «патологических» интересов субъекта; 3) субъективная съемка того, что видит убийца, «отрицает» объективность «взгляда с точки зрения Бога». Эта субъективная съемка представляет собой «отрицание отрицания» субъективной съемки того, что Арбогаст видит в начале сцены: это возвращение к субъекту, но к субъекту за пределами субъективности, и поэтому никакая идентификация с ним невозможна – в отличие от нашей первоначальной идентификации с пытливым взглядом Арбогаста, теперь мы находимся в невозможной точке абсолютной Странности. Нас сталкивают лицом к лицу с этой странностью в самом конце фильма, когда Норман поднимает глаза и смотрит прямо в камеру: когда мы видим разрезанное лицо Арбогаста, мы смотрим на него теми же глазами[115]115
Поэтому сходство между этим кадром с лицом Арбогаста и кадром с лицом Генри Фонды, отраженном в треснувшем зеркале в «Не том человеке», вполне оправданно: в обоих случаях перед нами – точка зрения «вещи». См. Salecl R. The Right Man and the Wrong Woman // Everything You Always Wanted to Know about Lacan… (Изд. на рус. яз.: Салецл Р. Тот человек и не та женщина // Все, что вы хотели знать о Лакане… С. 178–188. – Примеч. ред.)
[Закрыть].
Ключевая особенность, которую здесь нельзя упускать из виду, заключается во взаимозависимости между объективным взглядом сверху («взгляд с точки зрения Бога») и сразу же следующим за ним, показанным с определенной точки зрения кадром, изображающим разрезанное лицо Арбогаста (в чем и состоит контраст, на который указывает Хичкок)[116]116
В фильме «Что случилось с Бэби Джейн?» Роберт Олдрич постарался достичь аналогичного эффекта, сняв сцену, когда Бетт Дэвис приносит изголодавшейся Джоан Кроуфорд крысу на подносе, с той же самой «точки зрения Бога»; «пятно» здесь – сама дохлая крыса, которая становится видимой, когда с подноса снимают салфетку. Решающее отличие от «Психо» заключается в отсутствии монтажа во взгляде страшного пятна (Вещи), ответственного за подрывной эффект сцены убийства Арбогаста.
[Закрыть]. Чтобы прояснить эту основополагающую разницу, проведем простой мысленный эксперимент и представим сцену убийства Арбогаста без «взгляда с точки зрения Бога», ограниченную рамками стандартного приема «прямая съемка/обратная съемка»: после ряда знаков, указывающих на нависшую угрозу (трещина в двери второго этажа и т. д.), мы получаем съемку с определенной точки зрения, показывающую Арбогаста глазами убийцы… Таким образом, воздействие «взгляда Вещи» утрачивается, субъективная съемка начинает функционировать не как взгляд невозможной Вещи, но как обычная съемка с определенной точки зрения одной из диегетических ролей, с которыми зритель без труда может себя идентифицировать.
Иными словами, «взгляд с точки зрения Бога» необходим для того, чтобы очистить поле всех субъективных идентификаций, осуществив то, что Лакан называет destitution subjective, субъективное опустошение, – только на основании этого следующий за ним кадр, снятый с субъективной точки зрения, воспринимается не как взгляд одного из диегетических субъектов, но как невозможный взгляд Вещи[117]117
Интересно отметить, что Хичкок обратился к такому чередованию съемок еще в 1930 г., в сцене-мышеловке из «Убийства», в решающий момент, когда Фейн – убийца – вот-вот попадет в ловушку сэра Джона. Сэр Джон и Фейн репетируют сцену из пьесы сэра Джона; когда Фейн доходит до того места в рукописи, которое по плану должно было заставить его признать свою вину, Хичкок внезапно отказывается от стандартного приема «прямая съемка / обратная съемка», камера начинает смотреть с «точки зрения Бога» и показывает нам обоих главных героев (сэра Джона и Фейна) с большой высоты; за этим странным кадром следует снятый через плечо, квазисубъективный крупный план с Фейном, который нервно переворачивает страницу, чтобы увидеть, что идет в рукописи дальше (т. е. что сэру Джону действительно известно об убийстве), и открывает пустую страницу. Вовсе не принося облегчения Фейну (хотя и свидетельствуя о том, что сэр Джон не знает всей правды об убийстве), пустая страница вызывает жуткое потрясение, своеобразное предчувствие смерти Фейна. Т. е. эта пустая страница тесно соотносится с пустотой, на которую наталкивается Фейн, раскачиваясь на трапеции прямо перед самоубийством (сначала он видит сэра Джона, потом Диану и, наконец, не видит ничего – ничто, замещающее его самого).
[Закрыть]. Здесь следует вспомнить замечания Жана Нарбони, относящиеся как раз к тому, как Арбогаст поднимается по лестнице, о том, как в хичкоковском приеме «прямой съемки/обратной съемки» воплощается невозможность не обусловленного вещами «свободного», пытливого, самостоятельного и активного взгляда, принадлежащего субъекту-исследователю, который сам не является частью ребуса, то есть того, что Хичкок называет «обшивкой»:
…отчего от столь многих [хичкоковских] сцен, снятых с субъективной точки зрения, у нас возникает ощущение, что взгляд человека не проясняет вещи, что его шаги не ведут его к вещам, но что сами вещи смотрят на него, угрожающе притягивают, хватают и чуть ли не поглощают его, что образцовым способом происходит в «Психо», когда детектив Арбогаст поднимается по лестнице? Воля никогда не бывает свободной, субъективность всегда стеснена принуждением и поймана в ловушку[118]118
Narboni J. Visages d’Hitchcock // Cahiers du cinéma, horssérie 8: Alfred Hitchcock. Paris, 1980. P. 33.
[Закрыть].
Но эти узы, которые, так сказать, пришпиливают субъекта к объектам – основание хичкоковской «субъективной мизансцены», – не являются последним словом режиссера: вид сверху, обеспечивающий геометрически прозрачный нижний план сцены и следующий за Арбогастом, который поднимается по лестнице, представляет собой как раз тот невозможный взгляд, автономный, не обусловленный вещами, очищенный от всех патологических идентификаций, свободный от принуждения (в последней сцене, о которой шла речь, когда Норман несет мать в подвал, камера осуществляет это самоочищение взгляда в рамках продолжительной съемки с движения, которая начинается с пытливого приземленного взгляда и кончается тем же самым «взглядом с точки зрения Бога»: посредством кругового движения камеры взгляд здесь буквально избавляется от патологического принуждения, сбрасывая его). Поэтому быстрая смена съемки с точки зрения нейтрального и свободного взгляда на съемку с точки зрения взгляда самой Вещи является внутренне присущим этой Вещи подрывом чистоты взгляда – не впадением в субъективность, а вхождением в измерение субъекта за рамками субъективности.
Сцена самоубийства в «Убийстве» содержит схожую формальную динамику: самоубийственному прыжку непосредственно предшествует субъективная съемка, которая отражает взгляд Фейна на арену и публику из-под купола цирка – то есть с точки зрения, совпадающей с «точкой зрения Бога». Этот кадр, снятый с определенной точки зрения, изображает очищение Фейна: претерпев destitution subjective, освободившись от субъективных идентификаций, он может ринуться вниз, назад к земной реальности, стать объектом-пятном на ней. Веревка, на которой он висит, – это пуповина, связующая «взгляд с точки зрения Бога» – позицию чистого метаязыка, взгляд, освобожденный от всех «приземленных» субъективных идентификаций, – с непристойной Вещью, которая пятнает реальность[119]119
Существует структурная гомология между этой сценой и сценой-мышеловкой из «Гамлета» Лоренса Оливье: в последней сцене невидимая «веревка» соединяет две ее узловые точки: подмостки и короля. Подмостки, на которых раскрывается «правда» о гибели отца Гамлета, материализуют «взгляд с точки зрения Бога» в форме художественного вымысла, и поэтому они функционируют в качестве первой узловой точки, вокруг которой камера раскачивается во время съемки с движения; непристойное пятно на этой картине – конечно, король-убийца среди публики: как только он узнает на подмостках правду о собственном преступлении, второй узловой точкой, вокруг которой раскачивается камера, становится он сам. Тем самым гомология становится очевидной: в «Гамлете» у Оливье функцию веревки (свешивающейся с высоты «взгляда с точки зрения Бога» и удушающей убийцу в «Убийстве») берет на себя сама камера, которая окружает короля в момент, когда тот выказывает собственную виновность.
[Закрыть].
Крах интерсубъективности
Антагонизм между объективным «взглядом с точки зрения Бога» и «субъективным» взглядом Вещи повторяет на другом, гораздо более радикальном уровне антагонизм между объективностью и субъективностью, регулирующий прием «прямой съемки/обратной съемки». Такое сообщничество между «взглядом с точки зрения Бога» и непристойной Вещью характеризует не просто взаимодополняющие отношения двух противоположностей, но их абсолютное совпадение – их антагонизм носит чисто топологический характер, – мы же имеем один и тот же элемент, записанный на двух поверхностях, помещенный в два регистра, непристойное пятно есть не что иное, как способ, которым объективно-нейтральный вид картины в целом присутствует в самой картине. (В вышеупомянутом кадре из «Птиц», показывающем Бодега-Бей с «точки зрения Бога», такое же топологическое переворачивание осуществляется в рамках одного и того же плана: как только птицы попадают в кадр из-за камеры, нейтральная «объективная» съемка превращается в съемку «субъективную», выражающую взгляд непристойной Вещи, то есть птиц-убийц.)
Тем самым мы возвращаемся к отправной точке нашего анализа, поскольку мы уже сталкивались с гомологическим «сообщничеством» двух противоположных свойств, говоря о «янсенизме» Хичкока, а именно: 1) обусловленности субъективных судеб транссубъективным слепым автоматизмом символической машинерии; 2) приоритета взгляда над видимым, что ставит всю сферу «объективности» в зависимость от взгляда. Тем же антагонизмом определялось понятие «большого Другого» в период, когда Лакан впервые начал его разрабатывать (в начале 1950-х гг., то есть во время первых двух «Семинаров»): «большой Другой» вводится как непостижимая Другость субъекта по ту сторону стены языка, а затем неожиданно возвращается к несубъективному слепому автоматизму символической машины, регулирующему интерсубъективное взаимодействие[120]120
Более подробную разработку этой основополагающей двойственности лаканианского понятия «большого Другого» см. в гл. 6: Žižek S. For They Know Not What They Do.
[Закрыть]. И то же возвращение образует драматический tour de force, «фокус», интерпретации Ротмана в «Убийственном взгляде»: после сотен страниц, посвященных фигуре абсолютной Другости в фильмах Хичкока, воплощенной во взгляде в камеру, окончательный итог исследования «Психо» заключается в том, что эта Другость в конце концов совпадает с самой машиной (камерой).
Чтобы ощутить это парадоксальное совпадение в «живой» форме, достаточно вспомнить две особенности монстров, киборгов, живых мертвецов и т. д.: это машины, работающие вслепую, без сострадания, они лишены всяких «патологических» раздумий, недоступны нашим мольбам (слепое упорство Шварценеггера в «Терминаторе», живых мертвецов в «Ночи живых мертвецов» и т. д.), но в то же время их характеризует присутствие абсолютного взгляда. На самом деле в монстре ужасает то, что он как будто бы все время наблюдает за нами – без такого взгляда слепое упорство его влечения утратило бы свой жуткий характер и превратилось бы в простую механическую силу. Заключительное растворение взгляда Нормана в черепе матери выражает эту неразрешимость, это совпадение противоположностей, которое в конечном итоге оказывается лентой Мебиуса: машина производит остаток – взгляд как пятно, но внезапно оказывается, что этот остаток включает в себя саму машину. Сумма содержится в своем остатке – эта пуповина, пришпиливающая Целое к своему пятну, есть абсолютный парадокс, который определяет субъекта.
В таком случае необходимо прояснить последнее недоразумение: основной «секрет» «Психо», секрет, воплощенный во взгляде Нормана в камеру, не сводится к новой разновидности пошлости непостижимой, невыразимой глубины человека за стеной языка и т. д. Основной секрет в том, что эта Потусторонность сама по себе оказывается пустой, лишенной всякого позитивного содержания: в ней нет глубины «души» (взгляд Нормана совершенно «бездушен», подобен взгляду чудовищ и живых мертвецов) – как таковая эта Потусторонность совпадает с самим взглядом: «за явлением нет никакой вещи в себе, есть только взгляд»[121]121
Lacan J. The Four Fundamental Concepts. P. 103.
[Закрыть] – дело выглядит так, словно это суждение Лакана относилось непосредственно к заключительному взгляду Нормана в камеру, словно в этом суждении подводится итог основному уроку «Психо»[122]122
О том, что фильм был известен Лакану, свидетельствует второстепенная ссылка на него в Семинаре о переносе (Lacan J. Le Séminaire, livre VIII: Le transfert. P. 23).
[Закрыть]. Теперь мы можем еще ответить и на иронические замечания Раймонда Даргнета[123]123
Durgnat R. The Strange Case of Alfred Hitchcock. London: Faber & Faber, 1974.
[Закрыть] о ложной глубине фильмов Хичкока («потемкинские подводные лодки – флот перископов без корпусов»); вместо того чтобы пытаться доказать несостоятельность такого описания, его следует перенести на «саму вещь»: одиозный урок «Психо» состоит в том, что сама эта «глубина» (безмерная и непостижимая бездна, определяющая наш феноменологический опыт другого как «личности») представляет собой «перископ без корпуса», иллюзорный эффект поверхностного отражения, наподобие нарисованного Паррасием покрывала, создавшего иллюзию, будто за ним кроется некое содержание…
Взгляд, который раскрывает подлинную природу Потусторонности, – это жесткая сердцевина картезианского cogito, кость, что застряла в горле современных критиков «картезианской метафизики субъективности». То есть одна из повторяющихся антикартезианских тем в современной философии от позднего Витгенштейна до Хабермаса состоит в том, что картезианскому cogito якобы не удается принять в расчет примат интерсубъективности: речь идет о том, что cogito «монологично» по своей структуре и в качестве такового является отчужденным, овеществленным продуктом, который может возникнуть только на фоне интерсубъективности и ее «жизненного мира». Неявно двигаясь в противоположном направлении, «Психо» указывает на статус субъекта, предшествующего интерсубъективности, – на не имеющую глубинного измерения пустоту чистого взгляда, являющегося не чем иным, как топологической изнанкой Вещи. Такой субъект – ядро якобы «устаревшей» картезианской проблематики Машины и Взгляда, то есть картезианской одержимости двумя предметами, механикой и оптикой, – есть то, что прагматико-герменевтический интерсубъективный подход старается любой ценой нейтрализовать, поскольку субъект этот препятствует субъективации/нарративизации, полной интеграции субъекта в символический мир.
Теперь мы можем понять, отчего Хичкок сопротивляется искушению использовать прием ретроспективного эпизода/голоса за кадром: этот формальный прием до сих пор основывается на интерсубъективности как на средстве символической интеграции. По этой причине хичкоковская вселенная в конечном итоге несовместима со вселенной film noir, где прием ретроспективного эпизода/голоса за кадром достиг своего апогея – достаточно упомянуть фильм Анатоля Литвака «Извините, ошиблись номером» (1948), хрестоматийную иллюстрацию лакановского тезиса о том, как истина субъекта конституируется дискурсом Другого. В нем рассказывается история о богатой старухе, из-за паралича ног прикованной к постели, которая случайно подслушивает телефонный разговор о запланированном убийстве; она начинает расследовать дело и – после целого дня подслушивания – в конце концов устанавливает, что жертва запланированного убийства – она сама; слишком поздно, так как убийца уже идет к ней… Как заметил Дж. П. Телотт[124]124
Telotte P. Voices in the Dark: The Narrative Patterns of Film Noir, ch. 4 («Tangled Networks and Wrong Numbers»). Urbana: University of Illinois Press, 1989.
[Закрыть], примечательной особенностью этого фильма является то, что он переворачивает – выражаясь в гегельянской манере, производит «рефлексию-в-себя» – обычный прием film noir, посредством которого (путем постепенной реконструкции, то есть ряда отдельных догадок) рассказчица пытается обнаружить «подлинный образ» некоей таинственной личности (парадигмой здесь является, конечно, «Гражданин Кейн»): в фильме «Извините, ошиблись номером» эта таинственная неведомая личность совпадает с самой рассказчицей. Посредством ряда рассказов других лиц, визуализированных в ретроспективных эпизодах, рассказчица постепенно соединяет все куски воедино и (ре)конструирует истину о самой себе, поняв, что, сама того не ведая, она очутилась в центре сложнейшего заговора – словом, она обнаруживает собственную истину вне себя самой, в ускользающей от нее интерсубъективной сети.
В этом и состоит «завещательное» измерение приема ретроспективного эпизода/голоса за кадром: на смертном одре, когда все, чему суждено было случиться, уже произошло, субъект пытается упорядочить свою беспорядочную жизнь, организуя ее в виде последовательного повествования («Двойная страховка», «Мертв по прибытии» и т. д.). Основной урок этого состоит в том, что, когда мы соединим все куски воедино, ожидающим нас посланием окажется «смерть»: сконструировать или реконструировать чью-нибудь историю возможно лишь при столкновении со смертью. Иными словами, film noir парадоксальным образом излишне полагается на черты, образующие его «черноту» (атмосфера безнадежной фатальности, когда игра окончена до того, как она началась и т. д.): он по-прежнему полагается на непротиворечивость «большого Другого» (символический порядок). Film noir целиком и полностью остается в рамках «повествовательной замкнутости», его повествовательную основу составляет замкнутый символический маршрут Судьбы, послание которой «приходит к своему адресату» с неумолимой неизбежностью.
Вспомним, быть может, самый мрачный и тревожный образец этого жанра, несправедливо недооцененную «Аллею кошмаров» Эдмунда Гоулдинга (1947), историю о «великом Стэнтоне», подрабатывающем на карнавалах, который добывает секреты у шарлатана, читающего мысли, и выдает себя за спирита; как раз тогда, когда кажется, что он, пользуя богатых клиентов, вот-вот станет богачом, его обман раскрывается, а падение его оказывается столь же стремительным, сколь и успех. В самом начале фильма Стэнтон (которого играет Тайрон Пауэр) говорит о своем ужасе и отвращении к «дегенератам», шоу уродов, поедающих живых цыплят: низшая форма карнавальной жизни; в конце фильма он сам возвращается на этот дрянной карнавал в качестве «дегенерата»… «Повествовательная замкнутость» заключается в этой метафорической петле: в самом начале герой становится очевидцем унизительной сцены, по отношению к которой он сохраняет чувство превосходства, – он не замечает как раз того, что эта сцена служит метафорой его собственного будущего: он не замечает измерения de te fabula narratur (о тебе сказка сказывается), того факта, что в конечном итоге неумолимая Судьба заставит его занять это весьма презренное место[125]125
Ту же петлю мы встречаем в фильме Джозефа фон Штернберга «Марокко»: в его начале Марлен Дитрих, femme fatale, с презрением наблюдает за группой женщин, которые идут пешком за направляющимся в пустыню караваном легионеров; женщины не хотят расставаться со своими любовниками; в конце же она сама вступает в эту группу, поскольку с караваном уходит тот единственный, кого она любит.
[Закрыть]. В этой петле легко разглядеть этический императив, действующий во фрейдовском девизе «wo Es war, soll ich werden [там, где было Оно, должно стать Я]» – где это презренное создание, там и твое настоящее место, туда ты и должен попасть. Вот что такое в конечном счете «влечение к смерти»: «влечение к смерти» – это название побуждения, неумолимо притягивающего субъекта к этому месту…
Однако же чего, как правило, не замечают, так это радикальной несовместимости между ретроспективным эпизодом/голосом за кадром и другим свойством film noir, субъективной камерой: Телотт совершенно не попадает в точку, когда замечает в обоих одно и то же (акцент на «точке зрения» – то есть на том, что социальная реальность искажается субъективной перспективой), – для него субъективная камера представляет собой попросту радикализацию того, что уже действовало в ретроспективном эпизоде/голосе за кадром[126]126
См., напр.: Telotte, p. 17: «Субъективная камера гораздо больший акцент делает не на закадровом голосе / ретроспективном эпизоде, а на точке зрения…»
[Закрыть]. Разрыв между ретроспективным эпизодом/голосом за кадром и субъективной камерой в конечном счете является разрывом между Символическим и Реальным: с помощью ретроспективного эпизода/голоса за кадром субъект интегрирует собственный опыт в символический мир, а следовательно, и в публичное пространство интерсубъективности (не случайно ретроспективное повествование, как правило, имеет форму признания Другому, олицетворяющему социальную власть), тогда как субъективная камера производит полностью противоположное воздействие – идентификация со взглядом другого исключает нас из символического пространства. Когда в каком-нибудь фильме мы внезапно начинаем «видеть вещи глазами другого», мы занимаем место, не поддающееся никакой символизации.
Наиболее ярко этот разрыв выражен у Хичкока, режиссера, работавшего с субъективной камерой par excellence и по этой причине испытывавшего указанные трудности при задействовании ретроспективных эпизодов: в тех редких случаях, когда режиссер прибегает к последнему приему («Страх сцены», «Я исповедуюсь»), результат получается глубоко двусмысленным и странным, а ретроспективный эпизод, как правило, кажется фальшивым. Такой разрыв доходит до крайности в «Психо»: в конце концов результатом становится прямая противоположность включению различных субъективных перспектив в общее поле интерсубъективности, создающему «эффект истины». То есть в конце фильма два уровня, совпадение между которыми обусловливает успешность повествования с помощью ретроспективного эпизода, расходятся между собой: с одной стороны, плоское «объективное» научное публичное знание, озвучиваемое психиатром, с другой, заключительный монолог Нормана-Матери, его/ее субъективная истина, его финальное заточение в психотическом мире – с полностью разорванными связями между тем и другим.
Основополагающий разрыв между знанием и истиной, разумеется, стал общим местом лаканианской теории, истерик «лжет» в том, что касается фактического и пропозиционального содержания его высказываний, но все-таки сама эта ложь на уровне высказанного производит истину его желания, его подлинную субъективную позицию относительно высказанного в противоположность невротику навязчивых состояний, который говорит «правду и ничего, кроме правды», чтобы утаить лживость собственной субъективной позиции. Вспомним противостояние между американскими левыми и маккартистами – охотниками на ведьм в начале 1950-х гг.: на уровне «соответствия фактам» маккартисты, несомненно, были близки к истине, по крайней мере в том, что касалось Советского Союза (надо ли говорить о наивном, идеализированном образе Советского Союза в левых кругах?), но все же, несмотря на это, какое-то безошибочное чувство подсказывает нам, что в рамках этого конкретного социального звена «истина» (подлинность субъективной позиции) была определенно на стороне преследуемых левых, тогда как охотники на ведьм были негодяями, даже несмотря на «справедливость» пропозиционального содержания их высказываний. Парадокс заключается в том, что интерсубъективную истину можно высказать только в форме лжи, ложности пропозиционального содержания: не существует «синтеза», посредством которого можно было бы выразить (интерсубъективную) истину в форме (пропозициональной) истины, поскольку, как выразился Лакан, истина всегда имеет структуру вымысла.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































