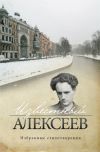Текст книги "Алексеевы"

Автор книги: С.С. Балашов
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +6
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Годы НЭПа
Для страны экономической передышкой на несколько лет явился НЭП, когда экономика явно начала крепнуть, и на какое-то время установилась более или менее нормальная жизнь для населения Ленинграда.
Революционный (хотя уже постепенно спадающий) духовный подъем народов вызвал заметное оживление изобразительного и театрального искусства в стране – так сказать, своеобразное продление «Серебряного века», имевшего место в России до Октябрьской революции, но и породившего злополучное движение Пролеткульта – классовой узости малограмотных людей, поставленных и пожелавших руководить искусством, Академические театры, поддерживаемые молодым Советским правительством, персонально в лице А. В. Луначарского и Е. К. Малиновской, интенсивно работали; устраивались многочисленные выставки картин, советского фарфора и другие. Быстро развивалось самое главное (по определению В. И. Ленина) демократическое искусство масс – кино.
Сызмальства любя рисовать и даже пробуя писать масляными красками, я одно время мечтал стать художником и старался не пропускать вернисажи, которые периодически менялись в Академии художеств на набережной Васильевского острова и на улице Герцена (бывшая Большая Морская) в Обществе петроградских (ленинградских) художников.
В Обществе художников и, в том числе, в помещении на Петроградской стороне, в первой половине двадцатых годов мама и отец иногда пели в устраиваемых Обществом концертах, в благодарность за участие в которых им дарили картины художников – членов Общества.
Отец, с его великолепным голосом и вокальным мастерством, занимал ведущее положение лирического тенора в обоих академических оперных театра Петрограда-Ленинграда и, естественно, был моей гордостью (хоть и ушел из семьи, чем обрек на постоянные душевные муки, муки ревности и неудовлетворенной, прерванной любви маму, продолжавшую его беззаветно любить).
Когда отец ушел, маме еще не исполнилось 45, она продолжала быть красивой и привлекательной.
Во второй половине двадцатых годов ей удавалось еще освобождать себя от домашнего хозяйства, еще была возможность нанимать прислугу – молоденьких девушек, которые занимались приготовлением обедов, стиркой, уборкой квартиры и, живя у нас по несколько лет, обычно увольнялись по причине замужества. Одна из них, очень милая девушка Нюша, приехавшая в Ленинград откуда-то с севера, стала почти членом нашей семьи, прожила несколько лет и, со слезами, рассталась с нами по требованию своей старшей сестры, просватавшей ее пожилому вдовцу, кажется, жившему в Архангельске.
В те годы мы все очень любили кино, просмотрели много фильмов с участием Мэри Пикфорд, Дугласа Фербенкса, Гарри Ллойда, Чарли Чаплина, Полы Негри, Конрада Вейта, Греты Гарбо, Джекки Кугона и других знаменитых актеров и начавшие выходить на экраны отечественные фильмы, начиная с «Красных дьяволят».
Часто бывало, что ходили мы в кино на последние имевшиеся у мамы деньги, не задумываясь о том, на что и как проживем завтрашний день; бывало мама нас спрашивала: «Дети, у меня осталось несколько рублей, которые нужно было бы оставить на завтра, на хозяйство или же нам всем сегодня пойти в кино смотреть новый (такой-то) фильм, а там – как Бог пошлет?! Как вы скажете?» И мы все дружно, хором кричали: «В кино!»
Наша домработница Нюша всегда ходила в кино наравне с нами, участвовала потом в обсуждении и разборе просмотренного фильма, как и мы, дети, собирала открытки актеров кино и участвовала в наших детских и коллективных играх. Конечно, каждый из нас, детей, включая Аллу (которая пыталась стать актрисой, периодически играла в каких-то драматических коллективах, в том числе в «Синей блузе»), и Нюша воображали себя героями этих кинофильмов и стали называть друг друга Румепи, Рудуфе, Рупоне, что означало русская Мэри Пикфорд (Тиса), русский Дуглас Фербенкс (Рыжик, то есть я), русская Пола Негри (Алла). Нюша была Ункас – благородный индеец из романов Фенимора Купера, которыми мы зачитывались.
Несмотря на постигшую Марию Сергеевну личную трагедию, она стойко переносила свое горе, никогда не распускалась и, как прежде, продолжала интересоваться и жить интересами театра и искусства, всем по-настоящему талантливым, что встречалось на ее жизненном пути. Так одно время, уже после революции, мама часто посещала концерты, в которых известный драматический артист (снимавшийся также в кино) Владимир Васильевич Максимов исполнял цикл модных тогда мелодекламаций под музыку Боккерини, Моцарта и других старинных композиторов, в паре с известной балериной Мариинского театра Люком[60]60
Люком Елена Михайловна (1891—1968).
[Закрыть], в программе «Песенки ХVIII столетия»; оба исполнителя появлялись в костюмах эпохи, в белых париках, и под декламацию В. В. Максимова танцевали менуэты и другие танцы XVШ века. Это были романтические, изящные, изысканно прекрасные номера, резко контрастирующие с разрухой и бытом приземленного, жестокого послереволюционного времени, приносившие зрителям «разрядку» от повседневности.
Мария Сергеевна часто посещала концерты известной певицы Зои Лодий, выступавшей в то время в паре с прекрасным концертмейстером Н. Голубовской, в помещении Кружка камерной музыки в доме под № 52, угол Невского проспекта и Садовой улицы. Интересно отметить, что суровое, я сказал бы, временами даже злое и неприятное выражение лица певицы, при ее выходе на эстраду, как только она начинала петь, становилось мягким и привлекательным; Зоя Петровна пела с тонкой психологической передачей смысла исполняемого произведения, она прекрасно владела искусством фразировки. В ее разнообразных программах была камерная классика, русская и иностранная.
Конечно, Мария Сергеевна зорко следила за творческими успехами и расширением репертуара Степана Васильевича, радуясь его творческому утверждению как ведущего лирического тенора Мариинского и Михайловского оперных театров.
Мария Сергеевна искренне радовалась успехам Николая Константиновича Печковского, который начал выступать в Мариинском театре с сезона 1924/25 годов, а потом выступал на сцене Михайловского театра. Она очень любила, как Н. К. Печковский исполнял партию Германа в «Пиковой даме» Чайковского, и говорила, что со времен Василия Сергеевича Севастьянова (славившегося исполнением этой партии) не встречала более драматически сильного исполнителя.
Мария Сергеевна отмечала интересное исполнение Н. К. Печковским «Песенок шута», дававшихся как вставной номер в одной из оперетт, шедших в Малом оперном театре (в Михайловском театре), однако сожалела, что Николай Константинович стал постепенно снижать уровень интерпретации партии Вертера в одноименной опере, по сравнению с исполнением в Оперной студии Большого театра в 1922/23 годах.
Мария Сергеевна посещала и сольные концерты Н. К. Печковского.
Ей очень нравился своеобразный, со слезой, тембр голоса Н. К. Печковского, и она даже прощала появлявшуюся некоторую гнусавость, портящую тембр певца, высоко ценя темпераментность драматического исполнения. Однако она справедливо отмечала недостатки вокальной стороны, неровность исполнения, когда Печковский был не в голосе (даже, бывало, давал «петухов»), что говорило о не очень еще высоком вокальном мастерстве в те годы. Тем не менее мама считала Н. К. Печковского явлением на оперной сцене.
В конце двадцатых годов Алла привезла из Москвы четыре тома произведений С. А. Есенина, которыми мама зачитывалась, очень полюбила до тех пор ей совершенно незнакомого поэта, его народный лирический талант. Кажется, это было первое или одно из первых изданий собрания сочинений Есенина, купить его было невозможно, и мама стала в свободное время переписывать стихи Есенина для себя; несколько таких тетрадей стихов до недавнего времени хранились у меня, затем я отдал их в Народный архив.
Когда Мария Сергеевна посмотрела кинофильм «Процесс о трех миллионах», она высоко оценила исполнительный талант неизвестного ей до того актера Анатолия Петровича Кторова из московского Театра Корша. Как-то А. П. Кторов выступал в Ленинграде, и Мария Сергеевна рискнула пойти к нему за кулисы, познакомилась с ним и поблагодарила за его великолепную, талантливую игру, даже попросила подписать ей на память дешевенькую открытку с его портретом – одну из тех, тогда можно было купить в кинотеатрах.
Дальнейшие годы показали, как долго большой, искрометный талант А. П. Кторова не находил должной оценки, как долго этого великолепного актера «попридерживали», ему не находилось ролей в МХАТе. А мама сразу увидела в нем большого разностороннего артиста, а уж на «фрачные» роли мало было актеров, которые могли с ним потягаться.
В 1926 году в Народном доме Ленинграда гастролировал Леонид Витальевич Собинов, пел партию Дубровского в одноименной опере Э. Направника. Мы с мамой были на одном из спектаклей этого старого друга молодости семьи Алексеевых, с кем в дни замужества мамы за П. С. Олениным они вместе жили в Италии. В антракте мы пошли за кулисы, маме хотелось, хоть коротко, повидаться с Леонидом Витальевичем, который нас радушно встретил, и мы, буквально только 4-5 минут пробыли у него в гримировальной уборной, чтобы не быть в тягость и дать ему возможность отдохнуть перед следующим актом. Я впервые и единственный раз видел Леонида Витальевича, хотя все мое детство сопровождало его имя – Собинова очень любили оба моих родителя. А вот для мамы это посещение оказалось последней встречей с Великим певцом и другом юных дней.
Примерно в это же время, во второй половине двадцатых годов, тоже в Народном доме мы смотрели «Кармен» с участием гастролерши Фатьмы Мухтаровой и Николая Константиновича Печковского, игравших в полную силу своих темпераментов, а также «Аиду» Верди с Фатьмой Мухтаровой в партии Амнерис. Певица была в расцвете своих творческих сил, темперамента, а так как много гастролировала по городам страны, то выступала в собственных великолепных театральных костюмах.
Потом слушали и любовались игрой Лидии Яковлевны Липковской, приезжавшей в СССР в качестве гастролерши (в то время она, кажется, уже была замужем за сыном французского премьерминистра Пуанкаре). Мой отец еще до революции неоднократно пел с ней в Народном доме и, вот теперь, был приглашен выступить с ней в заглавных партиях оперы «Ромео и Джульетта» Гуно.
В том же Народном доме несколько спектаклей пел на своих гастролях Григорий Степанович Пирогов, брат Народного артиста СССР Александра Степановича Пирогова; оба брата были выдающимися певцами (басами).
Несмотря на то что Григорий Степанович был бас, он гастролировал в партии Демона, написанной для баритона, в одноименной опере Рубинштейна, а моего отца пригласили исполнить партию Синодала. Конечно, мы с мамой слушали спектакль. Перед ним я ходил на репетиции, почти выучил наизусть партию Синодала, которая мне очень нравилась, и мечтал сам ее когда-нибудь спеть.
В 1929 году в Народном доме начала длительные гастроли Харьковская оперетта, но их премьер-баритон Райский, спев несколько спектаклей, уехал на гастроли по Дальнему Востоку, а на исполнение его партий пригласили Степана Васильевича Балашова (моего отца).
Труппа Харьковской оперетты была достаточно сильной по исполнителям, а тут еще пригласили петь отца – конечно, на спектакли с его участием ходили все: мама, я, Тиса, Клеш, наши друзья. Отец пел Раджами в «Баядерке» и Эдвина в «Сильве» Имре Кальмана, героя (не помню как его имя) в оперетте Валентинова «Жрица огня», Джима в оперетте «Роз-Мари», выучив его партию за три дня, остававшиеся до спектакля. Партию Джима Степан Васильевич полюбил и в последующие годы исполнял ее с удовольствием на летних гастролях по городам Волги[61]61
Эта партия включала очень популярную тогда и известную поныне песенку «Цветок душистых прерий».
[Закрыть].
Конечно, мы слушали и те спектакли, где мой отец не был занят, так как репертуар Харьковской оперетты был разнообразен, шли постановки, не знакомые ленинградцам; исполнительская культура этого театра была достаточно высока, и ленинградцы (включая нас) полюбили его.
До 1929 года в городе уже несколько лет не было оперетты, кроме оперетты певца Ксензовского, игравшей в маленьком помещении театра (над знаменитым магазином-гастрономом Елисеева), в котором потом долгие годы работала труппа Театра комедии Николая Павловича Акимова. Видимо, по этой причине гастроли Харьковского театра оперетты в Народном доме на Петроградской стороне затянулись, и в конце концов сильная ее труппа практически целиком осталась в Ленинграде, продолжая выступать в Народном доме, и стала, таким образом, Ленинградским театром оперетты.
На место их бывшего премьера Райского, не вернувшегося в труппу (репрессированного по обвинению в шпионаже после его гастролей по Дальнему Востоку), был принят хороший певец, баритон Валентин Львович Легков, выступавший до этого, с начала двадцатых годов, в Михайловском театре; мы хорошо его помнили по совместной работе с моим отцом в спектаклях «Корневильские колокола» Планкетта, «Нищий студент» Миллкера и других из репертуара тех лет.
Балетную часть труппы возглавляла великолепная характерная балерина Нина Васильевна Пельцер, являвшаяся много лет «бриллиантом» Ленинградской оперетты.
В конце 1929 года в Ленинград на длительные гастроли приехала труппа лилипутов, руководимая Малиновским. В репертуаре этого коллектива значилась оперетта «Ревизор», либретто которой было написано по одноименной комедии Н. В. Гоголя, а музыка представляла собой некую смесь из популярных мелодий; труппа давала также сборные концерты из танцевальных и вокальных номеров и небольших скетчей.
Труппа лилипутов ездила по стране из города в город и являла собой административно крепко организованный, дисциплинированный, хорошо налаженный в творческом и бытовом отношениях театральный коллектив, со всеми присущими людям достоинствами и естественными пороками, присущими артистическим натурам: радостью общего творческого успеха, дружеским отношениям или неприязнью кого-то к кому-то, мужской и женской ревностью, когда-то – завистью к успехам или радостью за успех кого-то в труппе, и при всей кажущейся самостоятельности и даже некоторой «премьерской важности» основных исполнителей, напоминала детей, детский коллектив под присмотром их руководителя Малиновского.
Некоторые артисты были несомненно одаренными, талантливыми. Например, один из самых маленьких ростом, выступавший под псевдонимом Колибри, был определенно талантлив, темпераментен, очень музыкален, прекрасно танцевал и в «Ревизоре» хорошо исполнял роль Бобчинского или Добчинского. Премьер труппы, Любимов, игравший Хлестакова, обладал хорошеньким личиком и среди женской части коллектива несомненно являлся местным «львом»; он тоже был неплохим исполнителем, хорошо двигался, танцевал и выглядел вполне на месте в роли Хлестакова.
Оперетта «Ревизор» в исполнении труппы лилипутов имела явный успех и стала популярной у ленинградцев, посещавших спектакли по нескольку раз, так же как и концерты, так как это было весело, а главное – талантливо. Таким образом, у труппы лилипутов среди ленинградцев образовалась своя публика. Нашей маме, да и нам всем «Ревизор» явно нравился, мы запомнили текст наизусть, а мама его даже записала в одной из своих памятных тетрадей; нравились также отдельные исполнители ролей и номеров в концертах. Любимцем мамы стал лилипут Жорж Колибри, которому она посвятила (сочинила 19 ноября /2 декабря 1929 года) шутливые стихи, приводимые ниже:
О, мой Колибри дорогой!
Зачем осеннею порой
Приехал ты с Кавказа
И покорил меня в два раза.
Когда танцуешь голышом,
Во мне все ходит ходуном.
Готова с места я сорваться,
Чтобы с тобой расцеловаться!
Но я стара, мой взгляд уныл,
А ты, мой мальчик, юн и мил.
И ты не чувствуешь, злодей,
Что погубил меня, ей1ей!
Ведь стыдно мне на свет глядеть,
Перед детьми всегда краснеть:
«Куда бежишь ты, мама?» «В ТАМ[62]62
ТАМ – театр актерской молодежи (помещался на Невском пр., 20).
[Закрыть]!
Ах, я погибну, верно, там».
Но жизнь текла печально и уныло.
И все на свете мне постыло.
Но ты блеснул, как метеор,
И загорелся вновь мой взор.
Нельзя винить меня за то,
Ведь ты мне нужен, как вино,
Чем поддержать остаток сил,
Чтоб мир казался вновь мне мил.
Так мама откликалась на все талантливое и интересное, что имело прямое отношение к ее любимому, ставшему ей привычным театральному искусству.
В конце двадцатых – начале тридцатых годов между Аллой и Сережей возникла шутливая переписка в стихах, и в одном из писем Алла написала:
Ах, Серж! Сказать тебе забыла –
Мамака наша загрустила;
Ты верно знаешь, что она
Любовью к карликам полна.
Колибри – лилипут прекрасный,
Весь обнаженный и опасный –
В ней даже рифмы пробудил
И стих сей – Пушкина затмил!
Портрет его у изголовья
Лишал мамаку хладнокровья…
Но бьет судьба не там, так тут –
Исчез коварный лилипут!
Мамака по ночам рыдает
И рамка вся от слез линяет.
Театр уехал… счастья нет,
Остался лишь один портрет!
О, Серж! Не можешь ли найти
Другого карлу, чтоб спасти
Мамаку нашу от мученья,
А Ленинград от наводненья?…
Любовь, любовь, как много зла
Она в семью к нам принесла!
Быстро промелькнувшие годы НЭПа сменились годами индустриализации страны, коллективизации сельского хозяйства, многочисленных судебных процессов над вредителями и врагами народа, практикой массовых тюрем и ссылок – годами, когда все жили под гнетом вечного страха, голода в провинции, продуктовых карточек и полуголодного существования для большинства проживающих в Ленинграде, Москве и еще трех-четырех городах, поставленных на особое снабжение.
В тридцатые годы нанять прислугу было уже практически невозможно, все девушки и женщины стремились работать на какомнибудь производстве – на заводах или фабриках, в учреждениях.
Тиса пошла работать, Алла жила в Москве, учась и работая в театре имени Вахтангова, Сережа с женой Галей и сыном Петяшкой еще несколько лет назад уехали в Шебекино, под Белгород, я учился в институте, поэтому тяжелый неблагоустроенный быт нашей плохо устроенной жизни с примусами и керосинками (газа тогда в Ленинграде не было) в условиях проживания в коммунальной квартире, с начала тридцатых годов все больше наваливался на плечи нашей мамы.
Петр Сергеевич Оленин-младший
Было это в 1925 или 1926 году. В один из вечеров мы всей семьей находились в театре, не помню уже в каком, но могу предположить, что, вероятнее всего, ходили в Мариинский слушать в «Пиковой даме» или в «Вертере» Николая Константиновича Печковского, недавно приглашенного директором академических театров Иваном Васильевичем Экскузовичем премьером на амплуа лирикодраматического тенора.
Если можно так сказать, Николай Константинович тогда «входил в силу» в Ленинграде и охотно доставал места для своих поклонниц и поклонников, искренне способствовавших его успеху.
В такие вечера, когда бывали семейные выезды в театры или в гости, четырехлетний Петяшка – Петр Сергеевич Оленин – оставался на попечении тети Вари (Варвары Семеновны Гецевич, моей крестной матери), жившей вместе с нами, хотя и на собственном хозяйстве.
Петяшка был общим любимцем как всех родных, так и всех близких знакомых, друзей, приходивших в наш гостеприимный дом. Родители его, Сергей Петрович и Галина Владиславовна Оленины, и баба Маня (Севастьянова) обожали Петяшку Этот обаятельный мальчик с лучистыми глазами несомненно был умен и очень талантлив от природы, добр и общителен.
В описываемый вечер, возвратясь из театра около половины двенадцатого ночи, мы застали сидящих в столовой Веру Ивановну и Алексея Ивановича Демидовых в обществе Петяшки, который им что-то декламировал. Оказывается, они пришли около половины восьмого вечера, навестить Марию Сергеевну; Петя их любезно пригласил пройти в комнату и подождать возвращения бабуси.
Пришедшие были раздосадованы тем, что не застали хозяйку дома, да и никого из взрослых не оказалось, и попросили разрешения немного посидеть с Петяшкой, которого, как и все знавшие этого очаровательного мальчика, очевидно любили. Сняв верхнюю одежду, гости прошли в столовую, где Петяшка их стал занимать как умел. А умел он, по своим годам, не так уж мало – мальчик был смышленый, наблюдательный, обладал хорошей памятью, в том числе музыкальной и быстро заучивал стихи и песни, а когда его просили что-нибудь рассказать или спеть, не кривлялся и не отнекивался и, без стеснения, как говорят, «выдавал товар лицом», а так как это было талантливо и темпераментно, то Петяшку охотно слушали, охотно с ним общались: это никогда не было скучно, наоборот – занятно. К тому же Петяшка не докучал капризами и плачем.
Петяшка любезно предложил гостям чая, и тете Варе с домработницей пришлось устроить чаепитие, подав к столу, что нашлось в доме.
Вероятно, Петяшка, за целый вечер, исполнил для гостей свой полный «репертуар», в том числе стихи про неудавшуюся прогулку зимой молодой парочки, поскользнувшейся и упавшей возле какого-то дома, из-за чего для молодого человека получился полный конфуз:
Морозной пылью серебрится
Букет назойливых кудрей.
Игривый взгляд в глазах искрится
У юной спутницы моей.
Идем мы рядом, сердце бьется
так пылко, пылко, горячо,
когда, едва лишь, прикоснется
к ее руке мое плечо… (и т. д.)
Конечно, прозвучали и столь характерные для двадцатых годов стихи про машину, не дающую ни на миг отдохнуть работающему на ней:
Стой, проклятая машина!
Дай хоть миг мне отдохнуть,
Дай хоть раз усталой грудью
Посвободнее вздохнуть…
Нет, не слушает машина –
Знай стучит себе, стучит…
Отдохнешь в сырой могиле,
Этот стук мне говорит…
Вероятно, рассказывал он и другое, про что я забыл за давностью лет, и, наверняка, исполнил свой коронный номер – модную в середине двадцатых годов песенку, довольно фривольного содержания, смысла которой маленький исполнитель, конечно, не понимал; думаю, этой песенке выучил его отец – для забавы взрослых слушателей:
Зашла я в склад игрушек
И разных безделушек[63]63
Не умея еще правильно выговорить слово «безделушки», Петя пел: «и разных бездельмушек».
[Закрыть],
Вечернею порою, как1то раз.
Из тысячи фигурок
Понравился мне турок –
Глаза его горели, как алмаз!
Я наглядеться не могла на бравый вид.
А турок мне с улыбкой говорит:
«Разрешите, мадам,
заменю я мужа Вам,
если муж уедет по делам… (и т. д.)
Вот так нежданные гости, незаметно для себя, и засиделись до позднего прихода хозяев из театра.
В конце 1926 или в начале 1927 годов семья Олениных уехала из Ленинграда в Шебекино под Белгород, где у Галины Владиславовны оставались родные; Ленинград она не любила, и Сереже в конце концов пришлось уступить, так как там царила безработица и найти место стоило большого труда. Галина Владиславовна была дантистом, но, по-моему, к специальности своей была холодна и работала, живя в Шебекино (на своей родине), лишь потому, что нужны были хоть какие-то средства к существованию; она увлекалась любительским театром и с удовольствием всегда в нем участвовала, в том числе и в годы после отъезда из Ленинграда. Мне кажется, это стало одной из причин, почему Галина Владиславовна предпочитала жить в провинции.
Сережа устроился в Шебекино в местный клуб музыкальным руководителем и аккомпаниатором.
Когда Оленины еще жили в Ленинграде, каждое утро Петяшка приходил к бабе Мане в спальню, пока она лежала еще в большой деревянной двуспальной кровати (на которой мы все, ее дети, родились).
Подойдя к бабе Мане, Петяшка здоровался с ней следующим образом: «Доброе утро, бабуся», «Bonjour, grande-mere», «Guten Morgen», «Салям аллейкум», «Низкий поклон» (при этом наклонялся, отвешивая ручкой поклон до пола) и, наконец, хлопал бабу Маню по ладони своей маленькой ладошкой и говорил: «Вот тебе все пять!» На этом утренний ритуал заканчивался и баба Маня спрашивала, обычно, встали ли его мама и папа?
Однажды Петяшка пришел хмурый и, не очень охотно проделав утренний ритуал приветствия бабуси, тяжело вздохнул. На вопрос бабы Мани, почему он грустный и будто, не выспался, Петяшка, на вздохе, хмуро ответил: «Всю ночь ругались…»
В июне 1928 года мама, Тиса и я (на последние «гроши», как Алла смеялась в своих стихах по поводу этой поездки: «Едут, едут голыши/ на последние гроши…/ Едет, едет, едет рать/ в новом месте занимать!») ездили в Шебекино к Олениным, главным образом, чтобы повидаться, а возможно, и отдохнуть. Пробыли мы в Шебекино недолго, вспоминается, что не более двух недель, жили у какой-то хозяйки в украинской хате, снимали комнату. Глупый шпиц хозяйки так и не привык к нам и каждый раз, когда кто-нибудь из нас входил в калитку садика возле хаты, с лаем бросался на пришельца и не пускал; впрочем, так же бросался он и на свою хозяйку, из чего я сделал вывод, что шпицы – глупая порода.
В Белгороде, проездом в Шебекино, мы познакомились с родственниками Гали (жены Сережи), о которых много лет до этого знали понаслышке, так же как и они про нас, и были ими приняты очень радушно, с роскошным, по тем временам, обедом. Тогда мы познакомились с «уютной» бабушкой Гали по материнской линии, звали ее Мария Палладиевна, с милейшим отцом Владиславом Антоновичем Генкст (который, кажется, был сахароваром на заводе, принадлежавшем до революции богачам Ребендерам), с его детьми – уже замужними дочерями Зоей и Леной, и еще маленькой Любочкой, а также с сыном Женей. К Владиславу Антоновичу и Жене местные белгородские власти, видимо, благоволили, хорошо их знали, в чем мы убедились на обратном пути из Шебекино в Ленинград. Но об этом позже.
Недавно, перелистывая тетради мамы, где она записывала стихи своих детей, родственников и друзей, я увидел следующую ее запись:
«Стихи, которые Петя[64]64
Пете было 6 лет.
[Закрыть] говорил мне на другой день моего приезда в Шебекино, 11/24июня, 1928 г. Воскресение.
Наша серенькая кошка
Простудилась у окошка.
Испугались не на шутку
Мы за бедную Машутку
И решились, сгоряча,
Звать профессора-врача.
Я немедленно лечу
К знаменитому врачу.
Доктор, дома Вы? Да! Дa!
Помогите нам – беда!
Наша серенькая кошка
Простудилась у окошка,
И теперь у бедной Маши
Сильный жар, озноб и кашель.
Я могу Вам дать совет:
Чтоб избегнуть лихорадки
Надо выпить кофе сладкий,
А потом лежать в постели
С теплым бинтиком на теле.
Испугались вы напрасно,
Это все же не опасно.
Я от доктора иду
Повторяю на ходу:
Чтоб избегнуть лихорадки,
Надо выпить кофе сладкий,
А потом лежать в постели
С теплым бинтиком на теле.
Но в ту минуту
Я рецепты перепутал
И явился от врача,
Оглушительно крича:
Чтоб избегнуть лихорадки
Надо скушать бинтик гладкий,
А потом лежать в постели
С теплым кофеем на теле!
Все, с большущим увлеченьем,
Принялися за леченье.
Добрый дедушка Прокофий
Заварил душистый кофе,
Перелил тот кофе в миску
И облил из миски киску.
Киска прыгает, как мяч…
Что за средство?!
Вот так врач!!
Больше доктор мне не нужен…
Если я, друзья, простужен,
Говорю я тете Анне:
Завари мне кофе в ванне».
Нa этом я заканчиваю повествование о Петре Сергеевиче Оленине-младшем.
Остается досказать, как на обратном пути из Шебекино в Ленинград мы долгие часы сидели в полной неизвестности на вокзале в Белгороде, в чаянии купить билеты хоть на какой-нибудь поезд, который мог бы нас довезти если не до Ленинграда, то хоть до Москвы.
Коротая время, я и Тиса стали играть в игру «Военно-морской бой». Играющие расчерчивают квадратный планшет из ста клеток, со сторонами по десять клеток и, аналогично шахматной доске обозначают клетки планшетов буквами по горизонтали и цифрами по вертикали. По своему усмотрению играющие размещают на планшетах различные типы «военных кораблей» – прямоугольники, занимающие, каждый, две, три, четыре, пять клеток на планшете – они изображают канонерки, подводные лодки, крейсеры, дредноуты.
Играют следующим образом: противники, поочередно «давая залпы» – называя наименования клеток планшетов, например, 2В, 4К, 7Д (залп из трех выстрелов), стараются «попасть» в «кораблипрямоугольники противника – и, в конечном итоге, все „корабли“ противника „уничтожить“. Если на названных клетках оказывается расположенным какой-то „корабль“, он считается „пораженным“, но, чтобы „уничтожить“ его, надо назвать все клетки, на котором „корабль“ расположен. При „поражении“ противник объявляет, например: „одно попадание в дредноут, другое – в канонерку“.
Вот мы с Тисой, чтобы скоротать время, сидели и по очереди называли клетки планшетов и «пораженные военные корабли». А мама наша, сидя, подремывала после довольно утомительного переезда на местном поезде из Шебекина в Белгород.
А по соседству с нами все вертелся невзрачного вида неряшливый мужичонка, который, видимо, прислушивался к тому, что мы с Тисой говорили, и наши дредноуты, подводные лодки и канонерки вызвали у него подозрение – уж не шпионы ли мы?!
В то время Белгород был пограничным городом между РСФСР и Украиной, – мало ли что может случиться на границе! К тому же я был явно необычно одет – в короткие золотистого цвета атласные штаны и атласную же лиловую рубашку, сшитые из маминых сценических костюмов, таких там, в «пограничном Белгороде», отродясь никто не видывал, а эти разговоры про поражение крейсеров и подводных лодок… ясно, диверсант, шпион!
Закончив играть, я вышел на перрон, посмотреть нет ли надежды на приход какого-нибудь поезда, и вот тут, как из-под земли, «вырос» передо мной высокий человек из железнодорожной военизированной охраны; он сказал, чтобы я шел за ним, и привел меня, тут же на перроне, в какую-то комнату с зарешеченным окном, в которой были еще двое военных, начавших меня допрашивать – кто я, почему и для чего я здесь, с кем и про какие канонерки и подводные лодки я говорил? Узнав, что я не один, а с матерью и сестрой, послали человека за ними и через несколько минут привели маму и Тису, и допрос, уже троих, возобновился. Пришлось все подробно объяснять – для чего и к кому приехали, и спасло нас упоминание имен Жени Генкста и его отца Владислава Антоновича, которых, видимо, знали и которым верили. Послали за Владиславом Антоновичем, привезли его, и после того как он нас опознал и подтвердил рассказ о том, почему мы оказались в Белгороде, нас отпустили. К вечеру нам удалось купить билеты и уехать из злополучного Белгорода.
Вот среди какой «пролетарской бдительности» мы все еще жили в 1928 году, спустя 11 лет после Октябрьской революции. Впрочем, в 1928 году назревали, а может быть, уже и начались (я не помню) военные события на КВЖД, но это же на Дальнем Востоке…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?