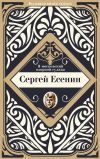Текст книги "Сергей Есенин"
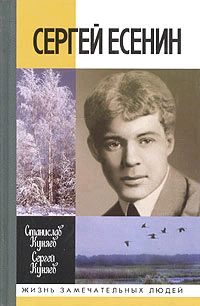
Автор книги: Станислав Куняев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Сразу после второго обыска он с легкой иронией пишет Грише Панфилову: «Во-первых, я зарегистрирован в числе всех профессионалистов, во-вторых, у меня был обыск, но все пока кончилось благополучно. Вот и все. Живется мне тоже здесь незавидно». Но почему? Из-за слежки и обысков? Нет, по другим причинам, о чем он дальше пишет уже безо всякой иронии: «Думаю, во что бы то ни стало удрать в Питер… Москва не есть двигатель литературного развития, а она всем пользуется готовым из Петербурга. Здесь нет ни одного журнала… Есть, но которые только годны на помойку, вроде „Вокруг света“, „Огонек“…»
Вот где собака зарыта, вот почему, побаловавшись игрой в «сознательного рабочего», Есенин начал собираться в Питер, который влечет его отнюдь не как «колыбель» будущей революции, а как средоточие настоящей литературной жизни.
* * *
Типография «товарищества И. Д. Сытина», где Есенин сначала работал грузчиком в экспедиции, а потом корректором, была крупнейшей в России. Каждая четвертая русская книга печаталась здесь. Сам хозяин приехал в Москву, будучи еще моложе Есенина (четырнадцати лет), из костромской глуши. Так же, как Есенин, без копейки в кармане. По-есенински, без отцовской помощи, поступил «мальчиком на побегушках» в книжную лавку на Никольском рынке, что раскинулся возле Китайгородской стены. (Есенин двадцатью годами позже, как и Сытин, зарабатывал какое-то время на жизнь в книжной лавке на Страстной площади.) Четыре года Сытин отворял в книжной лавке дверь посетителям. Но, как вспоминает писатель Н. Телешов: «Призванный „отворять двери“ в книжную лавку, Сытин впоследствии… во всю ширь распахнул дверь к книге, так распахнул, что через отворенную дверь он вскоре засыпал печатными листами города и деревни, и самые глухие „медвежьи углы“ России».
Интересы народного просвещения для Сытина всегда были выше интересов предпринимательских. Он был человеком из породы Третьяковых, Мальцевых, Сувориных, Морозовых, работавших для России и ценивших русского человека. «Это великолепный, может быть, лучший в Европе рабочий! Уровень талантливости, находчивости и догадки чрезвычайно высок… Во главе моей фабрики, которая как-никак была самой большой в России и насчитывала сотни машин, стоял сын дворника, человек без образования и без всякой технической подготовки… Как он вел дело? Выше всякой похвалы», – писал уже после революции Сытин в книге воспоминаний.
…Три сестры – Анна, Серафима и Надежда Изрядновы, жившие тогда в Москве, были типичными «прогрессивными» девушками эпохи. Сами зарабатывали себе на жизнь, бегали на лекции и митинги, увлекались модными поэтами Бальмонтом, Северяниным, Ахматовой. Сергей Есенин при первой же встрече взволновал сердце Анны: «Он только что приехал из деревни, но по внешнему виду на деревенского парня похож не был… На нем был коричневый костюм, высокий накрахмаленный воротник и зеленый галстук. С золотыми кудрями он был кукольно красив, окружающие по первому впечатлению окрестили его вербочным херувимом. Был очень заносчив, самолюбив, его невзлюбили за это». Как все случилось дальше, можно только гадать: то ли молодая Анна (носившая, кстати, особенно притягательное для поэта имя) влюбилась в «сказочного херувима», то ли он, страдавший от одиночества, ушедший от отца, без друзей в Москве, истосковался по чьей-нибудь заботе и ласке? Но, как вспоминает Изряднова, «ко мне он очень привязался, читал стихи. Требователен был ужасно, не велел даже с женщинами разговаривать».
Молодые сняли комнатку возле Серпуховской заставы и начали семейную жизнь. Однако скоро выяснилось, что Есенин не из тех мужей, которые ищут счастья у семейного очага, в жене, детях, налаженном быте. «Жалованье тратил на книги, журналы, нисколько не думая, как жить», – сетовала Анна. А думать между тем надо было: Анна ждала ребенка. Но Есенин словно и не замечал этого. Его внутреннее состояние резко и капризно меняется. Он мечется, не зная, как ему жить и что делать дальше. Жена ждет ребенка, а он летом 1914 года бросает работу в типографии: «Москва неприветливая – поедем в Крым». В Крым едет, но без жены – денег на двоих не хватает. О жизни поэта в Ялте можно судить по письму домой, которое сохранилось в архиве Екатерины Есениной.
«Дорогие родители!
Кланяюсь я вам и желаю всего хорошего. Папаша! Письмо я твое получил. Ты пишешь, когда я приеду в Москву, я готовлюсь ехать каждый день. Оставаться в Ялте опасно, все бегут. Вследствие объявленного военного положения в Севастополе тут жить нельзя. Я бы и сейчас уехал да нельзя. Все приостановлено. Теперь найму автомобиль до Симферополя со своими товарищами и поедем в Москву. Дела очень плохи. Никуда нельзя съездить. Почта большие пакеты не принимает. Я только выручил себя на стихах, в Ялтинской газете 30 к. за строчку.
Кругом паника.
Недавно я выступал здесь на одном вечере. Читал свои стихи. Заработал 35 рублей. Только брал напрокат сюртук, брюки и башмаки, заплатил 7 рублей.
Остальные дела ни шиша не стоють.
Больше не пиши.
Скоро буду в Москве.
Любящий тебя сын Сергей Есенин.
Больше никуда никогда не поеду, кроме Питера и Москвы.
Тоска ужасная. Так и хочется плакать».
Из Крыма кое-как вернулся через месяц – Анна была вынуждена пойти на поклон к отцу Есенина и выпросила у него деньги на обратную дорогу для Сергея. Есенин возвращается, но, как вспоминает Изряднова, «опять безденежье, без работы, живет у товарищей». Чтобы как-то содержать семью, он снова в отчаянии идет на корректорскую работу в типографию Чернышева-Кобелькова. Но его энергии хватает всего лишь на два месяца: «Работа отнимает очень много времени: с восьми утра до семи часов вечера, некогда стихи писать. В декабре он бросает работу и отдается весь стихам, пишет целыми днями… В конце декабря у меня родился сын» (А. Изряднова). Молодая жена уже почувствовала, что его «чистота» и «свет», его «нетронутая хорошая душа» предназначены не для семейной жизни, а для чего-то другого. Хотя, воротясь домой с ребенком на руках, она была тронута: «У него был образцовый порядок: везде вымыто, печи истоплены, и даже обед готов и куплено пирожное, ждал. На ребенка смотрел с любопытством, все твердил: „Вот я и отец“»… Твердить-то твердил, но «в марте поехал в Петроград искать счастья». От добра добра и от счастья счастья не ищут. Юная мать, видимо, понимала, что убранная квартиpa, обед с пирожными – это лишь трогательный эпизод, и с виноватой застенчивостью писала: «Есенину пришлось много канителиться со мной». Он же в это время был занят только мыслями о стихах, о будущей поэтической судьбе, и конечно же его первый брак (впрочем, как и все остальные) был обречен на неудачу. Несмотря на то, что Изряднова была верной и преданной ему женщиной, одной из тех, по воспоминаниям современницы, «на которых мир стоит».
В подобной ситуации разные поэты ведут себя по-разному.
Я бедствовал. У нас родился сын.
Ребячества пришлось на время бросить, —
писал о подобном периоде в своей жизни Борис Пастернак. Есенин бросить свое «ребячество» не мог и не желал. Но воспоминание о прошедшем осталось, и причудливым образом оно высветится в стихах 1916 года:
Не с тоски я судьбы поджидаю,
Будет злобно крутить пороша.
И придет она к нашему краю
Обогреть своего малыша.
Снимет шубу и шали развяжет,
Примостится со мной у огня.
И спокойно и ласково скажет,
Что ребенок похож на меня.
О преданной ему Анне Есенин помнил всегда. В трудную для него осень 1925 года пришел именно к ней во Вспольный переулок, в ее полуподвальную комнатушку, попросил затопить плиту, вытащил какой-то сверток с бумагами и стал бросать их в пламя. «В своем сером костюме, в шляпе стоит около плиты с кочергой в руке и тщательно смотрит, как бы чего не осталось несожженным» (А. Изряднова).
Точно так же незадолго до смерти Александр Блок сжег какие-то свои бумаги и записные книжки. У поэтов, видимо, есть предчувствие, когда им пора освобождаться от лишних бумаг. Что сжег Есенин в сентябре 1925 года, мы не узнаем никогда.
В последний раз Анна Изряднова видела его перед роковой поездкой в Ленинград: «Сказал, что пришел проститься. На мой вопрос: „Что? Почему?“ – говорит: „Смываюсь, уезжаю, чувствую себя плохо, наверное, умру…“ Просил не баловать, беречь сына».
Не уберегла. Юрий Есенин был расстрелян 13 августа 1937 года в Москве, где и родился, по обвинению в подготовке покушения на Сталина.
* * *
В семидесятые годы XIX века в Москве вокруг довольно известного в то время поэта Ивана Сурикова образовался кружок литераторов, который стал называться Суриковским. Он объединял начинающих писателей из рабочей и крестьянской среды и был тем очагом культуры, возле которого грелись не великие и не знаменитые, но по-своему тянущиеся к литературе люди.
Весной 1912 года в Суриковский кружок Есенина привел его московский знакомый, тогдашний руководитель кружка С. Кошкаров. Есенин был принят сначала членом-соревнователем, а в начале 1914 года оформил свое полное членство, написав следующее: «Настоящим покорнейше прошу Совет кружка зачислить меня в действительные члены. Печатные материалы появлялись „Рязанская жизнь“, „Новь“, „Мирок“, „Проталинка“, „Путеводный огонек“».
Все перечисленные журналы были крохотными, малоизвестными детскими и юношескими изданиями. Но тем не менее для поэта все-таки был праздник, когда в журнале «Мирок» он увидел первое свое опубликованное стихотворение «Береза» под высокопарным псевдонимом «Аристон», заимствованным у Державина.
Правда, в письмах к Бальзамовой он сообщал ей о публикациях своих стихов под еще одним «красивым» псевдонимом – «Метеор», но эти материалы до сих пор не обнаружены, так же, как и первая публикация стихотворения «Сыплет черемуха снегом…», о котором через десяток без малого лет Есенин рассказывал Ивану Никаноровичу Розанову – своему возможному биографу, и которое уже содержало в себе мотив ожидания чудесного пришествия.
Радугой тайные вести
Светятся в душу мою…
Суриковский кружок был своеобразным профсоюзом, где существовала касса взаимопомощи, устраивались выставки, имелось слабенькое кооперативное издательство. Некоторое сектантство суриковцев было явлением неизбежным, потому что, отворачиваясь от питерской дворянской и интеллигентской литературы, они считали, что в их кружке «действительным членом может быть писатель, вышедший из народа и не порвавший с ним духовной связи». Этот народнически-классовый, вульгарный подход к литературе, своеобразная «махаевщина» на короткое время подействовали на Есенина и как бы «помрачили» его сознание, о чем свидетельствует одно из писем поэта к Грише Панфилову, в котором он выражает «симпатию и к таковым людям, как, например, Белинский, Надсон, Гаршин и Зла-товратский», и вдруг отказывает в любви Пушкину, Лермонтову, Некрасову, Гоголю… («Гоголь – это настоящий апостол невежества, как и назвал его Белинский…») Но вульгарное народническое помрачение (рецидив писаревщины) у Есенина быстро прошло и, к счастью, больше к нему никогда не возвращалось. Около года Есенин грелся возле суриковцев, слушал их стихи, «полные печали и гнева», призывающие народ к борьбе «с темными силами». Вершиной славы суриковцев было стихотворение Филиппа Шкулева «Мы кузнецы, и дух наш молод, куем мы к счастию ключи…». Есенин в подражание Шкулеву даже написал своего «Кузнеца»: «Куй, кузнец, рази ударом, пусть с лица струится пот. Зажигай сердца пожаром, прочь от горя и невзгод…» Однако поэт быстро понял, что путь социально-народнических деклараций не для него, и резко отошел от самодеятельности кружковцев.
Как это происходило – в 1926 году весьма выразительно рассказал критик и публицист Г. Деев-Хомяковский. Из его воспоминаний явствует, что суриковцы приняли Есенина лишь как перспективного общественника и пропагандиста передовых идей, умеющего писать стихи: «Деятельность кружка была направлена не только в сторону выявления самородков-литераторов, но и на политическую работу… Под видом экскурсий литераторов мы… ввели Есенина в круг общественной и политической жизни… Сережа был очень ценен… как умелый и ловкий парень, способствовавший распространению нелегальной литературы… Казалось нам, что из Есенина выйдет не только поэт, но и хороший общественник».
Им «казалось», а девятнадцатилетний Есенин между тем быстро постигал науку жить своим умом. Авторитетным старейшинам кружка – Кошкарову, Дееву-Хомяковскому, Завражному, Арскому вскоре стало казаться странным, что юноша, которого заметили, обласкали, устроили на работу, не делает никаких усилий, чтобы стать хорошим «общественником». («Правда, нам через товарища Клейнборта удалось на некоторое время задержать падение Есенина».) Ему гораздо интереснее было ходить в университет Шанявского, вести переписку с питерскими журналами, постоянно отлучаться из Москвы то в Крым, то в Константиново, нежели распространять легальную и нелегальную литературу. Он уже не тот, каким был в первые месяцы дружбы с суриковцами, когда «выступал вместе с нами среди рабочих аудиторий на вечерах и выполнял задания, которые были связаны со значительным риском». Думается, что Деев-Хомяковский чересчур преувеличивает степень риска во время выступлений, но он отмечает, что вскоре Есенин «стал выказывать некоторую нервозность», стал тяготиться «безденежьем» суриковского кружка, не позволявшим кружковцам издавать свои книги. В марте 1915 года Сергей уехал в Питер. По словам председателя суриковцев, «с этого момента и начинается гибель Есенина как поэта-общественника и появляется поэт тоскующей лиры», «он окончательно ушел в салоны», «это возмутительное хождение Есенина по салонам… заставило кружок, вследствие ареста ряда товарищей… переживавший тяжелый кризис, порвать окончательно с ним [Есениным]».
В последнем письме, посланном суриковцами Есенину, «указывалось на его предательство делу рабочих и крестьян». Вот так. Ни больше ни меньше. Суриковцы даже после смерти поэта так и не поняли, что в 1915 году ему нужны были не маевки и нелегальщина, а лучшие поэты России, лучшие ее газеты и журналы, находящиеся в столице, лучшие издательства. А тут – Арский, Шкулев… Когда Есенин читал им свои стихи, то, по воспоминаниям очевидца, «они, искушенные поэты, просто пожимали плечами в крайнем недоумении и смущении… А когда он кончил читать, то все смотрели друг на друга, не зная, что сказать, как реагировать на совсем непохожее, что приходилось слышать до сих пор».
Любительский уровень Суриковского кружка Есенин перерос меньше чем за год. Но с ним считались. Когда зимой 1915-го он прочитал на очередном заседании стихотворение «Русь», то был избран в редакционную комиссию кружка и… тут же повел себя как хозяин. Он заявил, что уровень стихотворений, публикующихся в журнале суриковцев «Друг народа», жалок и что надо отбирать стихи более строго. Комиссия возмутилась, и Есенин был выведен из ее состава.
В отместку он через день принес старейшинам-суриковцам заявление: «Прошу Совет кружка вычеркнуть меня из числа действительных членов и возложенных на меня обязанностей кружка». Не очень грамотно, но зато очень ясно объяснил Есенин кружковцам, что делать ему у них больше нечего.
Когда речь шла о его поэтической судьбе, молодой Есенин умел принимать самые резкие решения и делать самые рискованные шаги, не обращая внимания на недовольство товарищей, помощников, меценатов. В будущем эта способность к разрывам и к стремлению жить своим русским умом не раз помогала поэту разговаривать на равных с самыми значительными людьми его эпохи.
* * *
Гораздо больше, нежели Суриковский кружок, дал Есенину народный университет имени Шанявского, который он начал посещать в сентябре 1913 года. Меценат польского происхождения, Альфонс Львович Шанявский, разбогатевший на золотых сибирских рудниках, в 1905 году предложил Московской городской думе «принять от него в дар дом в Москве для почина, в целях устройства и содержания в нем или из его доходов народного университета». Три года шли в Государственной думе дебаты о том, открывать его или не открывать. Пуришкевич не без оснований предупреждал депутатов, что новый народный университет может стать «источником новых вспышек революции». В том же духе высказывался и министр просвещения Шварц. Однако сопротивление охранителей и консерваторов было в конце концов сломлено, и в 1913 году университет открылся. Преподавателями института были поэт Валерий Брюсов, критик Юлий Айхенвальд, ботаник К. А. Тимирязев, физик П. Н. Лебедев, московские гуманитарные профессора П. Н. Сакулин, А. Е. Грузинский, М. Н. Сперанский.
Полтора года университета дали Сергею Есенину ту основу образования, которой ему так не хватало до сих пор.
«Слушаем лекцию профессора Айхенвальда, – вспоминает однокашник Есенина по университету Б. Сорокин, – он почти полностью цитирует высказывание Белинского о Боратынском. Склонив голову, Есенин записывает отдельные места лекции. Я сижу рядом с ним и вижу, как его рука с карандашом бежит по листу тетради: „Изо всех поэтов, появившихся вместе с Пушкиным, первое место, бесспорно, принадлежит Боратынскому“. Он кладет карандаш и, сжав губы, внимательно слушает. После лекции идем на первый этаж. Остановившись на лестнице, Есенин говорит: „Надо еще раз почитать Боратынского“».
Вместе с товарищами-шанявцами, будущими поэтами Василием Наседкиным, Николаем Колоколовым, Дмитрием Семёновским, Есенин наслаждается культурной жизнью Москвы, посещает Третьяковскую галерею, где на него производят сильное впечатление картины Поленова, Репина, Левитана.
– Смотрел Поленова. Конечно, у «Оки» его задержался, и так потянуло от булыжных мостовых домой, в рязанский простор, – обмолвился он как-то Борису Сорокину.
Их компания собирается в маленькой квартирке студентки Марии Бауер, дочери богатого сибирского промышленника, впоследствии, в 1930-е годы, проходившей по «делу» старшего друга Есенина критика Иванова-Разумника и отправленной после этого в ссылку. Мария угощает их чаем с пирожными, кокетничает с Есениным, предлагает всем вместе пойти на «Вишневый сад», посмотреть тогда уже знаменитых актеров – Качалова, Москвина, Леонидова, Книппер-Чехову… «В антракте… облокотившись на кресло, Сергей молчит. И только когда Наседкин спросил его, нравится ли спектакль, он, словно очнувшись, сердито проронил: „Об этом сейчас говорить нельзя! Понимаешь?“» (Н. Саратовский).
На одном из поэтических вечеров в университете Есенин прочитал новые стихи:
Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.
Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».
Свое впечатление от стихов один из студентов выразил так:
– Особенно хороши были стихи о деревенской природе. Как на свежий стог сена сел…
Именно в университете Есенин основательно знакомится с европейской и американской литературой, впоследствии он свободно будет ориентироваться в ней, вспоминая произведения Данте, Шекспира, Оскара Уайльда, Эдгара По, Лонгфелло, Уитмена.
Услышав о молодом поэте, его приглашает к себе маститый профессор Сакулин, просит почитать стихи. «Отзыв критика был, по-видимому, очень лестен для Сергея. Из передаваемых им подробностей этого визита я помню, что стихотворение „Выткался на озере…“ Сергей для Сакулина читал дважды» (Н. Сардановский).
Но с кем бы он ни встречался, какие бы разговоры и споры ни вел, а к концу 1914 года он все чаще и чаще повторял:
– Поеду в Петроград, пойду к Блоку. Он меня поймет!
Недаром французская пословица гласит: «Поэты рождаются в провинции, а умирают в столице». Судьбоносное решение было окончательно принято. В марте 1915-го Есенин сошел на платформу Николаевского вокзала. Не зная, где искать Блока, побрел по Невскому, увидел большую книжную лавку, зашел. Робко спросил продавца, не знает ли он, где живет поэт Александр Блок. Продавец, к счастью, знал адрес…
По сравнению с тем юношей, который появился в Москве три года назад, Есенин, идущий по Невскому, был уже совершенно другим человеком. За эти три года он навсегда расстался с мыслью о работе, о службе, о постоянном заработке. Его будущая жизнь виделась ему только как жизнь поэта, только как жизнь свободного художника.
Ясно ли, смутно ли, но он уже понимал, что поэзия окончательно взяла его душу в полон, что не его судьба – семья, дети, жена, уют, покой. Ни сил, ни желания для этой столь необходимой каждому обычному человеку стороны жизни у него не будет. Женщины, романы, увлечения – другое дело, как же поэту без них?
Он навсегда расстался с мыслями о своем месте в революционном движении, о социал-демократических соблазнах, с мыслями о нелегальщине, общественной работе, политической карьере. Он поэт. А все, что с ним произошло, – лишь временная лихорадка молодого незрелого ума.
Он навсегда расстался с иллюзиями удобного самодеятельного полуграфоманского существования при всякого рода кружках и литобъединениях типа Суриковского. Он – Сергей Есенин, а они – все остальные.
Он понимал, что таких исповедальных писем, какие ему довелось писать Грише Панфилову, он больше никому и никогда не напишет. Во всех будущих письмах он откровенен, но в меру, практичен, прикрыт маской, защищен тем пониманием жизненного успеха, о котором сказал в «Черном человеке»: «Казаться улыбчивым и простым – самое высшее в мире искусство». А вся исповедальная энергия его души отныне только в стихах.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?