Текст книги "Другой фотограф"
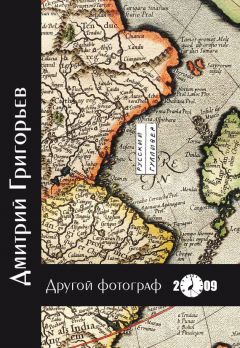
Автор книги: Степан Бердинских
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Дмитрий Григорьев
Другой фотограф Книга стихотворений
Об авторе
Дмитрий Григорьев родился в Ленинграде в 1960 году.
Учился на химическом факультете Ленинградского государственного университета, где занимался исследованием феромонов насекомых.
Работал бетонщиком, плотником, мозаичником, оформителем, аспирантом, старшим лаборантом, старшим лейтенантом (ликвидатором последствий аварии на ЧАЭС), журналистом, редактором (редактировал разное – от книг до глянцевых журналов), стекломоем, оператором газовой котельной и т. д. (в общей сложности более 20 профессий).
Автор многих публикаций в толстых и тонких журналах, нескольких книг стихов и прозы, член Союза писателей СПб, Землемер Незримой Империи, президент и один из отцов-основателей «Всемирной Ассоциации Любящих Изабеллу» (ВАЛИ), лауреат премии имени Н. Заболоцкого и т. д.
Тайна естественности
Среди петербургских поэтов своего поколения Дмитрий Григорьев – в некотором смысле белая ворона. Создается впечатление, что очень многие стороны «общего» опыта не то чтобы обошли его стороной, но оказались для него ненужными или несущественными, что многие яды, впитавшиеся в кожу его сверстников, изменившие состав их крови и одних погубившие, других закалившие, на него просто не подействовали.
В восьмидесятые годы молодые ленинградские поэты – по крайней мере значительная их часть – ощущали крайнюю меру отчуждения от окружающего мира и языка. Это было связано и с особенностями эпохи, и с «духом места», с «излучениями города», какими они были тогда (а они меняются). Чувство сопротивления материала было слишком велико, и только крайним напряжением голоса, сдвигом зрения и речи можно было это сопротивление преодолеть и нащупать собственный канал получения и преобразования лирической энергии. (Разумеется, были и благополучные эпигоны, которые никакого сопротивления не ощущали, кроме разве что иногда цензурно-редакторского – но речь не о них.)
Но Григорьев, кажется, жил в другом воздухе, впитывал другие излучения. Он как будто остался на всю жизнь в году своего рождения, 1960-м, со свойственными раннему шестидесятничеству естественностью, открытостью, простодушным бесстрашием поэтического дыхания, только без обаятельной безвкусицы тех лет. Он кажется товарищем, к примеру, своего однофамильца Олега Григорьева, или Сергея Вольфа, или прозаиков Рида Грачева и Виктора Голявкина.
Образ в его стихах как будто сам рождается из движения фразы. Но эта естественность не отменяет ремесленной (в высоком смысле слова), даже несколько «старомодной» хватки. Дмитрий Григорьев строит стихи не как резчик по дереву, даже не как столяр – как плотник, сколачивающий из крупных досок простую и прочную конструкцию, которая, ко всеобщему удивлению, способна летать. И, собственно, поэтическое чудо в данном случае заключается в том, что переход в другой мир (мир, главное свойство которого – чудесная непредсказуемость) происходит там, где вроде и не должен происходить.
Этот мир сюрреалистичен, но это не сюрреалистичность, рожденная болезненным сном или удивленным взглядом чужестранца. Нет, это мир сказки, иногда грустной или даже жестокой, но соразмерной человеку и потому – в каком-то смысле – комфортной:
Собаки лают наперебой,
за деревьями небо с разорванной губой,
Илья-пророк рассыпает горох
и электричество вырубает по всей деревне.
Он едет мимо нашего дома
на телеге, полной застывших слёз,
он засеял уже всю дорогу
и нам целый мешок привёз.
Слово «комфорт» надо понимать правильно. Григорьев никогда не говорит ничего утешительного, но речь у него всегда идет о любви, радости, страхе, смерти, а не об одиночестве, тоске, пустоте, обесчеловечивании. И при том никаких излияний: чувство сразу же становится метафорой, картинкой, историей. А разве не в этом величайшее достоинство человека – в способности сделать свое чувство картинкой и историей? И еще: серьезное высказывание у Григорьева никогда не исключает улыбки, а улыбка – серьезности.
Что же до формальных особенностей его стихов, то как раз здесь и видна полная свобода от догматизма и предзаданности. Григорьев пи-шет иногда строфическим и рифмованным, иногда свободным стихом; но очень часто стихотворение, начавшееся как типичный верлибр определенного типа («ленинградского», восходящего к Геннадию Алексееву и Сергею Кулле, основанного на синтаксических параллелизмах, часто содержащего ироническую наррацию), на ходу меняет «породу», прорастая рифмами. И это не производит впечатления небрежности или эклектики. Скорее, перед нами подобие джазовой импровизации.
Строки Григорьева задерживаются в сознании: «Танцуй, Саломея, чью голову ты попросишь, кому в серебре на красном лежать снегу…»; «Проехали Орехово, а дальше что, проехали с орехами, а что – куда…»; «Я гоню велосипед, мне десять лет, у меня есть настоящий деревянный пистолет….». Это свойство – не необходимый признак настоящей поэзии. Но достаточный. Настоящая поэзия бывает разной: порою, и очень часто, стихи требуют от читателя напряженных усилий, привыкания, преодоления инерции. Только такой ценой можно «войти в тайную комнату». Стихи Григорьева, напротив, открыты читателю, но и в них есть «тайные комнаты», отпирающиеся только перед любящим и внимательным взглядом. Хочется верить, что эта книга такой взгляд привлечет.
Валерий Шубинский
Часть 1
Имена снега
У меня небольшой выбор: всего три времени – прошлое, настоящее, будущее, ещё есть возможность использовать глаголы совершенного или несовершенного вида, плюс – инфинитив, сослагательное да повелительное наклонения. Вот, пожалуй, и всё. Впрочем, и словарный запас неполон – несмотря на обилие слов, вещей, требующих себе имени, становитсябольшеи больше.А тои наоборот:появляетсяновоеслово– и тенью за ним предмет, действие или свойство.
И я стал придумывать разные имена снега, например:
мягкие пушистые беспорядочно суетящиеся крупные снежинки, что прилипают на стекла и почти сразу становятся водой – снег перемен, Снех,
крупа, падающая с неба вертикальным или косым градом, порой голуби клюют её, путая с зернами, – снег обмана, Снек,
правильный морозный снег – мелкий, искристый, алмазная пыль из синего безоблачного неба, где крутится жёлтый солнечный диск – снег откровения, Сонег,
жёсткий вьюжистый, проникающий за пазуху и в карманы, забивающий глаза и уши своими собственными белыми словами смерти, за которым не видно огней вдоль дороги а фары встречной машины кажутся больными глазами – снег бытия, Знег,
снег свежевыпавший, спящий, рыхлый, из которого ничего не слепить, снег, делающий следы похожими друг на друга – снег потери, Хнег,
снег липкий, тяжёлый, пригодный и для снеговиков, и для снежков, и для снежных крепостей, снег, где можно прочитать отпечаток ладони как книгу, – снег памяти, Стнег,
твёрдый наст, поджаренный весенним солнцем, его острой коркой можно порезать руку, на нем можно прыгать и не проваливаться – снег стойкости, Снерг,
снег последний, городской, почерневший от сажи, умирающий, уползающий в тень ранеными белыми медведями, – снег ухода, Снелг,
и снег вечный – светящиеся горные вершины в фиолетовом небе, Снег.
«Горят скелеты ёлок на помойках…»
Горят скелеты ёлок на помойках,
зелёными иголками пронизан белый снег,
трещит огонь, и дым заглядывает в окна,
где спят медведями простые люди,
а непростые ходят вокруг ёлок,
бросая в пламя праздника следы,
и звёзды вылетают им навстречу,
и дым рисует райские сады.
«Кто сказал «ярка яранга огня»…»
Кто сказал «ярка яранга огня»,
кто спрятался среди белой тьмы,
маленький дом построила для меня
северная женщина посреди зимы,
звенят бубенцы – собак запрягай,
песней протяжной лети на край
этого мира, где птица пурга
в небе поёт про чукотский рай:
там наверху кончается лёд,
и звёзды на берег выносит прилив…
Но птица напрасно меня зовёт —
я и так живу на краю земли,
и её полёт – это мой пролет,
останется только перо в руке,
а песня её растает как мёд,
тягучий мёд на моем языке.
«Говоришь, у тебя – жизнь…»
Говоришь, у тебя – жизнь,
а у меня – мышь
ест под полом вчерашние крошки,
и я не зову кошку,
моя мышь шуршит и скребёт,
моя мышь все время грызёт,
и время от времени
я собираю эти огрызки времени:
в одном я раскладываю пасьянс,
который не может сойтись,
в другом – уже не моя,
а чья-то другая жизнь —
там слепая женщина вяжет паутину,
тонкие пальцы, капли-узелки,
дальше – то ли пепел,
то ли шерсть мышиная
сыпется сквозь щели
лодочки-руки.
«Тигровые лилии я посадил…»
Тигровые лилии я посадил,
красно-чёрные лилии,
чёткие линии я проводил
по тёмной и влажной зелени,
но однажды мне принесла судьба
сухие листья – полный грузовик,
и сказала: «Дело твоё – табак,
ты понял, старик!
Дело твоё – зелёная труха,
она превратится в облако-дым,
и нечего стоять на краю стиха,
лучше – лететь с ним».
Но как мне оставить лилии,
чёрные точки, красные линии?
«На ветру колышется репейник…»
На ветру колышется репейник,
и подсолнух головой качает —
он не станет нашим новым солнцем
и умрет ещё до снегопада,
пыль садится на большие листья,
лепестки его – живое пламя,
сотни глаз его на небо смотрят,
а не на дорогу под ногами,
ну а мы шагаем по дороге,
шелуху от семечек бросая,
как слова пустые между нами,
и подсолнух головой качает.
«Собаки лают наперебой…»
Собаки лают наперебой,
за деревьями небо с разорванной губой,
Илья-пророк рассыпает горох
и электричество вырубает по всей деревне.
Он едет мимо нашего дома
на телеге, полной застывших слёз,
он засеял уже всю дорогу
и нам целый мешок привёз.
Молоко превращается в простоквашу,
дорога становится глиняной кашей,
мешок тяжёлый лежит у порога,
открывать его страшно…
«…Смотрит в окно автобуса и спрашивает…»
…Смотрит в окно автобуса и спрашивает:
– Кто эта женщина, что копается в огороде,
одетая в старое, как бомжиха?
– Это мама моя, и она прекрасна,
из ласковых слов её платье,
из боли её башмаки.
А он все смотрит сквозь лёд-стекло
на то, что уже утекло,
на забросанную жирной глиной
траву на обочине, доски забора:
– Кто эта женщина возле крыльца,
будто цветная пыльца кружится?
– Это мама моя,
я приеду к ней скоро…
Но руки водителя – птицы,
и нечем нажать на тормоз.
Холодная осень
1
Холодная осень.
Мокрые дрова разжигаю
пачками черновиков.
2
Холодная осень.
Пеплом посыпаю головы
кустов клубники.
3
Холодная осень:
рябина, осина и красный клён —
вместо огня.
4
Холодная осень.
Каждое слово поднимается
белым облаком.
5
Холодная осень.
Утром алмазы в траве,
а вечером – в небе.
6
Холодная осень,
текущий часовой пояс: «Москва,
лето».
«Сделать окно повыше…»
Сделать окно повыше
на несколько листьев клёна,
на пару облаков
и стаю птиц,
сделать окно пошире
на два столба забора,
на ивовый куст и берёзу,
на три пушинки иван-чая,
сделать окно побольше
на одно тёплое лето,
на крыло ночной бабочки,
на стог жёлтого сена,
сделать окно такое,
чтобы забыть про стены.
«Когда я заснул – не помню…»
Когда я заснул – не помню,
когда я проснусь – не знаю,
у соседей собака лает,
и кто-то шуршит в сарае.
Трава на тропе примята,
а в поле прибита ветром,
солнце лежит на ветках
затёртой медной монетой,
приносит сосед опята,
жёлтые листья в грибах,
и темнеют черничные пятна
вместо слов на его губах.
«Сердце моё…»
Сердце моё,
пустой красный мешок
на ветке дерева
над дорогой качается —
некому снять.
«Похоронили Пана…»
Похоронили Пана
в тёмном лесу под ёлкой
похожей на дом, в который
никто не заходит,
похоронили Пана,
чтобы не раскопался,
завалили большими камнями
его могилу,
похоронили Пана,
стряхнули с ладоней землю,
тишину посадили рядом
и вышли в чистое поле.
Будем петь хвалу Аполлону,
ударим по струнам лиры,
день золотой встречая
трудом ударным!
Но чья в лесу плачет флейта,
мешает работать?
«Пятнами пота и крови…»
Пятнами пота и крови
так плотно меня запятнала
грязная злая работа —
пробивать подвальные стены,
и уже не упасть в радость,
не притвориться шлангом —
слишком много вдохнул пыли
слов тяжёлых,
и очень больно
нагибаться пускать воду.
Вот идут на прогулку дети,
смотрят в меня как в яму,
а куда им ещё смотреть,
если дорога прямо
проходит сквозь моё сердце,
совпадая с линией жизни,
пересекая линию смерти.
Приходили (Работа 1):
Слесарь КИПа с пузырьком чернил, красных, похожих на кровь.
Известный писатель с желанием разобраться в Интернете и настроить почту.
Фотограф, собравшийся в путешествие в тёплые страны, и его подружка художница.
Рабочие из соседнего подъезда с просьбой о шведках или разводном ключе.
Шведки, но другие, с русскими друзьями, посмотреть на вымирающее племя кочегаров.
Сменщик, свидетель Иеговы, как всегда вовремя.
Юная и красивая девушка, пишущая стихи, с пятью чашками из «Икеи», подарком от другой столь же красивой девушки, пишущей стихи.
Старая знакомая, вышедшая замуж за строителя и ушедшая от него в православие.
Писатели фундаменталисты с литровой бутылкой «путинки» и малой закуской.
Сменщица, милостиво согласившаяся опоздать на полчаса.
Бывшая подружка со своими нынешними проблемами, кучей вкусностей и пачкой чая.
Поэты после вечера в одном из клубов, с разными бутылками и разговорами.
Поэтесса со стихами, которые хороши на слух, но неинтересны на бумаге.
Сменщик, свидетель Иеговы, как всегда вовремя.
Приятельница с дочкой, которая изрисовала рабочий журнал корабликами.
Мастер, женщина с переменчивым настроением и однообразной записью в журнале «проверена работа котельной, разрешаю включить котёл номер один».
Вдохновение, если можно так сказать, часа на два, не более.
Сменщица чуть раньше, я даже не успел собраться.
Неловкий поэт по поводу сайта и директор фирмы, предоставляющей хостинг.
Ещё один директор, просто проезжавший мимо.
Музыканты, встреченные мной однажды в Москве, со скрипкой, джамбеем, собственной музыкой и запахом марихуаны.
Сменщик, свидетель Иеговы, как всегда вовремя.
Большая женщина из школы с громовым голосом, потому что сверху.
Племянник одной знакомой из соседнего дома, позвонить, потому что забыл мобильник и ключи.
Арт-директор некоего глянцевого журнала на белой праворульной «Тойоте», пытающийся убедить, что место водителя справа, а не слева.
Ветер, бросивший в дверную щель письмо – зелёный лист каштана. И откуда он взялся в апреле в нашем городе?
Сменщица в новом плаще вместо зимнего пальто.
Подменная операторша за морковкой, успевшей прорасти на окне.
Издатель путешественник, полный идей, но с пустыми карманами.
Просто путешественник на велосипеде.
Президенты Изабеллы с Зинзивером, и пинь-пинь-пинь – коробкой божественной Изабеллы.
Сон прерывистый и тяжёлый, головная боль.
Сменщик, свидетель Иеговы, как всегда вовремя.
Веломастер в шлеме и с круглым рюкзаком за спиной.
Слесарь КИПа уже без чернил, но с круглыми бумажными дисками для манометра-самописца.
Мастер, женщина с переменчивым настроением и однообразной записью в журнале «Проверена работа котельной, разрешаю включить котёл номер один».
Знакомая художница, рисующая портреты, со своим восточным другом, тоже художником, и кусочком гашиша.
Сменщица, любезно согласившаяся опоздать на полчаса.
«Люди-стаканы и люди-кружки…»
Люди-стаканы и люди-кружки
в сумерках бьют по лицу друг дружку,
а когда разобьют свои кружки-стаканы,
чем они пить-жить станут?!
Когда разобьётся в стеклянную крошку
пустое будущее, простое прошлое,
когда останется лишь настоящее,
где живут только люди-ящики,
и этим стеклянным людям
места уже не будет.
Благовещенье 2
Ангел белый на пути
из тумана вышел,
вынул нож или кинжал,
а скорей всего, скрижаль:
стал читать —
никто не слышит!
Ангел чёрный у ворот
доедает бутерброд,
он из черепа коровы
сделал страшный вертолёт,
скоро он снесёт всем крыши,
и любой тогда услышит
что же белый нам поёт!
«Они идут на рудники…»
Они идут на рудники,
а мы – простые рыбаки,
мы любим песни сочинять
на тёмном серебре реки,
у них на касках фонари,
они уже внутри земли,
а мы на лодках неподвижно
сидим от берега вдали,
они в земле как червяки,
их насадили на крючки
простые люди горняки,
и горы тянут плавники,
а мы лишь песни сочиняем
на тёмном серебре реки.
«Лежал на диване, в потолок плевал…»
Лежал на диване, в потолок плевал
разные легкие красивые слова,
а все тяжёлые сплёвывал на пол,
но никому на мозги не капал.
Так заполнял пустую квартиру
своим богатым внутренним миром.
«Я раскрасил кошку синим…»
Я раскрасил кошку синим,
крылья прилепил ей,
стала кошка синей птицей,
но летать не хочет,
отдирает лапой крылья
где-то под кроватью
и выкатывает пыльный
мячик вместо счастья,
кошку мучил я напрасно,
надо бы подругу
пригласить к себе домой
и раскрасить синим —
будет в комнате порхать,
щебетать мне в ухо,
и закончится тоска,
и наступит пруха.
«Сороки трещали…»
Сороки трещали,
волки выли,
а рыбы молча
по речке плыли.
Собаки лаяли,
коровы мычали,
о том, что Слово
было вначале,
но эти рыбы
всегда молчали.
Работа 2
Я пишу о глянцевых девушках в дорогих машинах,
о владельцах шикарных домов, о докторах, которые лечат всё,
они в костюмах, в галстуках, некоторые в очках,
мужчины умны, женщины красивы,
ну а если и некрасивы, то ухожены,
на мои вопросы отвечают внятно и уверенно,
а я смотрю на лампочку диктофона,
на маленькую чёрную коробку,
куда вместе с их голосами
пролезают случайные шумы:
звук машин за стеклопакетами,
разговор в коридоре,
иногда мелодия мобильника – мой-то выключен.
Иногда мне кажется,
что помехи за речью моего собеседника
важнее, чем наш разговор,
но это мое личное мнение.
Иногда со мной приходит фотограф и снимает
на хороший аппарат,
а потом в фотошопе убирает родинки и морщины,
их лица становятся чище, чем в жизни,
женщины ещё моложе, мужчины ещё обаятельнее —
никаких следов времени,
они как боги – вечные
на глянцевых страницах,
правда, мне больше нравятся матовые фотографии,
однако это никого не касается,
мое дело – задавать им вопросы,
иногда у них уже есть наработанные ответы,
они повторяли их не раз перед камерами, перед диктофонами,
но я продолжаю записывать,
сохраняя отпечатки пальцев их речи,
чтобы потом перенести на бумагу,
вогнать в формат журнала,
окружить собственными фразами.
Иногда кажется, что на бумаге
говорят уже не они, а я их словами,
иногда я вкладываю в их уста собственные анекдоты,
придуманные мной истории,
но, как правило, у них много собственных историй,
ведь они хорошие собеседники,
иногда даже в ответ мне хочется рассказать что-нибудь о себе,
но вряд ли это будет им интересно.
«Проходит время, проходит боль…»
Проходит время, проходит боль,
проходит жизнь, а мы застряли:
ведь он всё стоит в проходе,
ни туда, ни сюда не проходит!
Стоит почти совсем голый,
загородил дорогу,
растопырил руки
и молчит, свесив голову,
будто спит.
Мы его сами вперёд толкали,
гнали пинками наверх скорее,
приколачивали руки, чтобы не падал,
ноги привязывали,
кровью перепачкались даже.
Говорят, что за ним есть выход,
но он на нас и не смотрит,
только на камни внизу под ногами,
где старые кости белые,
тихие его молитвы.
Человеческая арифметика
Вычитание производится простым жестом —
поворотом головы налево-направо,
словно кто-то проехал
мимо,
сложение – соединением ладоней,
легким кивком,
поклоном,
соединением тел,
но за сложением обычно следуют
вычитание, деление, умножение.
Умножение производится медленным движением
по расширяющемуся кругу:
танцуют,
крутятся парами,
и однажды становятся старыми
с кучей детей и внуков,
деление – проще всего:
разламывают хлеб,
рубят дрова,
разрывают фотографии,
рожают детей…
«Старые люди забывают…»
Старые люди забывают,
пересчитывают деньги без толку,
никто никогда не умирает —
просто уезжает надолго.
Вороны уже привыкли
к бутербродам, яйцам и рису,
к спящим ангелам на могилах
в цветной шелухе тризны.
До небесного Иерусалима
трамвай каждый день летает,
монеты лежат на ладони —
рыбка серебряная, золотая…
«Говори не спеша о своих делах…»
Говори не спеша о своих делах,
о жизни, свитой словно солома, плотным пучком,
а она идёт карнавальным бычком
по шаткой доске да прямо в огонь,
у бычка моего смоляной бочок,
и повсюду на шкуре – пузыри глаза,
будто он – не бычок, а бог,
и не солома горит, а душа,
а ты говори, говори не спеша…
Пелевин плюс
Работа твоя – раздеваться посреди сцены
за палкой блестящей, придуманной для стриптиза
и для небесных пожарников, скользящих молнией вниз
в медных касках и серебристой одежде.
Работа твоя – уходить в штопор,
когда сотню-другую баксов засунут в трусы,
даже если ты милый и нежный оборотень
с красным и пушистым хвостом лисы.
Работа моя – клоуном за липкой стойкой
разливать пойло ящерицам в дорогих шмотках
и становиться шестом, пока ты идешь в койку
с одним из них – такая моя работа,
ведь этот шест – ось нашего мира,
на нем крутится колесо мельницы вечной,
где каждый ягнёнок ждет своего Фенрира —
волка с пылающей шерстью
и голосом человечьим,
и нас давно уже ищет Локки
вовсе не бог хитрости,
а простой ангел смерти.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































