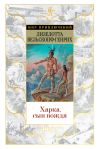Текст книги "Залив Большой Медведицы"

Автор книги: Суфьян Бё
Жанр: Русское фэнтези, Фэнтези
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Также говорят, что в одной из многочисленных пещер, находящихся за старым северным мысом, спрятан потрёпанный, но всё еще готовый к последнему своему полёту дирижабль. Что он ждет того, кто осмелиться доставить колдунье с Урархорна свет звезды Алькор. Да только, всего скорее, выдумки всё это. Как и вся история про маяки и волшебниц.
Болтовня спившегося вконец Снеколя. А что было на самом деле: склочник Йоунси, порезавший семью, бездельник булочник, старые песни да обыкновенная застольная беседа, в которой и выболтал Снеколь свою «страшную-престрашную тайну».
4
Жила была девочка по имени Лу. Её подругу звали Майя. Дружили они – не разлей вода – с самого своего рождения.
Майя была внучкой не то баронессы, не то герцогини, непременно в бегах, но это оставалось большой тайной, в которую посвящали лишь персон особо приближенных. Лу о своих родителях знала лишь то, что им некогда случилось проезжать мимо незаметного залива, укромно примостившегося между невысоких скал, поросших бурым мхом, где и пришлось ей сразу после рождения задержаться на десять лет. Так рассказывала Лу. Так полагала Майя.
Лу жила в детском доме, Майя – в старинном золотом медальоне ручной работы. Кроме Лу о существовании Майи мало кто подозревал, видеть же её и подавно могла только сама Лу.
Лу была смышленой девочкой – рыжей и конопатой. Рыжие волосы обыкновенно заплетались в две косы; веснушки-конопушки прятались в ямочках на щеках улыбчивого лица. До поры, до времени.
Еще были вечно сбитые коленки, вызывающе торчащие из-под линялой юбки, свитер толстой пряжи – с лицом бабки-гадалки на груди ("…она присматривает за Майей…") и сбитые боты с разноцветными шнурками и приспущенными шерстяными носками под ними. Даже такую бедную коллекцию тряпок Лу мгновенно ввергала в абсолютный хаос и жесточайшим образом расправлялась с каждым, кто имел неосторожность покуситься на её обжитые территории…
Майя была избалованной и капризной, совершеннейшая неженка. Внешностью она скорее напоминала принцессу из сказок. Только – в миниатюре. Те же очаровательные белокурые волосы и голубые глаза, овал лица и носик, курносый лишь самую малость. Майя отдавала предпочтение платьицам – шерстяным об зимнюю пору, – вязаным шапочкам и цветастым колготам. Наряд её менялся едва ли ни каждый день. И для Лу так и осталось загадкой, где Майя прятала весь свой внушительных размеров гардероб. Хотя она так ни разу и не удосужилась спросить подругу об этом – обеих вполне устраивали мимолётные игры в переодевания; в «принцессу и нищую», и тогда уже Лу становилась внучкой не то баронессы, не то герцогини, а Майя – сиротой безродной. Но, как ни старалась Лу, переселиться из детского дома в медальон у неё так и не получилось. Она так и осталась очередным медвежонком в череде подобных.
Залив Большой медведицы – со временем от историй оставался лишь прогорклый пепел, чехарда бесполезных огрызков сюжета, связать которые между собою было практически невозможно. Да и какое, в конце концов, дело до всех этих дирижаблей могло быть юным обитателям «сравнительно нового учреждения» строгого режима? Да, оставались в памяти имена, да, сохранялась общая тайна; именно утрата семейства многим роднила Йоунси с детворой Залива – сиротство по-случаю. Но оно же более чем очевидно говорило в пользу явной надуманности случая. Кстати, и Леса-то уже лет эдак …дцать как не было. Всё, что осталось от истории Йоунси – это от силы пара пеньков и название мыса. И маяк, безусловно – заброшенной руиной на отшибе; на месте непроходимой чащи была запланирована шоссейная дорога, должная связать столицу с северными фьордами, по чьим прибрежным скалам с незапамятных времен ютились рыболовецкие деревушки.
Вредные привычки и маленькие тайны с неизменным успехом замещали собою большие дела. Тем более, что дела эти так и не вышли за пределы сказки. В остальном – предсказуемо изменялась природа; и близлежащие к мысу ледники с явной неохотой, но обнажали залысины. В образующихся прорехах поблескивал стальными оттенками океан.
Зимы становились лютее, и неженка Майя все чаще отсиживалась в медальоне, по обыкновению ссылаясь на легкое недомогание/нелепую простуду/неизбывную хандру «всеми покинутого человека». Лу молча сносила её капризы и коротала дни, разглядывая новую воду и перебирая в памяти прошлые проказы и замыслы.
Бьярне нашел их обеих на вокзале два лета тому назад – пригревшись в кипе старого засаленного тряпья, Лу отсыпалась в вагоне на запасных путях. Каприза Майя охраняла чуткий сон девочки. Но и её внимание было уже притуплено долгими часами без сна. Бьярне появился со стороны платформы. Светловолосый великан в долгополом плаще, он по обыкновению улыбался чему-то в бороду и болтал без умолку. Когда Лу раскрыла, наконец-то, свои глаза, с ужасом осознавая, что впервые в жизни проспала приближение чужого, а Майя уже юркнула в медальон (лишь испуганно поблескивала пара глаз), Бьярне уже стоял в дверях вагона, одной рукой держась за поручень, другую же запустив в карман, тщась нащупать затерявшуюся в мелком карманном соре пачку сигарет.
– Представляешь, вечно я их теряю… домовой шкодит, не иначе. Меняет карманы местами.
Бьярне выудил изрядно помятую сигарету и заложил её за ухо.
– Поспорим, я про неё забуду уже через пять минут?
Лу вжалась в стенку вагона и теперь судорожно обшаривала взглядом оставшиеся плоскости в поисках путей к отступлению. Скверная ситуация, из разряда тех, в которых никак не можешь придумать, что тебе делать.
– Ну и кто у нас тут спрятался? Как тебя зовут, девочка?
Лу показалось, что Бьярне смотрит на медальон и только – она лишь крепче сжала его в ладошке – но, одновременно с тем, и на притаившуюся Майю, и сквозь неё, прямиком в душу самой Лу. Его пальцы не находили покоя, и теперь теребили пуговицу на лацкане, но губы улыбались, а в глазах плескалось тепло полудня ранней осени. Майя не разговаривала с посторонними. Лу, иначе, была бойкой девочкой и могла заболтать кого угодно, будь то на рынке или в грязном переулке. Это не раз выручало её из неприятных ситуаций. Сейчас же язык Лу будто бы прилип к гортани и слова застыли и сморщились, пристыженные забились в закутки памяти.
Но тепло в глазах Бьярне было домашним, добрым и совершенно безопасным. И понимая, что молчать и дальше было бы уже попросту неприлично, Лу пролепетала:
– Она не разговаривает с чужими.
– Неужели?
– Я могу… поговорить за неё…
– Хорошо. Тогда давай поговорим с тобой. Ты ведь Лу, правда же?
Лу, даже не удивившись как следует, молча кивнула.
– Ну а я Бьярне. Будем знакомы.
Бьярне протянул руку – ладошка Лу почти что утонула в его широкой, тёплой ладони. Бьярне кивнул.
– Хорошо. Ну а как же зовут нашу нелюдимую особу?
– Её зовут Майя. И она не особа. Она настоящая леди…
– Но я вижу сейчас только одну маленькую и чумазую девочку… И кто же из вас кого придумал в таком случае? Малышка Лу – Майю. Или принцесса Майя – Лу?
– Майя придумала меня. Одной ей было плохо. И грустно. А потом я придумала её, чтобы спрятать от плохих людей. Поэтому вы её сейчас не увидите. И никогда не сможете найти.
– Потому что я плохой?
– Нет. Потому что я… она не захочет этого.
К Лу постепенно возвращалась её бойкость. Она и сама будто бы оживала, наконец-то очнувшись от затянувшегося осеннего сна: зарозовели щеки, в глазах просыпались привычные оттенки карего. Возвращались беглые слова.
Бьярне сел рядом с ней, точно также прислонился к стенке вагона, вытянул ноги. Снова принялся копаться в карманах.
– Выходит, я совершил ошибку… Видишь ли, малышка Лу, следом за летом приходит осень. А осень рано или поздно закончится. И за ней, как всегда, явится старушка зима. И опять будет холодно, очень холодно. И голодно. Я волновался за тебя, малышка Лу. Потому и принес приглашение – на одну персону – в дом, где тебе будет тепло и сытно, где о тебе позаботятся.
Бьярне протянул Лу небольшой квадратик бумаги кремового цвета с гербом. Герб показался Лу очень красивым – он изображал совершенно мультяшную медведицу, белоснежную, бредущую за звездой.
– Как ты думаешь, согласится ли Майя присоединится к нам? Приглашение я ей вручу, как только мы прибудем на место.
Лу даже не прикоснулась к бумаге. И рассматривала её из рук Бьярне, поминутно поглядывая на него самого.
– Я не умею читать. Но Майя мне пересказала, о чем здесь написано. Ещё она сказала, что нам нечего делать в детском доме.
Бьярне пристроил бумагу на коленях Лу – она даже не шелохнулась – и перевел взгляд на поручень у двери.
– Никто не хочет, Лу, оказаться в детском доме. Никогда. Ведь это место – тупик, утрата. С точки зрения каждого человека – большого и маленького. Но то место, куда я приглашаю тебя, – это не совсем обычный детский дом. Давай-ка я расскажу тебе одну историю. Ты меня выслушаешь и сама решишь, стоит ли идти со мной, или нет.
5
– Вот такие сказки, Петер. Чему в них верить, чему – нет, ты решай сам. Но в приюте Большой Медведицы эту историю передавали из уст в уста на протяжении всей, пусть и недолгой, истории заведения. Я даже, помнится, ездил к маяку в один из выходных дней. Нужно же знать подлинную предысторию места, где тебе предстоит работать. Тот ещё из меня сыщик получился, скажу я тебе.
Пока Бьярне рассказывал свою историю, Петер настойчиво вслушивался в отзвуки и оттенки пойманных слов, пытаясь свыкнуться с неясным и доселе так и не испытанным ни разу в полной мере чувством. Одновременно угадывалось нечто знакомое в самом диалекте сказки, в общих чертах, в произношении, в акцентах. Столь очевидные напрашивались ответы, что на первых порах Петер даже гнал их прочь, боясь обмануться.
– А что со смертью?
– Какой еще смертью? Тебе мало всех тех, которые уже успели случиться?
– Нет. С той, которая вспоминается, когда вы глядите на снег.
– Ммм… Тебе и вправду интересно знать?
Бьярне глянул в окно – железнодорожные пути в этом месте делали дугу, огибая небольшое озерцо, отчего из окон головного вагона можно было увидеть недалёкий хвост состава и, сквозь стекло, фигуры пассажиров, сидящих в нём.
– Пока ты спал, я тут вспомнил коё о чём. Хотя, неважно… постараюсь рассказать. Я почти не помню своего отца. Он… видишь ли, он пропал, когда я был совсем маленьким. А после этого, у нас в семье появился совершенно другой человек. Мой отчим. Он был военным, но прожил с нами не долго. И провожали его в последний путь со всеми положенными почестями: караулом и ружейным салютом. Но прежде была дорога на кладбище, а до этого – больница, залы, пропахшие смертью, мгновения ожидания, растянувшиеся во времени и показавшиеся мне часами. Из близких людей, кроме нашего семейства, изволили явиться лишь племянники – сыновья отчимого брата. Но и они выбрались постольку, поскольку оказались в городе проездом. Впрочем, это не более чем жалобы, не имеющие к моей истории ровным счётом никакого отношения.
Бьярне вполоборота повернулся к Петеру, закинув ногу на ногу, сложил на груди руки.
– Спина не затекла? Ты не меняешь позы с момента отправления поезда. Наживешь радикулит – болезнь натурщика.
Петер махнул головой, так, что разметались волосы.
– Ну и ладно. Я-то, как видишь, минуты без дела высидеть не могу – сущее мучение. Мы ждали катафалк у ворот крематория – знаешь, такой домик, в котором сжигают мертвых, чтобы уместить их после в резную урну.
– Зачем?
– Занимают меньше места. Транспортировать, опять же, удобно. Но, не суть… мы ждали катафалк у ворот крематория и занимались черт-те чем. Мать, по-моему, молилась; брат пытался браниться с двоюродными родственничками, на что они, признаться, не обращали ровным счётом никакого внимания, продолжая свою беседу. Я же бесцельно разглядывал гравий под ногами, и литую ограду, и свежевыкрашенные ворота, и кусочек пасмурного неба после. Чудное, скажу тебе, занятие. Была середина октября – месяца, когда природа не в состоянии определиться с цветами, выпадая то в яркость, то в серость. А то и вовсе рассыпаясь снежными хлопьями… как в тот хмурый полдень. Как сейчас помню это странное: такое обыденное и необыкновенное одновременно, – сочетание, возникшее за считанные минуты до прибытия нашего транспорта. Я следил, как первые снежинки опадают в землю. Туда, куда за ними следом, предстояло лечь моему отчиму.
Бьярне потеребил мочку уха, поправил быстрым движением новую сигарету, укрытую волосами.
– Служба была непродолжительно – наше семейство не особо любило предаваться воспоминаниям. Светлых эпизодов собственного прошлого мнительные персонажи предпочитают не замечать, а негатив явно не достоин стать темой для прощальных речей. Но, так или иначе, слова были сказаны, отгрохотал салют. С последним откликом на ружейный выстрел, гроб опустили в землю. А я, тем временем, забыв обо всём, смотрел на покрасневшие от холода руки солдат, на промороженные бечевки, на кладбищенское поле, присыпанное снегом, находя в нём общие детали с тучным, свинцового оттенка небом над головою. Я упивался чувством пространства, чётким как никогда прежде. Казалось, сам космос, вдруг, распахнулся предо мною, обретая объём и цвет. С тех пор подобное видение уже не оставляет меня надолго. Уже тогда я понял, что никогда не умру, что я всегда буду жить – даже если не станет всего этого: тела, земли, щедрой на кладбища, деревьев, облаков, самого неба… это сложно объяснить словами.
Бьярне глядит в окно – уже безмолвно – и глаза его, впитывая пропущенные пейзажи, едва заметно меняют оттенок. Что чудится ему в воссозданной реальности? – доступная музыка. Он закрывает глаза и едва заметно кивает в такт перестуку колёс, озвучивающему грандиозных размеров пространство за окном.
– Это неописуемо. В принципе. Оттого и незначительно – что нематериально. Часть реальности, которая всегда резонирует по-другому, чуть иначе, чем все прочие вариации радости… в тот мерзкий день всеобщей скорби я вдруг оказался абсолютно и бесповоротно счастливым. И по-моему в этом-то и состоит единственно верный путь общения с миром.
Ясный осенний день той золотисто-багряной поры, в которую так сложно отказать себе в простых удовольствиях наподобие праздношатания по городским паркам с непременным разбрасыванием ногами опавшей листвы. Маленький Бьярне спешит по дорожке по направлению к аллее, что у старого пруда. Пруд – заросший у берега, но на глубине всё ещё прозрачный и чистый; аллея убрана золотом листвы. Пышные кроны над головою не спешат расставаться с драгоценным своим нарядом. Но лесок в отдалении, у подножия приземистого холма, отсюда выглядит скорее радужным облаком в прозрачном пространстве неба. Прозрачность мира, уже напоена первой прохладой – и приходится кутаться в шарф, даже если курточка и штанишки все ещё легки на летний лад; ведь северный ветер сразу хватает за горло.
Бьярне спешит к пруду заученным маршрутом – простые линии, прочерченные взглядом, смыкаются у горизонта с тучами, движущимися своим неторопливым шагом к кособокому окну водоёма; отсюда их тени пока что не видны, но запах дождя становится всё более явным. Бьярне боится опоздать, хотя времени ещё достаточно. Но и просто пройти мимо он также не может – небо нехотя растворяется в осени; Бьярне смотрит неотрывно и выжидающе. С первой же змейкой молнии, с первым же рокотанием, предсказуемым и точным, как самые точные часы на свете, Она покажется у последнего поворота на холмы. Начала заповедной, запретной земли, там, где заканчивается пространство, обжитое человеком. Она приходит к пруду не часто – раз или два в месяц, в разные дни, но неизменно в одно и то же время. И независимо от предшествующей погоды всегда начинается гроза. А Она садится на берегу, кидает в пруд мелкие камушки и поёт дождю и молнии свои песни.
Впервые Бьярне увидел её года полтора назад – он пришёл к пруду вместе с отчимом на рыбалку. Отчим остался слеп и глух к происходящему, Бьярне же все глаза высмотрел, а от звучания голоса и вовсе сам не свой сделался – застыл, очарованный, и не нашёл в себе сил шелохнуться до той поры, когда песня была уже сложена. Как знать, может и было всё это не более, чем плодом фантазии, или же летней мальчишеской грёзой… Однако в краткие мгновения минувших с той поры встреч, Она пропела Бьярне всю его неторопливую судьбу. И за годы, последовательно канувшие в Лету после, он ни на шаг не отступил в сторону От своих последующих придуманных жизней.
Всему суждено закончиться когда-либо. И большие странствия, и самые краткие путешествия имеют как начало, так и конец. И чаще окончание путешествия оказывается окрашенным печалью – легкой и светлой, и оттого кажущейся несущественной или же вовсе несуществующей. Но в случае Петера замершие эмоции вовсе не спешили пробуждаться к жизни. И когда поезд, замедлив ход для начала, дал два предупредительных свистка, а после остановился у перрона в маленьком городке, что и на картах-то, небось, возможно разобрать с трудом, и то лишь с известной степенью смекалки. И когда Бьярне засобирался вдруг, растолкал задремавших пассажиров и направился к выходу, бросив через плечо уже ставшее привычным «Идём, Петер». И даже когда распахнулись двери, обдавая застывших в тамбуре пассажиров оторопью зябкой снежной крупы, после обернувшейся постоянством холода, Петер лишь с необъяснимой ленцой отметил про себя белизну местного снега, закутанную в плотную материю зимней куртки фигуру обходчика, очередную стаю птиц – картины множественных разрозненных мыслей, не сохранившихся и на секунду в памяти. Так или иначе, они достигли пункта назначения, и пришла пора двигаться дальше, и Бьярне на ходу сочинял нелепую историю, бубня себе под нос, срываясь на невысказанные акценты и ссыпая порции невнятных слов, с хитроумными сплетеньями сюжета. И продолжал свое движение в обратную ходу поездов сторону.
В городке они надолго не задержались. Как сказал Бьярне, за то время, что Петеру случится провести по соседству, городишко успеет набить оскомину. Да и знакомство с ним в любом случае начинать стоит не с зимних пейзажей пополам с индустриальными мотивами железнодорожного полотна. А с весенней живописи, когда можно без риска для жизни спуститься к фьорду и наблюдать оттенки воды.
Но вокзал был уютный. Хотя и вокзалом-то в общепринятом смысле этого слова он не являлся. Так, перевалочный пункт, деревенский домик горчичного цвета с пристройкой кассы и прилегающим к ним полустанком. Как Петер узнал несколько дней спустя, в этих стенах готовили самый вкусный кофе на побережье. Но не сегодня – в день приезда Бьярне отказал гостю и в тарелке супа, и в чашечке чая; в простейших радостях, доступных путнику, сославшись на то, что они успевают к бесплатному обеду в интернате. Петер не особо настаивал. Есть ему не хотелось. Но сказывался недостаток сна. И в мутной полудрёме, мешая реальность дороги с придумками снов, он сам себя не помня проковылял остаток пути до Большой медведицы.
Бьярне любил этот отрезок пути проделывать пешком. И, естественно учитывая возраст и физическое состояние будущих питомцев, предпочитал не брать машину (хотя старый пикап как раз для подобных выездов и встреч простаивал неприкаянный в гараже интерната со дня основания) и не дожидаться автобуса. Идти приходилось по обочине, ступая по камням – обломкам древней породы, принесенной некогда ледником из земель находящихся ещё дальше к северу; идти было тяжело, но свободно, тем более утром, когда воздух спросонья чистый и свежий, тем более в ясную погоду, когда редкие снежинки, выхватываемые ветром из придорожных сугробов, чертят на лице едва заметные влажные линии, забавляясь зимней своей геометрией. Тогда можно следить движение тени по плато, неторопливый бег, соскальзывающий за границы тверди и уносящий воспоминания о каменистых пейзажах прочь, к иным берегам. Да вот ведь беда какая, Петер спал в одном ботинке на ходу, и лишь толикой своего сознания значился в реальности. Той, что ответственна за движение – очертания пейзажа запоминали его ноги, что, открою вам ещё одну маленькую тайну, уже довольно-таки скоро сослужит ему добрую службу.
23 ноября, точно в обеденное время, Петер ступил на крошащиеся ступени лестницы, ведущей к порогу Большой Медведицы.
6
– Мне нравится Большая мама медведица. Я разглядела её самой первой из созвездий. Вот, смотри, это у нее такой длинный мультяшный нос, а ушки совсем маленькие… и ещё хвост. Она как будто бы и сама смотрит на небо… Наверх. Может, нас выглядывает, а земля болтается воздушным шариком над её макушкой, а она тянется носом, принюхивается. А может и просто зовёт медвежонка… Что? Да, я не думаю, что Бьярне плохой. Он интересно рассказывает сказки. Даже такие глупые, как эта.
Лу стоит на берегу, у озера и ножкой обутой в поношенный зимний ботинок, явно не по размеру, сбрасывает снег в воду. Сцепила руки за спиной, трясет обстриженной чёлкой.
– Я была совсем-совсем рыжая. А теперь начинаю темнеть. Наверное, к лету сброшу листву, а когда проснусь – начну растить её наново. Я дерево. На которое смотрит с неба, снизу, Большая мама медведица.
И Лу упирается ногами в землю, и расправляет ветви, и тянется макушкой-кроной вверх, но солнце всё ещё спит и некому ответить на её бессловесный призыв.
Майя сидит тут же, рядышком, на берегу. И молча слушает – не то Лу, не то собственные мысли – легонько улыбается и покачивает головой.
– Ты видела! Он привел новенького… Да, мальчик. Такой чудной, смотрит на всех как собака, которая жила с нами на пустыре… Помню-помню, смешной был пёс, молодой ещё. Я хотела приручить его, но он убежал. Как будто всё время боялся чего-то… Глаза у них похожи… Мы посмотрим ведь, правда? По-моему, он тоже хороший.
Снежинки плясали в воздухе, Лу куталась в пальтишко и ворковала нежную песню; Майя отражалась в озере и поглядывала на небо. За их спинами безмолвный в этот ранний час, темнел приют. Снег отражал свет двух фонарей, стоявших по обе стороны озерца, и продолжался мелкой крупою уже над землей. Взгляд Лу следил хитроумные движения воздуха; напоенная утренней прохладой, стряхнув с себя остатки сна, она приняла окончательное решение остаться здесь. На время. Не из-за Бьярне. И уж тем более не из-за рассказанной им сказки. Майя попросила. И это было куда как важней. Значит, осталось здесь что-то помимо старых историй и кучки вымуштрованной педагогами ребятни.
Значит, нужно было поспешить, и вернуться в комнату до рассвета. Чтобы обман не раскрылся, и новая тропинка к бегству не была обнаружена.
До сегодняшнего дня Лу убегала уже дважды. И оба раза, никем не замеченная, возвращалась под утро. Как будто что-то удерживало её здесь. Но что именно, она пока не знала… А вот Майя, похоже, всё-таки догадалась. И теперь у неё, возможно впервые, появилась собственная маленькая тайна от Лу. Вот хитрюга… Лу это не нравилось, ведь до сих пор они жили душа в душу, не ведая недомолвок. Но Майя заверила её в том, что скоро обо всём сама расскажет. Стоит только немного подождать. Так нужно.
И Лу понимала, что так действительно нужно. Она согласилась остаться. Она была согласна и подождать. Но про себя решила немного надуться на подругу. Так, ничего серьезного, легкое недовольство да тщательно отрепетированная морщинка на лбу. Совсем на чуть-чуть.
И Майя, и Лу думали, что и на этот раз им удалось уйти незамеченными. Однако это было не так. Петер видел их обеих. Он выскользнул следом за Лу, как был, бос, прихватив с собою лишь чью-то попавшуюся на пути куртку – осеннюю, к тому же, на пару размеров меньше чем было нужно – и теперь невидимый с освещенного берега стоял у искривленного ствола сосны-долгожителя, местного патриарха, и про себя дрожал от холода.
Он видел Майю. И с ней одновременно, чуть в стороне, в воздухе – мерцающий и нечёткий силуэт хрупкой рыжей девчушки в нелепой одежонке. Он не знал имен, и не делал различий между реальностью и придумкой. Душное затворничество души приучило его к мысли о возможности существования любого рода.
Сейчас Петеру не было страшно, ему было удивительно и хорошо. Уютно, как будто бы он в конце долгого пути обрел вдруг друга, которого давным-давно потерял и о котором вовсе не вспоминал в последние годы. Снова думалось о Солье и о странных снах, в которые посвятил его Бьярне. Показалось вдруг, что он не будет одиноким здесь и, что несколько дней спустя всё изменится окончательно.
Петер нетерпеливо теребил кольцо, против его обычных правил и для разнообразия, на этот раз надетое на большой палец. Он разрывался между двумя желаниями: выйти на свет и тем самым раскрыть себя, начать задавать вопросы; или остаться здесь, выждать определенное время и подойти после. К примеру, на завтрашней полуденной прогулке.
Меж тем, времени оставалось совсем мало. Вот-вот должен был затеять громыхать ключами старый Кристен – приютский сторож. Должно было заиграть навязчивое радио, а главные двери – распахнуться в сулящую новый день зиму.
Лу стоит на берегу, у озера, с ней рядом Майя; Петер, невидимый с освещенного берега, прячется у искривленного ствола сосны. Между ними мечутся тени предрассветных сумерек. Приют, безмолвен, дремлет за их спинами, но это безмолвие хрупко и ненадежно в преддверии утра; все трое знают об этом, но не спешат уходить. Словно чего-то ожидают; чего-то, что должно произойти, и происходит обыкновенно помимо их воли. Космос двора, пропитанный временем потерянного детства, покрывается легкой серебряной пылью – первые солнечные лучи, пробиваясь сквозь дымку, спешат коснуться замершей земли, истосковавшись по её чертам в беспечном своем одиночестве по ту сторону горизонта. Все трое мыслят собственный рассвет, похожий в общих чертах, но с тем одновременно, чуть-чуть инаковый – такая маленькая надуманная шалость. А после все вновь приходят в движение.
Майя поднимается с земли, отряхивает юбчонку, улыбается чему-то одними губами и, ими же коснувшись в лёгком поцелуе щеки подруги, исчезает в собственном потаенном замкнутом Не-здесь. И Лу, прекрасно понимая, что опаздывает, и от того уже не глядя по сторонам, спешит к дверям приюта. И Петер снова следует за нею, как прежде – на почтительном расстоянии, но не теряя из виду её фигурки. После они разбредаются по комнатам и, убедившись, что их маленькая ночная шалость осталась незамеченной, со спокойной совестью отходят ко сну. Или скорее только прикидываются спящими, потому как времени осталось совсем уж мало. Оно и верно – уже самое большее через полчаса включается радио с его глупыми назойливыми мыслями, и старый Кристен гремит ключами, не позволяя наиболее ленивым вновь соскользнуть в цепкие объятия сна. Дети встают и одеваются, и девочки спешат в спортивный зал на зарядку, а мальчики – на утреннюю пробежку по главной аллее и вкруг пруда. И для того все облачаются в теплую спортивную форму – прошлогодний подарок нового префекта – но Петер не спешит одеваться. Он новенький и должен будет встретиться сейчас с очередной комиссией в лице директора и педагогов. И, пользуясь нарисовавшимся свободным временем, раскладывает вещи по полкам тумбочки и откровенно бездельничает большую часть времени.
Впрочем, он не единственный, кто пропускает занятия. Лу, сославшись на головную боль – и воспользовавшись тем, что её и в самом деле слегка морозило после утренней попытки к бегству, осталась в постели. О Майе же и вовсе никто не вспомнил – своеобразное преимущество невидимости.
В назначенный срок за Петером спускается Бьярне; он выглядит сонным, но опрятным – в серых джинсах и голубом вязаном свитере с оленями, скребет отросшую за ночь щетину, трет переносицу и надевает очки.
Да, Бьярне носил очки. Франтоватые с желтоватыми стёклами и черными дужками – с особым изяществом цеплял их за уши и водворял на нос. Глаза его в очках становились нелепо большими и смешными, а голос враз делался скрипучим. Хотя последнее могло быть всего лишь следствием недавнего пробуждения.
Петер выслушивает пожелания доброго утра, отвечает на наставления к верному общению с комиссией лёгким пожатием плеч и после этого нехитрого ритуала позволяет увести себя на второй этаж, где и состоится собеседование – столь же неторопливое, гнетущее и скучное, как и любое официальное мероприятие, случающееся исключительно потому, что так надо, так здесь принято. И Петер соглашается перетерпеть полчаса жизни в сообществе скучнейших стариков с их безумными старческими идеями. Но всё оказывается много лучше, чем он сам смел предположить. И директор Пауль, и приютский психолог Гуда, кажутся открытыми и добродушными, и только местный учитель истории Уни и обликом, и манерой держаться бесконечно напоминает Хенрика, но и это невольное сходство вызывает скорее улыбку, чем Петер и спешит воспользоваться. И каждый, видя его первую улыбку, спешит истолковать её как собственную маленькую педагогическую победу. И мгновение спустя в кабинете становится светлее, и все открыто улыбаются друг другу, и Петеру начинает казаться, что и здесь удастся прижиться, и что варианты будущего все же складываются в довольно удачную для него картину. Но по выходе от комиссии он, как ни силится, не может припомнить, о чем же только что шла речь там, внутри, и прежний камень, прежняя тоска по пространству (как он сам определит её в итоге) занимают привычное место в душе его; и взгляд снова выискивает что-то по ту сторону толстых стен. Бьярне замечает эту перемену, и незаметно заглядывает в собственную укромную тетрадку, и, узнавая сходство, вновь захлопывает её и останавливает Петера.
– Петер. Сейчас ты спустишься вниз, на улицу, и чуть-чуть прогуляешься, потом пройдешь со всеми на завтрак – не бойся, тебе подскажут, что и как нужно делать. Здесь люди понятливые… но через полтора часа я приду за тобой. У нас будет минут тридцать. На беседу. Пока же, постарайся выкинуть всё из головы.
И Петеру, удивленному новому голосу Бьярне, остается лишь кивнуть в ответ и исполнить его маленькую просьбу, и прогуляться, а после – отзавтракать кашей и булочкой с чаем, а после – ждать положенное время.
На подходе к Большой медведице, там, где дорога, обогнув заброшенный хутор, пробегает по самому краю обрыва, так и норовя оскользнуться в упрятанные в глубине ущелья ручьи (до путника, добредшего сюда донесется разве что только звонкое, умноженное плоскостями каменных стен, журчание), по странной прихоти природы не замерзающие даже в студеные зимние дни, растет странное дерево. Сосна, славная собственным хвойным родством с не блещущей разнообразием растительностью этого края, но искореженная не то ветром, не то чьей неведомой волей настолько, что узловатые суставы ветвей, выбившиеся на поверхность корни и стянутая в плотный ком крона совместным своим очертанием напоминают скорее силуэт дряхлого старикана, застывшего на подгибающихся под тяжестью возраста рахитичных ногах, перстом указующего в направлении горизонта, отсеченного океаном. К моменту появления здесь Петера дерево уже несколько раз начинало гнить в сердцевине, но каждый раз, точно передумывало, находило в неведомом источнике силы для исцеления, и вновь возвращалось к жизни – цепляясь за эту реальность всеми немалыми своими силами, с упорством, заимствованным у местных камней, не иначе. В тот год дерево было полно силы, буйной и неуемной, заставлявшей изуродованный ствол тянуться к солнцу, и, с тем одновременно, продолжать движение своих конечностей в сторону большой воды, словно желая, рано или поздно вырвавшись на волю из плена недр, шагнуть с обрыва, и уже не останавливаться до тех пор, пока желанная цель, непостижимая отсюда, не будет достигнута.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?