Текст книги "Август"
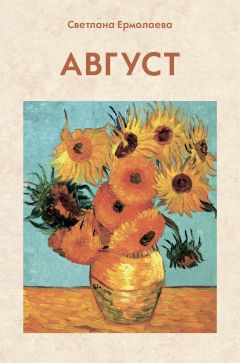
Автор книги: Светлана Ермолаева
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Светлана Ермолаева
Август
© Ермолаева С. А., 2018
* * *
А в России снег,
а в России дождь,
а в России ты
ничего не ждёшь,
ничего не ждёшь,
просто так живёшь,
на рассвете – снег,
на закате – дождь.
На закате – дрожь
да вороний грай.
Порвалась струна –
всё равно играй.
Всё равно живи,
всё равно дыши,
лишь вороний грай,
больше ни души.
Погоди, не рвись,
ненадежна мгла.
Обнимая высь,
спят колокола.
На тяжелый шар,
на ночной ковчег
ляжет тихий дар,
ляжет белый снег.
* * *
Нас было двое – дождь и я.
Нам город был чужой подарен
с деревьями и проводами,
и весело в оконной раме
плескалось чудо бытия.
Мы лужи наполняли смыслом,
поскольку в них отражены
осколки лиц, слова и числа,
и небо раннее весны,
что опустилось и повисло.
Мне было грустно и легко,
поскольку опыт жизни учит,
что каждый – музыка и случай,
а смерть всегда недалеко.
Здесь, за углом, за поворотом,
невольно сам ты к ней идёшь.
А дождь с тобой, в ладонях, вот он,
веселый дождь, весенний дождь,
взахлёб разбрасывает ноты,
и в каждой – ледяная дрожь.
Марк Шагал «Одиночество»
В дремучих объятьях природы,
в колючих объятьях зимы
мы ищем тепла и свободы,
страшась и тюрьмы, и сумы.
Из горького стылого мрака,
где звёзды еще не зажглись,
скулит ледяная собака
и воет испуганно ввысь.
Из всех одиночеств на свете
понятней и ближе – навзрыд
над миром неведомый третий
в картине Шагала парит.
Что будет, что станется с нами?
У скрипки четыре струны.
Ты смотришь таким глазами,
что мне не избегнуть вины.
Мой ангел, обуглены чувства,
насквозь их тоскою прожгло.
И пепел просыпался густо
на ангельское крыло.
* * *
Всей музыкой, какая есть
на белом безнадежном свете
(она живет сейчас и здесь),
и лепестками всех соцветий,
и всех созвучий, и насквозь –
дождём, промывшем наспех кроны,
когда дышать не в силах врозь,
смешав и синий, и зеленый…
Когда устанешь горевать
и звать её горячим стоном,
когда не хочешь выживать,
но яростно и непреклонно
желаешь жить – наверняка
ты назовешь любовью это.
Вот отчего душа легка,
скользит над жизнью городка,
перелетая в свет из света.
* * *
Дар напрасный, дар случайный…
А. С. Пушкин
Жизнь пройдет через нас,
нас просветят рентгеном,
нас просветят лучами,
и останется след.
В чем-то доме чужом
он впечатан в простенок,
чёрный снимок удачи,
драгоценный билет.
Пробирается луч,
задевая аорту.
Так о чем эта жизнь,
не о нас ли с тобой?
После резкой подачи
мяч взлетает над кортом
и гордится своей
несравненной судьбой.
В чём тут суть или цель?
Дар, прожитый случайно…
Как в тетради отрезок –
восемь клеток пути.
Это тайна. Нельзя.
Между точками – тайна.
Догадаться нельзя
и нельзя обойти.
* * *
Когда Париж – как на ладони,
чего желать, о чем жалеть?
Прочтите надпись на фронтоне:
«Увидеть – и не умереть».
Вобрать его до самых жилок,
вживить в себя его печать…
Париж, глядящий в твой затылок,
о чём он хочет промолчать?
Ситэ, купающийся в Сене,
И д’Орсэ, и Сан-Шапель…
В парижской дымке предосенней
ты вовсе не умрешь теперь.
С нелепой Эйфелевой башни
слетают в прошлое огни.
Париж вчерашний, свет вчерашний,
меня, как птицу, примани.
Поймай в силки, держи надежно,
не вырваться, не улететь.
Парижских улиц невозможных
очаровательная сеть…
* * *
Я верю музыке, поскольку жизнь одна,
и состоит из музыки и пятен.
Уже весна, за окнами весна,
но время уклоняться от объятий.
Сломай себя, тростинку на ветру –
не обретёшь прощения вовеки.
Я тоже вот когда-нибудь умру,
поскольку смерть таится в человеке.
Ты дудочка, ты мыслящий тростник,
и ветер теребит твои пустоты.
И ты звучишь, поскольку ты возник
из ничего – из пустоты и ноты.
Быть может, нас спасут колокола.
Неслышно расширяется от звона
небесный свод, и вечность пролегла
меж куполом и самым низким тоном.
* * *
Варю варенье из ирги,
перевожу стихи Верлена.
Постой, останься, не беги
густая розовая пена.
Еще не найдены слова.
Еще во тьме непониманья
намеченная вскользь, едва
нить из молчанья в немолчанье.
Перекрои все словари,
рассыпь все бусы в беспорядке.
Я вижу, Франция, твои
пылинки на полях тетрадки.
В эмалированном тазу
ирги роскошное кипенье.
Россия. Август. И грозу
переведу в стихотворенье.
Назвать по имени слова
сосредоточенно и точно,
не помня степени родства
ключа и скважины замочной.
* * *
От нежности до созерцанья,
от белых стен до чёрных плит
неуловимое мерцанье
живые губы холодит.
И ты, гармоника губная,
беспечной жизни кутерьма,
ты уведёшь меня, я знаю,
туда, где кончилась зима.
Сыграй мне простенькое соло,
судьбы не тронув, не задев.
Мы все потом уходим к молу
морской почувствовать напев.
Его солёные глубины
трубе задумчивой сродни.
Но волны выгибают спины
не только в солнечные дни.
В любые дни деревья держат
небесный свод на кромке крон.
Ты тоже так живешь: ты между
землей и небом пригвождён.
В тебе ветра чужие бродят.
Твоя морская глубина
взлетает разом к небосводу,
и небо падает до дна.
* * *
Петербург, Петербург,
тосковать я уже разучилась.
Я у неба в долгу,
и дыханье от вздохов нежней.
Эта капля дождя,
что в ладонь бессловесно скатилась –
словно милость небес,
потому я склонилась над ней.
Мойку держит гранит,
и душа ее сжата мостами.
Лодкам тесно дышать
и взлетать над водой ледяной.
Даже небо в плену,
небо стянуто в купол холстами,
но художник наутро
коснется их краской иной.
На перилах моста расстаёмся,
и ты улетаешь,
и прозрачные перья
пронизаны солнцем насквозь.
И тебя подхватила
твоих соплеменников стая,
потому что нельзя вам летать
друг без друга – поврозь.
* * *
В таких снегах останешься навеки:
ни закричать, ни выплеснуть судьбу.
И воет ветер в чёрную трубу,
и смотрят в окна римляне и греки.
Прости себя. Ты тоже человек.
Пусти себя пожить на вольной воле.
Ветра твой город яростно вспороли
и раскачали лунный оберег.
Судьба заснежена. Сокрыты все следы.
Занесены-засыпаны дороги.
Озябли древнегреческие боги,
рассматривая льдинки у воды.
Душа заснежена – как горькая земля.
Хранит себя светло и молчаливо.
И засыпают ива и олива
над белою истомой бытия.
* * *
Как будто в ночной электричке
плыву неизвестно куда.
Россия по давней привычке
баюкает поезда.
Качает, качает, качает,
качает на стыках вагон.
В стакане горячего чая
плывет, отражаясь, перрон.
Перроны, леса и болота,
вокзалы, леса и поля.
Забудешь, откуда и кто ты –
напомнит родная земля.
Напомнит гудением ветра,
несущем обрывки вестей
над тысячами километров
железнодорожных путей.
И рельсы протянуты в небо.
И лестницами в облака
из были уходим мы в небыль
на зов уводящий гудка.
О музыке
1
– Спасибо, музыка. Ты помнишь обо мне.
Ты ждешь меня за каждым поворотом.
Ты, может быть, звучишь еще вчерне,
и вздрагивают медленные ноты.
Молчанье скрипки тише тишины,
нежнее крыльев ангельских, и всё же
коснёшься нарисованной струны,
и музыка останется на коже.
И след её парящий не затих
под сводами гудящего вокзала.
Из одиночеств горестных людских
мне ближе «Одиночество» Шагала.
Где музыка печальная молчит,
где взгляд бессилен, небо потемнело,
звезда-полынь пылает и горчит,
и время ждет, и скрипка онемела.
2
– Над тёмной музыкой, тяжелой и густой,
над белой музыкой холодного забвенья
ты проскользишь снежинкою простой,
летящей нотой сжатого мгновенья.
Летящей нотой, звуком из зимы,
с холодным хрустом взвившись над преградой.
Вмещает храм молитвы и псалмы,
а небо – тишину и снегопады.
Вмещает небо храм полупустой,
тебя, и снег, и новые созвездья.
А нота след оставит золотой
и пропадёт на дальнем переезде.
Сорвется вниз с убогого возка,
с моста – и в воду, поминай, как звали.
И след прочертит – тоньше волоска,
и уходящий в точку по спирали.
3
– Откуда музыка? Из темного угла,
из хруста, от избытка, из молчанья.
Ты, скромница у краешка стола,
не очень-то щедра на обещанья.
Посмотрим. Прозвучу – не прозвучу,
заметят – не заметят, мне ли дело.
А вечность прикасается к плечу,
и ты в зрачки ей смотришь неумело.
Под небом хорошо. И облакам
себя не растерять по распродажам.
А ты себя сшиваешь по кускам,
прочнее, чем сошьет швея со стажем.
Откуда музыка? Из прочного стежка,
из лоскутков, что пригнаны так плотно.
А скрипочка нарядная легка,
и прозвучит легко и беззаботно.
* * *
Успокойся, душа:
ты сама за себя не в ответе.
У осенней тропинки
своя золотая судьба.
Успокойся, душа:
по старинной, по верной примете
неспроста за углом
протрубила чужая труба.
Ты кричишь в пустоту
и теряешь прозрачные перья.
Ты не можешь не знать,
что дорога уводит во тьму.
Ты не веришь себе.
Ты не веришь старинным поверьям.
Но доверишься снегу,
что лёг на тюрьму и суму.
А ведь жизнь хороша –
вся насквозь хороша, и до дрожи.
И горячие грозди горчат
и горят на снегу.
Мне не нужно людей –
эти маски, прилипшие к коже.
А снежинки люблю.
И деревья. Без них не могу.
* * *
Ты думал – музыка добра,
но в ней совсем не стало смысла.
Чернёной строчкой серебра
слова построились и числа.
И ноты, отлетав своё,
бессильно падают сквозь прутья.
Очнись, прорвись сквозь забытьё,
тебя настигло перепутье
в который раз. А мир таков,
каким он был всегда и всюду.
В нём слишком много пустяков,
в нём слишком мало места чуду.
Оно ютится на краю,
почти не веря, что заметят.
Я у гнезда его стою,
где робко руки тянут дети,
глазеют мудро и светло,
но не решаются потрогать.
Чернеют слово и число,
а ноты снегом занесло,
и с ними – нотную дорогу.
* * *
Нам тягостно. Мы бедные и злые.
Нам холодно, и пусто, и темно.
Мы странники безвестные России,
в Европу затворившие окно.
Дорога пробирается сквозь снеги.
Куда-нибудь да вывезет судьба.
В водительских кабинах обереги
размеренно качает ворожба.
«Храни меня от горя и от смуты,
храни меня от боли и беды».
Летящие дорожные минуты
швыряют в стёкла снежные следы.
Гудят нетерпеливые моторы.
Не различить ни музыки, ни лиц.
России безграничные просторы
опаснее затворов и границ.
Нас поглощает белое пространство.
Попробуй быть спокойным и живым.
Дорог и бездорожья постоянство
становится бессмертием твоим.
* * *
Когда тоска по человеку
тебе уже невмоготу,
и трижды ты в чужую реку
входил, но каждый раз не в ту,
о чём грустить? Печальный опыт
в зрачках веселых затая,
прости им грохот, топот, ропот,
послушай бездну бытия
как раковину, где молчанье
хранит морскую глубину.
Ты сбылся в музыке случайно,
попал случайно на войну,
где маски в бой идут и пляшут,
и смотрят в прорези для глаз.
Звучит моление о чаше
который раз, который раз.
* * *
Ребёнок, зачатый нежданно,
родится в назначенный срок.
Желанный ли он, нежеланный –
готовьте небесную манну,
исправно платите оброк.
Ах, эти горячие слёзки,
и пальчики – легче пера,
врастают в пространство подростка,
где сцеплены нежно и жестко
чужие сквозные ветра.
Из звёздной томительной пыли
с немыслимой той высоты
мы в жизнь драгоценную вплыли
и в ней навсегда позабыли,
что время разметит листы.
Ты тоже, похожий на чудо,
сидишь со своею простудой,
тебя не пустили во двор.
Как странно быть взрослым и умным.
Твой ангел движеньем бесшумным
крыло над тобой распростер.
Из книги «Зов свирели» (1998)
* * *
Господь зажег мою свечу.
Она горит, неповторима.
Так что же я теперь кричу
о том, что жизнь проходит мимо?
Моей свечи могло не быть,
и погасить ее не сложно.
Об этом трудно позабыть.
Об этом помнить невозможно.
* * *
Живу беспечно в стиле ретро,
прогулки вечером любя.
И свежесть утреннего ветра
приносит песню от тебя.
И жду весну, как дети чуда,
но мне не в тягость долгий снег.
Слежу, как пестрою причудой
скользит во тьму двадцатый век.
Во тьму столетий – раствориться
в их безразличной суете,
прильнув испуганной страницей
к папирусу и бересте.
* * *
Я скучаю по дороге,
по вокзальной суете,
по прощанью на пороге,
паре строчек на листе.
Я скучаю по мельканью
деревушек за окном,
по тому, как утром ранним
наконец забудусь сном.
Стук колес неугомонный,
мост, шлагбаум, поле, лес.
Ты ничейный, ты бездомный
здесь возник, а там исчез.
Так осенний лист шуршащий
наслаждается зарей,
пребывая в настоящем
между небом и землей.
* * *
Холодноватой серой тканью
ложится сумрачный Покров –
негромкое очарованье
моих прозрачных вечеров.
Листвы последней под ногами
дремотный шепот: все пройдет.
И засинеет над снегами
морозный чистый небосвод.
В хрустящем воздухе январском
припомню в солнечности дня,
как ты одаривал по-царски,
Покров, печалями меня.
* * *
А предосенняя вода
чиста и холодна.
И с неба скатится звезда
и пролетит до дна.
И будет жить среди камней,
роняя тихий свет.
Однажды вспомнишь ты о ней –
спустя сто тысяч лет.
Комета
Она вернется через два тысячелетья,
всё так же равнодушна и светла,
не вспомнив, как боялась посмотреть я
на два ее сияющих крыла.
Она вернется. Кто-то вскинет руку:
«Смотри, комета!» Восхищенный взгляд…
Им напророчит вечную разлуку,
как два тысячелетия назад.
Уже сравняют тихие могилы,
где тлели наши сонные тела.
Она вернется. Боже, дай мне силы
смотреть на два сияющих крыла.
* * *
Изящный легкий взлет портала
сквозь дымку влажную ветвей.
Душа на вздохе замирала
в провинциальности своей.
Но ты сумел не стать привычкой
и приковал мой жадный взгляд
и гулким бегом электрички,
и стройным хором колоннад.
Я благодарна, город строгий,
всем шпилям, всем твоим ветрам.
Ты усыпил мои тревоги,
полупустой огромный храм.
И пусть ты призрак окаянный,
увы, несбыточного сна.
Но как прозрачна и желанна
та петербургская весна.
* * *
Серый хлеб голубям на кормушку крошу,
благодарно встречаю спешащие дни.
Ни о чем не молюсь, одного лишь прошу:
то, что есть у меня – сохрани.
Сохрани городок, что уплыл в снегопад,
эту легкость, с которой вдоль улиц иду,
и ветра, что тревожно еще просвистят,
и в окошке моем – голубую звезду.
* * *
А будни в сторону отброшены,
а время музыкой озвучено.
Как хорошо читать Волошина,
так долго пьют вино тягучее.
И строки пряные, медовые,
с горчинкою полынной, знойною,
то звякнут брошенной подковою,
то льются медленно, спокойные.
И по степи иду беспечно я,
и слышу море отдалённое,
и знаю, что бывает вечное,
но никогда неутолённое.
* * *
В город сумрачный, строгий и бледный,
в город царственный белых ночей,
там, где всадник возносится медный,
ты приедешь чужой и ничей.
В очертаньях его незнакомых
ты задумчиво будешь искать
иноземную гордую стать
и ажуры мостов невесомых.
Не однажды граниты воспеты.
Ты не первый, сломав карандаш,
попытаешься словом и светом
дребезжащий вернуть экипаж.
Чтобы вспрыгнуть легко и свободно,
чтобы кучеру крикнуть: «Гони!»,
чтобы вспугнутой стаей огни
разлетались бы в небе холодном.
* * *
А после будет день девятый,
печальный стол и горький хлеб,
над зеркалами черный креп
волной спадающей, несмятой.
Я буду ласково и строго
на лица тихие смотреть,
но не войти в земную клеть
с перил небесного порога.
С улыбкой ясною, иной –
в окно открытое, неслышно…
И медленной рукой Всевышний
задёрнет штору за спиной.
Из книги «Миг изумленья» (2000)
* * *
Свет струился и мягко, и зыбко.
Словно ангел на вечном посту
уводила нас первая скрипка
неумелых птенцов, в высоту.
И казалось, не будет возврата,
даже стрелки замрут на часах.
Повседневность – всего лишь расплата
за умение жить в небесах.
* * *
Из комнаты прохладной и пустой
шагнуть в жару душистого июля,
где спелых трав дурманящий настой,
где бабочки в созвездиях уснули.
И по дорожке тёплой босиком
туда, где в зное вздрагивают грядки.
Наклонишься к земле, и над виском
щекочут кожу тоненькие прядки.
Земля так близко, добрая земля…
Всё из земли, всё в землю, круг замкнется.
Единый путь звезды и ковыля,
единый свет небесного колодца.
* * *
И росписью еще не тронут
недавно выстроенный храм.
Ветра неистовые стонут
над перекрестьем стылых рам.
Озябший город затаился,
прижавшись к сумрачной земле.
А свет таинственный дробился,
рисуя блики на стекле.
И голоса легко и властно
несут под купол торжество.
Мир обозленный, мир прекрасный,
прими святое Рождество.
В твоих ладонях огрубелых
младенец дремлет в полумгле.
Мир черных стен и бликов белых,
гостишь ты на Его земле.
* * *
Мир так огромен,
мир бесконечен.
В маленьком доме –
тихие свечи.
В маленьком доме
чайник вскипает.
В сладкой истоме
свечи растают.
Мир так огромен –
что мне за дело?
В маленьком доме
скрипка запела.
Что бесконечность
мира и света?
Ведь быстротечность
скрипкой согрета.
Скрябин «Прелюдия и ноктюрн для левой руки»
Как ветка, стонущая в буре,
и беспокойна, и резка,
по солнечной клавиатуре
металась левая рука.
Горячею тревожной птицей –
над жизнью тусклой и мирской.
Он знал, что исказятся лица
нечеловеческой тоской.
Неслась отчаянно и бурно
его осенняя река.
Поток упругого ноктюрна
дробила левая рука.
У каждого свои ступени
в иные, звучные миры.
В порыве звёздных откровений
забудьте правила игры.
* * *
Твоих мостов, дворцов и храмов
меня кружила кутерьма,
и не была тягучей драмой
метельно-влажная зима.
И ты нежданным стал подарком
в кольце оград и фонарей,
когда из-под певучей арки
взлетала стая сизарей.
И было счастьем спозаранку
лететь над храмом в синеву
и видеть ясно, как Фонтанка
вплывает медленно в Неву.
Пусть те мгновенья – жизнь иная.
Но жизни все свои любя,
я, не тоскуя, вспоминаю,
и улыбаюсь, не скорбя.
* * *
Над сопкою, вдали, над лесом,
хлеща, беснуясь, торопясь,
наплывом шла дождя завеса,
и в город шумно ворвалась.
И город пал. Под властью ветра,
как будто стих припомнив враз,
он ритм упругий злого метра
твердил, сбиваясь с гулких фраз.
И грохот был, и молний вспышки,
и город впитывал, сдурев,
всё то, что было остро, слишком,
что мчалось, разом ошалев.
И распахнув балкона двери,
вдыхала бред стихии я,
и ощущала в полной мере
в крови биенье бытия.
* * *
Земля живет предчувствием травы,
её побегов тоненьких и острых.
И пусть ладонь небесной синевы
накроет мир, доверчивый и пестрый.
И вновь идут весенние дожди,
чтоб прорасти пружинистой травою,
и ты дыши под ними и иди
с веселой непокрытой головою.
Шепчи весне, что снова ты воскрес,
что радость есть, и на отчизне скудной
ты пробудился, словно дальний лес,
торжественно, и медленно, и трудно.
Ты тоже жил убого, взаперти,
но ринулась весной твоя свобода,
и надо ввысь тянуться и расти,
как тянется и тянется природа.
Как птица в небеса, за взмахом взмах,
уходишь в будущее по спирали.
А люди, запершись в своих домах,
устало на ночь окна запирали.
* * *
Исчезнет невесомость вздоха,
и хлопнет крышкой западня.
В окне кривляется эпоха,
с насмешкой глядя на меня.
Мы с ней друг друга невзлюбили.
Я презирала от души
азарт ее автомобилей,
её звенящие гроши.
В её крикливой перестрелке,
где надо жить и быть, как все,
кружилась я пугливой белкой
на чёртовом на колесе.
Она же мерила надменно
тяжелым взглядом и крутым
мой детский почерк откровенный,
моих стихов летучий дым.
Мы с нею не сошлись во вкусах.
В её плутая проводах,
я собирала, точно бусы,
росу весны в чужих следах.
Она с трудом меня терпела,
как нелюбимое дитя.
Мне до нее не будет дела
и жизнь спустя, и смерть спустя.
* * *
Мы вышли в снег из хлопнувших дверей.
Мела тугая, колкая поземка.
Косые плечи стылых фонарей
бросали свет испуганно и ломко.
Мы вышли в мир, чтоб жить и горевать,
чтоб ветер бил в отчаянные лица,
чтобы друг другу пальцы согревать
и взглядывать сквозь снежные ресницы.
Мир бел и пуст. Да, он теперь таков.
Ты не изменишь холодящей сути.
И ветка черной тяжестью оков
лежит на каждой дрогнувшей минуте.
А мы идем. Под аркой фонарей
морозный скрип все гуще и протяжней.
И нет мгновенья четче и острей,
и нет удачи ярче и отважней.
* * *
Мне уже не вернуться в тот город,
где виденья мои собрались,
где закат беспощадно распорот
дерзким шпилем, стремящимся ввысь.
Как любили я белые ночи,
контур вздыбленных в небо мостов!
Каждый штрих там умело отточен
на пространстве вечерних холстов.
И любой завиток у ограды
чётко выделен в мареве дней.
О, торжественные колоннады,
силуэты ночных фонарей!
Мне дано лишь запомнить невнятно,
как уходит собор в синеву.
Мне уже не вернуться обратно
в город-призрак, смотрящий в Неву.
* * *
Изгиб вдохновенный, изыскано-четкий
приподнятого плеча.
Зачем я подолгу, доверчиво-кротко
смотрела в глаза скрипача?
То были колодцы, водою студёной
они обжигала меня.
Зачем я была отрешённо-влюблённой,
уставшей струною звеня?
Он гладил и нежил, ласкал и тревожил,
и взгляд становился светлей.
Зачем проводил он по лаковой коже,
по коже прозрачной моей?
Как страшно и немо в забытом футляре
глаза вспоминать скрипача
и как со смычком танцевала я в паре,
пугливо касаясь плеча.
* * *
И жизнь меня очаровала
упрямой поступью своей.
Упругий плеск морского вала
зовёт из дрогнувших дверей.
И окунусь, вдыхая жадно
его колючий неуют.
Но знать мне в сумерках отрадно,
что где-то верят и поют.
Смотрю на стрелку отрешенно:
короткий вдох, как будто взлёт.
Ты волен и не быть влюблённым,
но жизнь идет, но жизнь идет.
Она идет неотвратимо,
зачем-то в хаосе храня
и струйку тоненькую дыма,
и глыбу камня, и меня.
* * *
В своей задумчивости праздной
иду, слова шепчу бессвязно,
гляжу, как вечер не спеша
рождает звезды в небе сизом,
и новые творит капризы
моя безвестная душа.
Полным-полна ее котомка.
Здесь сопок вырезная кромка,
цветов невиданных забытых
охапки на крыльце лежат,
и первый здесь полет стрижат,
их росчерки в окне открытом.
Да и какая в том беда,
что прохожу я в никуда
с улыбкой ясной и блаженной.
И ни о чем я не прошу,
лишь хлеба птицам покрошу
в своей судьбе несовершенной.
* * *
В жестоком мире запевают птицы,
растёт трава, и падает звезда,
скрипят привычно в доме половицы,
и ломит зубы стылая вода.
В жестоком мире забивают сваи,
ребёнку песню тихую поют,
и так звенят на улицах трамваи,
что вздрагивает солнечный уют.
Но мир жесток. Замри же в ожиданье
свистящих пуль и жгучих катастроф.
Вот отчего сжимается рыданьем
тугое горло падающих строф.
Вот отчего от нежности и злобы
твой взгляд устал, и только облака
так пенисты, чисты и крутолобы,
твердят, что смерть прозрачна и легка.
* * *
Ты оставил мне позднюю осень,
снегопады седые её,
кроны тёмные сумрачных сосен,
где гортанно кричит воронье.
Научилась я быть благодарной
и за скудность суровой земли
с простотой ее грубо-кустарной,
и за серые сопки вдали.
Хороши ли оливы у склона,
как баюкают песни морей,
не расскажет скупая корона
обнищавшей отчизны моей.
Где бескрайние белые снеги
на застывшую душу легли,
где под тусклым сиянием Веги
так печальны просторы земли.
Где свинцовы тяжелые воды
бесконечных таинственных рек,
где как символ исконной свободы –
первый снег, первый снег, первый снег.
Август
Листва ещё не пожелтела.
Ещё купается в тепле
из астр сиреневых и белых
большая клумба во дворе.
Но душу к осени готовлю:
лучи последние ловлю,
себе ни в чем не прекословлю
и каждый миг до слез люблю.
Небо
Как ты торжественно-спокойно
несёшь седые облака.
Твоя ладонь то жгуче знойна,
то так прохладна и легка.
Люблю подолгу, отрешённо
смотреть в тебя, не зная слов,
чтобы назвать твой сон бездонный,
твой всеобъемлющий покров.
Ты знаешь тайну птиц и грома,
звезды и росчерка огня.
В свой чистый хаос невесомый
ты примешь ласково меня.
Детство
Трава и бабочки – так близко,
у самых глаз. Живи взахлеб.
Ведро наполнено до риски
и Бог ладонью тронул лоб.
Зима когда-нибудь, нескоро.
А смерти нет. Чужой виной
пролёт сквозного коридора
ещё не дышит за спиной.
* * *
В своей надменности усталой
застыли каменные львы.
Душа безвестная витала
над гладью солнечной Невы.
Она вернулась. Ликованье –
над шпилем, в небе, наугад.
О, сад с единственным названьем!
Крылом задену Летний сад.
Над Исаакием кружиться,
струной испуганной звеня.
…И удивленным взглядом птица
проводит в вечное меня.
* * *
Бывает музыка такая,
когда во тьме сияет звук,
и пианист, изнемогая,
вливается в движенье рук.
Он сам становится рекою,
что мерно плещется у ног,
раскачивая мир тоскою,
как ускользающий челнок.
Раскачивая мир печалью
на глади солнечных зыбей,
накрыв прозрачною вуалью
его простую колыбель.
И столько власти в пальцах тонких,
и так доступны чудеса,
что мир доверчивым ребенком
без страха смотрит в небеса.
* * *
А летом я сидела на крыльце.
Смолистые сочились зноем доски.
Брюшко испачкав в бархатной пыльце,
кружился шмель, и плавали полоски.
Малину собирала я с куста,
как будто нет изысканней заботы.
И думалось, что лягут неспроста
слова отчаянья на солнечные ноты.
И боже мой – та музыка пришла!
И я в струне погибшей узнавала
последний плеск последнего весла,
упругий рокот яростного вала.
Как странно быть виновницей всему,
прилежно собирать с куста малину
и лета золотую кутерьму
уже пройти почти наполовину.
И в страхе думать: это не со мной.
Такое – мне? Его струны рыданье?
И прислониться к дереву спиной,
и быть прожилкой в кроне мирозданья.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































