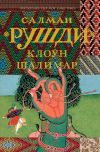Читать книгу "Немое кино без тапера"

Автор книги: Святослав Тараховский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
10
«Когда клетка готовится к митозу, исчезает ядерная оболочка и нити ДНК, находящиеся в ядре, начинают упаковываться в 46 (у человека) хромосом. Затем в клетке удваиваются все ее элементы, в том числе и хромосомы. Две идентичные хромосомы оказываются соединенными только в одном месте, при этом их „плечи“ чуть расходятся. В следующей фазе происходит деление, для чего природа использует специальный инструмент – веретено деления, которое растаскивает сестринские хромосомы к разным полюсам. Далее вокруг них образуются ядерные оболочки, а материнскую клетку делит мембранная перетяжка. Так получаются две дочерние клетки, каждая со своим набором хромосом».
Оторвавшись от рукописи, Ладыгин оглядел пространство своего начальственного кафедрального стола; нашел, что искал, расковыряв обертку, нервно бросил в рот заменитель курения леденец и попытался снова сфокусироваться на тексте.
Доцент его, Юрий Сорокин, довольно удачно излагал на бумаге сложнейшую проблему. Как ученый, по мнению Ладыгина, он пока что безветренно болтался где-то в районе нуля, как популяризатор науки был неплох. Сию его статью для журнала должен, как завкафедры, завизировать лично Ладыгин – черт возьми, придется ее прочесть, прочесть, по возможности, быстро, чтоб осталось время на то, на самое главное.
Сорокин. Прекрасно помнил его безбородым, с гусиной шеей очкариком, поступавшим лет десять назад на биофак. Сам принимал у него экзамены, сам мучил вопросами, сам поставил три балла и был уверен, что сей средний абитуриент не пройдет. И вот на тебе: теперь он читает его статью – хитро устроена жизнь, хитро, парадоксально, любопытно. Уже, кажется, познали и механизм митоза, и стволовые клетки вовсю в ходу и расшифровали геном человека, но реальная человеческая жизнь делается все непостижимей. Простой пример: он вынужден сейчас читать Сорокина, а хочется ему заняться другим, во сто крат более важным делом.
«Совсем не смешно. Проблемы дочери постоянно вытесняют во мне другие важные проблемы, в том числе научные. Именно, получается так. Какой я, к черту, ученый?! Впрочем, кто сказал, что „Дарья и все, что с ней связано“, не есть научная проблема? Остановись, Ладыгин, ты все-таки в институте!.. Ах, да, Юрка Сорокин! Хороший парень, такие необходимы науке, чтобы просвещать и привлекать к себе массы, сам я когда-то решил стать биологом, прочитав Сетон-Томпсона и Пришвина. Сорокин еще молод, тридцать восемь, кажется, и весьма перспективен. Доброжелателен, лоялен, с быстродействующим чувством юмора – на каждый, даже не очень смешной анекдот, реагирует первым. Правда, мешковат, неспортивен, но, может, все-таки познакомить его с Дарьей? Тьфу, опять соскок на проторенную дорожку! Превращаюсь во флюс».
Вошла Катя, его ассистентка.
– Кафедра в пять, Петр Валентинович? Изменений не будет?
«Катя. Екатерина Ильинична. Странная, милая сорокалетняя дама. Работает уже пять лет, но боится меня как в первый день. Священный трепет в ней постоянен, но не я его внушаю – природа ее такова. Природа постоянной готовности к смирению. Редкое в женщине, благодатное, так не всегда ценимое мужьями качество. Вот если бы Дарья!.. Опять. Невыносимо».
– Никаких изменений, Катюша. Будем слушать Сорокина.
Кивнула и вышла. Послушная тень.
Он взглянул на часы. Пока что он на кафедре в единственном числе, и до пяти еще есть время. Если быстро покончить с Сорокиным – хватит и на то, на главное. Соберись, Ладыгин. Когда-то ты умел одновременно делать два дела.
«Изучение микротрубочки с помощью электронного микроскопа и рентгеноструктурного анализа показало, что растет она примерно так, как строится кирпичная труба. Кирпичики из белка под названием тубулин складываются один на другой в тринадцать стержней, которые и формируют стенки „трубы“ диаметром 25 нанометров. Растущие микротрубочки натыкаются на хромосомную пару с двух сторон, но цепляется к хромосоме только та трубочка, которая попадает в определенное место».
Информация раздражала, плохо проникала в него. Матюгнувшись, отбросил, наконец, никчемный самоконтроль и доверился подсознанию, той программе, что сейчас доминировала в нем. «Лучший способ избавиться от соблазна – поддаться ему», – вспомнилась старая, но верная шутка.
Руки откинули в сторону Сорокина, достали и раскрыли секретный блокнот.
«Вперед, чудовище, – сказал он себе. – Доводи до ума свой план. Одно скажи, ты сделаешь это, ты сможешь реально провести его в жизнь? Не завязнешь в интеллигентных сомнениях, как муха в повидле?»
Он сделает это. Хочет Дарья или не хочет заводить ребенка – теперь для него это не важно. Важно, что хочет он.
В человеческом мозге так много закоулков, тупиков и лабиринтов, что даже приличная мысль зачастую путается в нем, вовсе теряется или выходит из его глубин искаженной, даже противоположной по смыслу. С Ладыгиным такое бывало часто, с возрастом все чаще и с разными мыслями. Но только не с этой, ставшей для него главной и закрывшей полнеба.
«Цель задачи ясна: заполучить внука (внучку), – перечитывал Ладыгин свой план. – Главная цель достигается тремя возможными путями. Первый: я должен сам искать (найти) дочери мужа с тем, чтобы внук (внучка) появился в законном браке. Вариант кажется немного смешным, однако является наилучшим, так как в заботах отца о дочери нет ничего предосудительного. Дело тонкое, архисложное, однако принципиальных препятствий для него (и для меня) не существует. Надо пробовать. Искать и добиваться.
Второй (наихудший): я должен подыскать дочери если не мужа, то хотя бы производителя. Самца, способного дать здоровое потомство. Безо всяких с его стороны обязательств. Возможно, за деньги (ему) или по-особому с ним уговору, возможно даже так, чтобы Дарья ничего не знала. Мавр сделает свое дело, мавр – с позором! – сможет уйти! (Вариант кажется аморальным и безбожным, однако наука с моралью несовместна, наука выше Бога, она обязана исследовать даже то, что общество и Бог считают аморальным. Тем более что я – законченный и блистательный атеист.)
Третий (отвратительный): по достижении критического возраста (то есть года через два, три, крайний срок – четыре) я должен уговорить дочь на искусственное зачатие. Объяснить, что ничего плохого в этом нет, что это вполне в духе века, что таким образом она раз и навсегда избавится от проблемы некачественных современных мужчин. Убедить ее, сделать это как можно скорее, пока мы с Ольгой еще в силах и можем помочь с воспитанием ребенка (если Дарья согласится, я должен приложить усилия к тому, чтобы операцию провести в Европе, предпочтительно в Германии; качество европейской генетики и генофонда, на мой взгляд, выше, чем в России)».
Ладыгин дошел до точки и остался вполне собою удовлетворен. План был всеобъемлющ, целостен и строен, ни дать ни взять привычное научное задание кафедре на предстоящую декаду. И, кстати, абсолютно реальный: исполнение зависело теперь исключительно от него самого, что также не могло не обнадеживать. Не хватало конкретности, но какой, с чего, собственно, Ладыгину начинать?
Список, спохватился Ладыгин. Конечно, как он мог забыть? Следует срочно составить список мужчин, годящихся для великого дела.
Пальцы выхватили и изготовили к делу любимую синюю ручку.
С кого начать? С того, кого ты сам сумеешь найти и одобрить. Можно еще проще. Начать следует с тех, кого ты знаешь лично. Да, пока с них, несомненно, это вернее всего.
Ручка, скользнув по бумаге, вывела первый завиток зломыслия.
«В. Потапов – риелтор и тамада». Ладыгин задумался и напротив Потапова вписал свое заключение: «Не годится ни в мужья, ни в самцы».
Дело пошло.
«Вас. Хворобнов. Возможен в двух категориях.
Сема Холодковский. Уже женат. Как производитель, по-моему, ноль.
Николай, туроператор. Непонятен. Склонен к гомосексуализму?
Сергей, актер. Не годится. Слишком субтилен, эмоционален, глуп.
Стасик и Славик, художники. Явная вторая категория. Производители».
Пауза. Пальцы теребили ручку, ждали посыла. Кто еще? Сорокин? Можно попробовать, но вряд ли. Такие мешки, как Сорокин, Дарье все-таки неинтересны. Кто еще? Кто? В памяти всплывали малознакомые и совсем незнакомые, сконструированные его воображением экземпляры. Он рисковал, он не имел права на ошибку, если он ошибется и вслед за ним ошибется на его кандидате Дарья, ужас такой ошибки обрушится на него. В мозгу отщелкивались и отлетали варианты развития событий. Выходило, что не действовать было плохо, но действовать – очень опасно. Может, все-таки ждать? Стоять на месте? Умирать? Нет, сказал себе Ладыгин, смерть подождет. Привет тебе, Раскольников, от твари дрожащей. Она более не дрожит.
Ручка подчеркнула фамилию Хворобнов, пометила ее номером один.
Рука вырвала страничку из блокнота, чиркнула зажигалкой и поднесла к бумаге голодный язычок огня. Сгорая, записка странным образом накрепко врастала в его память. «Детектив начинается, – подумал он. – Тебе, старому зануде, предстоит его осуществить».
Хворобнов, номер один.
11
Все прекрасное всегда необъяснимо, Шайтан был уверен, что прав.
Однажды, после седьмого или восьмого кормления у железной двери подъезда, он лизнул мужчине руку. Он был гордым, неподобострастным псом и совершил такое действие совершенно непроизвольно, не вложив в него никакого другого умысла, кроме простой собачьей благодарности, которую не умел выразить по-другому. Но, похоже, на мужчину такой собачий поступок произвел неслабое впечатление. Вечером другого дня, насытив собаку, мужчина распахнул дверь и пригласил Шайтана последовать за ним. «Не бойся, пес, – сказал он, – никто тебя не обидит. Идем». Шайтан и не думал бояться, он умел постоять за себя, к тому же этому человеку, как подсказывала собачья интуиция, можно было доверять. С высоко поднятым хвостом друг свободы Шайтан проследовал в подъезд. Некоторое замешательство в мыслях возникло у него перед лифтом, когда разъехались в стороны створки, и пес увидел перед собой тесное замкнутое пространство, логово, из которого, в случае опасности, не было выхода. Но и здесь, проявив самообладание, Шайтан доверился мужчине-кормильцу и судьбе и, несильно поартачившись, ступил в лифт следом за ногами человека.
Квартиру с ахами открыла женщина, которую он раньше встречал во дворе. Запах духов, исходивший от нее, потревожил нос и не очень понравился Шайтану. Не успел он обдумать, что бы это значило лично для него, как кормилец, подхватив его на руки, потащил вглубь своего жилища и предательски опустил в белую гладкую яму, до брюха заполненную теплой водой. Женщина с не очень приятными духами и еще одна женщина, помоложе, принялись мочить его горячими струями воды и, что самое ужасное, намыливать скользким пахучим шампунем, в то время как мужчина, которому он так легкомысленно доверился, крепко держал его лапы, морду и грудь. Шайтан дрожал, но сопротивлялся; обиженно вращая огромными глазами, он всеми силами стремился выбраться из белой ямы или хотя бы естественно, по-собачьи, отряхнуться. Но осуществить такое законное желание ему не давали. «Нельзя! – страшно кричал мужчина, едва Шайтан пытался привести морду, тело и, соответственно, шерсть в колебательное, из стороны в сторону движение, от которого по всей ванной, на зеркала, халаты, полотенца и зубные щетки летели грязные мыльные ошметки. – Трястись нельзя!» – повторял мужчина и легонько, для лучшего усвоения сказанного шлепал пса по морде. Шайтан в недоумении и страхе прекращал тряску, женщины смеялись, особо звонко – молодая, которую оба старших называли Дарьей, и пес никак не мог понять, что смешного во всем этом реальном издевательстве. Его прополоскали в трех водах и, наконец, разрешили выпрыгнуть из ямы, что он мгновенно и с удовольствием проделал, полагая, что на этом насилие людей над ним, гордым хозяином дворов, прекратится. Не тут-то было. Едва лапы его коснулись прохладной плитки пола, как, набросав на него сверху полотенца и цветастые тряпки, накрыли его три пары человеческих рук, принявшихся елозить, протирать и высушивать черную собачью шерсть. Такая процедура, однако, оказалась собачьему телу много приятней насильственной помывки, причем приятней настолько, что Шайтан от удовольствия начал слегка подвывать. Когда же его освободили от рук и, распахнув дверь ванной, запустили в просторный коридор, он, почувствовав в себе легкость и свежесть необыкновенную, от счастья продолжающейся жизни принялся носиться, стуча когтями по паркету, и лаять во всю мощь. Он был готов простить людям их низкое вероломство, потому что вдруг догадался, что они принимают его в свою стаю и что помывка всего лишь обыкновенный у них ритуал посвящения и приема. Когда же ему дали сыру, волшебный вкус, а больше запах которого был знаком ему только по помойкам, когда мужчина, подстелив на пол одеяло, уложил Шайтана в кабинете рядом с креслом, в котором, раскурив ароматную трубку, расположился сам, он почувствовал себя абсолютно счастливым. «Ну, псина, спросил мужчина, как будем тебя величать? Знаешь-ка что, предлагаю тебе хорошее имя. Мужик. Да, именно, Мужик. Тебе нравится, Мужик?» Шайтану нравилось все. Он понял, кто главный в этой стае, порадовался, что у него появилось еще одно имя и настоящий Хозяин, мысленно его поблагодарил, поклялся в верности и быстро заснул.
С того дня жизнь Мужика-Шайтана переменилась и стала все менее походить на собачью. Хорошо, что из нее исчезла борьба с непогодой, дождями и холодом. Прекрасно, что не надо было каждый день ломать голову и километрами бить усталые лапы в поисках пропитания. Здорово было каждый вечер с визгом и очумелыми прыжками встречать в прихожей Хозяина, стаскивать с него шляпу или шапку, которую он, сопротивляясь для проформы, позволял с себя стащить, чтобы потом после совместных рычаний и игры, уговоров и обязательных ласк возвращать ее владельцу. Замечательно было иметь свое законное место в кабинете, за креслом, куда после сытного завтрака можно было удалиться, поглядеть на картины и соснуть и где, как в настоящей норе, никто не беспокоил, потому что, кроме Хозяина, никто туда днями не заходил. Плохо было то, что никак не складывались у Шайтана отношения с женщиной, чьи резкие духи были ему не по вкусу; она покрикивала на него, пыталась командовать, а он приказов над собой не терпел ни от кого, кроме Хозяина. Но хуже всего было то, что гулять его выводили хоть и дважды в день, но всегда на длинной привязи, именуемой поводком. Он помнил все закоулки и запахи двора, с интересом обходил старые, интересовался новыми и везде оставлял свою письменную отметину, чтоб и другие помнили и не забывали его. Не понимал Шайтан одного: почему неглупые люди, и даже Хозяин, держат его на этой дурацкой веревке-поводке? Боятся, что он даст деру, убежит? Напрасно, он вовсе не такой уж дурак. Если и убежит на часок, другой, третий, то только для того, чтоб проведать родню, рассказать ей о своей новой жизни и сразу вернуться к новой стае и Хозяину – ведь он поклялся ему в верности. И разве в стае не все, кроме хозяина, равны? Почему же не гуляют с веревкой на шее женщина с неприятными духами и ее дочь Дарья, почему такое унижение выпало на долю только ему, рожденному свободным? Правильные ответы не приходили Шайтану на ум, поводок на затылке стеснял на прогулках и унижал невероятно; особо постыдным делалось его положение тогда, когда во дворе приходилось встречаться с бывшими соплеменниками. Худые, в болячках бродячие псы опасливо держались на расстоянии и смотрели на него, упитанного и сытого, так, как смотрят на предателя – с презрением и жалостью. Раз за разом Шайтан пытался броситься к ним и что-то объяснить, но каждый раз проклятый поводок, больно дергая за шею, лишал его такой естественной возможности.
Наверное, со временем он окончательно привык бы к новой жизни и перестал обращать внимание на бывших сотоварищей – в конце концов, они должны понимать, что он принят в новую стаю и живет теперь ее интересами и по ее законам. Но внезапно накатила влажная весна. И однажды, выйдя на прогулку с Дарьей, Шайтан словил чутьем таинственный и всепобеждающий запах. Незнакомая далекая самка призывала его к любви так властно, что Шайтан застыл и напрягся до последней жилочки своего молодого тела. Всепобеждающий мучительный и прекрасный инстинкт мужчины разом перевернул ему душу и замутил несмышленые мозги. Нет, конечно, нет, он не собирается предавать Хозяина, ведь он дал ему клятву – наоборот, он почувствовал, что у него появляется, наконец, шанс крупно отличиться ради Хозяина и всей его новой стаи. Понюхав воздух и взяв след, он немного пожалел, что Хозяина нет рядом, но подумал, что это не беда, он, верный Шайтан, все сделает сам, в одиночку, за двоих – то-то Хозяин порадуется и, любя, почешет ему брюхо!
Ненавистный ошейник был, наконец, вывернут и сброшен. Дарья голосила и какое-то время бежала за псом, пока он, как радаром ведомый собачьим зовом, окончательно не исчез среди хаоса домов, гаражей и пустырей большого города, ошибочно считавшего себя победителем Природы.
12
Музыку! Больше всего на свете Марик любил музыку! Всю и безоговорочно, но более всего ту, что производил на свет еврейский инструмент скрипка. Так когда-то определил принадлежность скрипки Миня. Марик сперва удивился и даже задал по такому поводу отцу несколько неумных вопросов, ответы на которые, по молодости лет, его не удовлетворили, но ход самой жизни убедил в родительской правоте: большинство выдающихся скрипачей были представителями одного и того же уважаемого носатого народа. Впрочем, этот факт не имел для Марика никакого значения. Когда классный музыкант во фраке и с бабочкой, что, впрочем, тоже было совсем неважно, растягивал, как нервы, долгую и мучительную кантилену, когда острые, тонкие, быстрые звуки сыпались в зал как колкие обжигающие искры, сердце его сжималось в ком и начинало подниматься к горлу, достигало его, застревало в нем и сладостно ныло до тех пор, пока в момент кульминации, когда победные возгласы крохотной скрипки перекрикивали громаду оркестра со всей его медью, контрабасами и ударными, оно срывалось вниз и в полном изнеможении падало на положенное ему место. Много позже Марик поймет, что уже в нежном детстве он, оказывается, испытывал на концертах оргазмы и просто не знал, что те его великие душевные и физические потрясения называются так неинтересно.
Когда Марику исполнилось пять, настало время определить его большую судьбу. Миня-Оллвул надел свой лучший, не подвластный моде бритишовый, чистой шерсти костюм, французский шелковый галстук, ботинки с узором типа «разговор» и повел свою гордость в музыкальную школу. Предстояли экзамены на зачисление ребенка в класс – понятно, что скрипки. По мысли Мини, будущее сына должно было быть надежно обеспечено уже с детства. Он не придумывал ничего невероятного: будущее сына представлялось Мине одним большим концертом, за который платят порядочные деньги. Отец и сын отправились за счастьем, а дома по случаю экзаменов уже был накрыт стол и приглашены родственники. Танечка Гольдберг накупила водки, напекла пирогов с полезной, поскольку в ней аспирин, малиной, приготовила даже рыбу фиш – трудоемкое блюдо, которое нормальный человек любой национальности не может не обожать, и принялась ждать.
Марик помнил, что совершенно не волновался. Изгибая шею, он с любопытством разглядывал высокие потолки с лепниной и резные колонны, среди которых на страшной высоте перелетал с места на место воробей, и в полный восторг приходил от эха, догонявшего каждый, нарочито печатаемый шаг мальчишки по мраморной лестнице. Волновался Миня. Он знал, что его сын гений, но он уже, слава богу, знал и жизнь и начал заметно волноваться, когда возле нужного кабинета наткнулся на точно таких же гениальных мальчиков и девочек в сопровождении точно таких же, как он сам, приличных родителей. Он так серьезно распереживался, что с его нервами не сладил даже любимый валокордин, который Миня, запив водичкой, тайком проглотил в туалете. Действуя наверняка, Миня решил прибегнуть к старинной студенческой хитрости: всех пришедших на экзамен конкурентов он стал пропускать вперед, памятуя, по собственному троечному прошлому, что самому последнему студенту экзаменаторы всегда дают послабку. Наконец, они остались в коридоре одни. «Следующий, кто есть?! – воззвали из кабинета. – Заходите!» Миня все еще нервно дрожал и медлил, и кончилось тем, что Марика волевым усилием отцепили от родительской руки, и строгая дама-преподавательница с низким, как у лошади, голосом сама повела его ребенка на судилище. Миня же, словно патриций, провожающий сына в героический поход, успел лишь немощно поднять руку и выдохнуть ему вдогонку: «Иди, мой мальчик, удиви их!»
Марику экзамен понравился чрезвычайно. И то, как тетя-лошадь и толстый, похожий на Винни-Пуха дядя, нажимая белые и черные клавиши рояля, просили его голосом пропеть рояльный звук. И то, как они же, постучав палочкой по блестящей полированной крышке, предлагали ему той же палочкой повторить тот же перестук. И, главное, то, что они его все время хвалили и называли молодцом и умником. Он вылетел в коридор в объятия к Мине сияющим и счастливым, с выкриком-ответом, что все хорошо, и следом за ним выплыла строгая дама. Она о чем-то переговорила с родителем, но Марик не прислушивался к взрослым, он прыгал, бесился и тянул папу на улицу, рассчитывая как можно скорее, на законных основаниях заполучить обещанное Миней за экзамен мороженое.
В ближайшем кафе он поедал свое крем-брюле, в то время как Миня пил пиво и улыбался мальчику южными карими глазами, в которых были тепло и любовь.
Но самое интересное, Марик помнил, произошло тогда, когда они вернулись домой. Замаянные ожиданием гости, едва они возникли на пороге, принялись аплодировать и славить маленького героя, а сводный брат отца, собиравшийся в Израиль бывший боцман речного флота дядя Леня, вручил Марику на память оригинальный подарок – плюшевого мишку величиной с племянника, в матроске и с бескозыркой на темени. Танечка расцеловала сына и спросила у Мини: «Все в порядке?» – «Все в порядке, – ответил Миня. – Наш сын станет врачом, математиком или финансистом». Гости притихли. «А музыкантом? – спросила удивленная мама. – Ты же мечтал, чтобы он…» – «Великим музыкантом, – закончил за нее Миня, – станет кто-то другой. Про нашего мальчика сказали, что он уникален. Слух у него плохой, зато чувства ритма нет совсем». Марик возился с мишкой и не обратил внимания на паузу, которая всесильно распространилась на всех присутствующих людей и даже, кажется, на мебель и накрытый к празднику стол, на котором, не по правилам, уже нагревалась водка. «Слушайте, Розенцвейги, – нарушил тишину дядя Леня, – вы совсем не думаете о высоком и вечном. За математика я ничего сказать не могу, потому что не знаю, но врач или, дай боже, финансист живут в сто раз лучше музыканта. Мое морское мнение такое, что Марик идет правильным курсом и что за это стоит выпить». Гости, у которых давно пересохло в горле, дядю Леню единодушно поддержали. День продолжился долгой шумной пьянкой под рыбу фиш, мудрый дядя Леня через год умер в Израиле, Марик вырос и, закончив Плехановский, стал-таки финансистом, но именно с того давнего счастливого-несчастливого дня, с того неудачного-удачного экзамена он по-настоящему полюбил музыку. Ибо очевидно, что самая сильная, чистая и святая любовь именно только та, что бывает безответна.
Первое, что делает Марик, когда невыспавшийся и злой, как каждая сова утром, притаскивается в свой офис, он, извините, пьет двойной черный эспрессо. Зато второе его движение отдается любви – Марик тасует и запускает в CD-плеере программу классики из двенадцати сменных дисков. Когда полчаса спустя, к девяти, в офисе возникают сотрудники, в общем зале фирмы, отгороженном от Марика стеклянной перегородкой, уже плещется великая музыка. Она будет негромко сопровождать их весь день, босс Марик, наблюдающий через стекло за работой, уверен, что классика не только облагораживает, но и поднимает производительность труда. В беседах с глазу на глаз сотрудники кивали и жарко поддакивали боссу: «Да-да, конечно, классика – это прекрасно, мы ее обожаем!» Но многие, особенно дамы, сходят от музыки с ума; тайно, хороня секрет под прическами, они пользуются берушами и безмолвно терпят пытку, потому что дорожат хорошим местом.
Марик не зря оттопал пять лет в Плехановский, не зря дама с лошадиным горлом когда-то предсказала ему судьбу финансиста, не зря ее одобрил дядя Леня. Встав за руль семейного бизнеса, Марик сумел направить, достроить и поднять его на черт знает какую высоту. Не только зубоврачебную аппаратуру поставлял он теперь России, фирма «МедПро» насыщала страну разнообразной зарубежной техникой: от скальпеля до глазного лазера, установок компьютерной томографии и магнитно-ядерного резонанса. Заказов было море, денег тоже, Марик процветал и до поры пользовался своим процветанием с жадностью первобытного дикаря, нечаянно нарвавшегося на сундук разноцветных бус и тряпичных лоскутков. К тридцати он испытал все возможные для человека на этой земле физические удовольствия. Лазал на Гималаи, нырял в разноцветные глубины Большого рифа, прыгал с парашютом, жрал акулье мясо и жареную саранчу, играл в черт-те какие игры в лучших мировых казино, имел автомобили и девушек всех марок, рас и оттенков кожи – но при всем при этом оставался одиноким и разочарованным. «Слушай, – спрашивал он себя, – твое имя, блин, случайно не Евгений? Твоя фамилия не Онегин? По-моему, ты уже полное ку-ку». Он никогда не заглублялся в чувства, над понятием «душа», заезженном в людском обиходе, смеялся и охотно повторял Леонардо да Винчи, который писал, что, вскрыв десятки трупов, ни в одном не обнаружил места для души. Душа, считал Марик, есть не более чем поэтическая метафора, удобно придуманная для себя хитроумными людьми, чтобы отделить себя от бездушного, как им кажется, звериного, растительного и прочих неодушевленных миров, и, когда папа римский признал в собаках наличие души, Марик более всего порадовался за собак. Разум! Только разум и рассудок преобладали в его поступках и вели его по жизни. «Разум не только победит, он восторжествует!» – прочел он когда-то у Фолкнера и обрадовался, открыв себе в подспорье такого великого единомышленника. Сотрудников и девушек он видел насквозь, самые дорогие развлечения ценил в одну копейку, бизнес был для него трудной, но все же всего лишь игрой. Впрочем, с годами он понимал, что, возможно, плывет куда-то не туда, что понемногу превращается в циника, мизантропа, что надо что-то менять, но что и как пока не мог сообразить. «Либо садиться на наркоту, либо идти в монахи» – выписывал он себе веселенькие рецепты на будущее. «Ты должен уже жениться и сделать много детей», – наставлял его стареющий Миня. Марик сознавал, что папа прав, но не мог же он, уважающий себя сын, делать своих детей с потоком на все согласных замечательных девушек. Их было много, и это было хорошо, но не было одной, единственной, и это было плохо. Поэтому пока что он по-прежнему вел бизнес, развлекался-разлагался и слушал любимую классику. Музыка успокаивала и будила, приводила в равновесие прежние мысли и дарила новые, на нее всегда можно было положиться.
И тут эта странная Дарья. Ее загадка состояла в том, что за последние пять, нет, десять лет она оказалась единственной, кто не бросился ему на шею. Художница двинутая, так испортить ему настроение! Так грамотно найти в нем, броненосном и неуязвимом, слабое, мякотное место, так прицельно по нему пробить! Его зацепило не только то, что она отказала; простой отказ подружки детства он бы пережил легко, как говорится, плюнул бы, растер и пошел дальше. Ужас был в том, что она понравилась ему до дури, до того, что, когда он обнял и прочувствовал ее в танце, сверкнула в нем дикая мысль: «Она? Та самая, единственная?»
Марик был необыкновенно добр; с другой стороны медали он был также необыкновенно злопамятен, и теперь в нем одушевилась именно эта, другая сторона. Унижение не должно было быть прощено и забыто. И не будет. Он звонил ей несколько раз, предлагал встречу, даже, смешно сказать, упрашивал, но она отнекивалась, и это заводило его еще больше. Глупые женщины, попутно думал он, вот вам идеальный путь для завоевания мужчины: научитесь говорить нет, не могу, не хочется. Откажите ему сегодня, но оставьте шанс на завтра – послезавтра он будет ваш. Большинство не понимает этого, заключал он, и слава богу. Но она, похоже, понимала. Или он действительно ей безразличен? Дура. Самая настоящая дура. Так вот, чтоб она знала, теперь он ее уже не хочет, его не трясет от синих искр в ее глазах и случайных прикосновений, он больше не испытывает к ней розовых чувств – боже его упаси. Теперь он желает принципиально другого исхода. Добиться, любым путем склонить ее к себе. Продемонстрировать ей, кто главный, кто имеет право приказывать, а кто обязан по жизни подчиняться. Доказать ей и себе. Согнуть ее. Сломать. Скатать в трубочку. Раскатать асфальтоукладчиком. Размазать по… Стоп, стоп, что это с ним, интеллигентным еврейским мужчиной, происходит? Неужели и вправду он, как муха в липучку, влетел в любовь, неужели приклеила его к Дарье судьба, да так накрепко, что, как крылышками не жужжи, отлета назад нет? Или не любовь это, а что-то более сильное, болячка уязвленного еврейского самолюбия, например?
А тут еще третьего дня отец зазвал его в любимую баню на Пресне. Время было обеденное, народу немного, нутро печки в парной, видневшееся за приоткрытой заслонкой, разогрето добротно, до оранжевого, чуть шипящего каления. Краешком, тонкой губою ковшика, зачерпнув из шайки воды, мускулистый, с обернутыми полотенцем чреслами банщик зашвырнул ее в печную пасть, печь жахнула и в ответ выдохнула на Марика, Миню и людей обжигающий пар. Народ сварился, пригнулся, на время притих.
– Слушай, сын, – начал Миня, – Ольга мне жаловалась: зачем ты все Дашке звонишь? Достаешь ее, куда-то приглашаешь – зачем, сын?
– Папа, а что? Разве это плохо?
– Теряешь время, сын.
– Папа, почему? Она что, не женщина? Не поддается словам, комплиментам, подаркам? Времени, что тратит на нее мужик?
– Сын, ты – не мужик. А Дарья не женщина. Она художница.
– Она женщина, папа.
– Она творец, сын! А творец – равен любому Богу, в которого ты веришь или не веришь. Творец живет на земле совсем по другим законам, не так, как мы с тобой. Боюсь, ты этого уже не понимаешь. Я советую: оставь ее, сын. Не по зубам. Найди себе кого-нибудь попроще. Знаешь, в чем главное достоинство жены? В том, чтобы быть всегда понятной мужу.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!