Текст книги "Башня у моря"
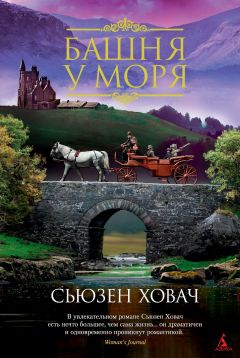
Автор книги: Сьюзен Ховач
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
– Я видел тебя и Патрика, – произнес он, и я вдруг почувствовала, каких невыносимых усилий стоит ему быть честным со мной, и я знала, что должна предпринять такие же усилия, чтобы понять его. – Вы двое выглядели такими молодыми… и Патрик похож на меня, каким я был в его возрасте.
Он умолк. Я все еще подыскивала правильные слова, когда он продолжил, стараясь рассеять неловкость и свою боль:
– Ерунда. Мимолетная глупость. Ты не должна бояться, что я буду терять самообладание каждый раз, когда ты улыбаешься мужчине, который годится мне в сыновья. Прости меня, если можешь, и давай забудем об этом.
Я поцеловала его и постаралась объяснить, что ему нечего бояться, хотя знала: я слишком неопытна для подобных бесед.
– Мне жаль, что ты так расстроился, – сказала я. – Чувствовать себя шестидесятилетним, наверное, иногда ужасно, так же как стоять у стенки на балу и тщетно ждать, что тебя пригласят. Я ненавидела Бланш, когда видела, как она улыбается своим партнерам, хотя мне все ее партнеры были совершенно безразличны. – Снова поцеловала его и спросила, можем ли мы теперь спуститься вниз на чай. – Да, кстати… – добавила я немного спустя, после того как он так ответил на мой поцелуй, что никаких сомнений в наших чувствах друг к другу не осталось. – Томас появится, думаю, в апреле следующего года, но нужно поскорее пригласить врача, чтобы не оставалось сомнений.
Он был ошеломлен. Я до этого не говорила ему о моем состоянии, но, когда он спросил, почему я скрывала это от него, ответила, что хотела сделать для него сюрприз.
– Конечно это сюрприз! – закричал он со смехом, и вид у него был такой довольный, что я набралась смелости спросить, уверен ли он, что хочет снова стать отцом.
– А почему я должен возражать? – А потом, вспомнив кое-какие подробности из своего первого брака, в которые он посвятил меня, добавил: – Это будет твой ребенок, моя дорогая, не Элеоноры. Обстоятельства совершенно иные.
Я не задавала вопросов. Всегда чувствовала, что лучше не углубляться в его отношения с Элеонорой: чем больше он мне рассказывал, тем меньше я понимала. Одно мне было ясно: она беременела как можно чаще, чтобы не спать с ним, – умная уловка, поскольку только таким способом Элеонора могла получить отдельную спальню и теоретически все еще оставаться хорошей женой, – и отказывалась иметь с ним дело, если он прибегал к противозачаточным мерам. Я никогда прежде не слышала слова «противозачаточный», а когда поняла его значение, то сильно удивилась, что для недопущения появления детей в этот мир можно предпринять что-то иное, кроме полного воздержания. Однако, признавшись себе, что это, вероятно, один из многих вопросов, в которых я полная невежда, я предприняла усилие, чтобы сочувственно отнестись к Элеоноре. Эдвард относился к ее поведению как к какой-то странной болезни (что, по моему мнению, не исключено, поскольку, когда женщине переваливает за сорок, сумасшествие может принимать самые невероятные формы), но, как бы я ни пыталась проникнуться состраданием к этой женщине, мне все же не удавалось избавиться от представления, что ее поведение было вовсе не сумасшествием, а совсем наоборот. Конечно, наверняка знать я не могла. Эдвард любил ее, несмотря на все их беды, и я неохотно признала, что если ей удавалось сохранять его верность и при этом вести себя как монахиня, то она должна была обладать определенными выдающимися качествами.
– Ты, наверное, ревнуешь меня к Элеоноре, – бросил мне доброжелательно Эдвард еще во время нашего медового месяца.
– Ревную? Я? Нет, конечно! – воскликнула я, чуть не рассмеявшись.
Но я, разумеется, страстно ревновала и хотела во всем ее превзойти. Я, как и Фрэнсис, люблю всегда быть первой. Быть второй совсем не в моем стиле, и я с удовольствием выслушала Эдварда, который поведал мне, что в спальне я гораздо лучшая жена, чем это красивое, умное, рассудительное существо. Уверена, я бы возненавидела ее с первого взгляда.
– Это будет мальчик, – предположила я позднее, когда знаменитый доктор с Харли-стрит подтвердил мое состояние. – Наверняка мальчик.
Элеоноре обычно удавались девочки.
– Что ж, Томас – отличное имя, – ответил Эдвард, вспомнив мое первое упоминание о мальчике. – Я, конечно, буду счастлив иметь еще одного сына.
Он был недоволен Патриком.
Патрик был самый красивый мальчик, какого я когда-либо видела. Он действительно походил на Эдварда, в особенности глазами, но мимика его лица была совсем не отцовской, потому их сходство редко бросалось в глаза. Его волосы имели матовый золотистый блеск. Я узнала, что когда-то и у Эдварда были такие же волосы, хотя лет в шестнадцать-семнадцать золото потемнело до каштанового цвета. Патрик еще не догнал ростом Эдварда, но он явно вскоре будет не ниже и так же хорошо сложен. Пока еще он оставался мальчишкой, и во время наших первых разговоров я действительно почувствовала себя достаточно зрелой, чтобы быть его матерью, но отнюдь не была равнодушной к мужской красоте и никак не могла отрицать, что он исключительно красив. Эдварду я, конечно, ничего такого не говорила, но про себя радовалась тому, что Патрик так привлекателен и что я знаю по крайней мере одного человека, которому еще нет двадцати.
У Эдварда был обширнейший круг знакомств, но никого моложе сорока. Я давно уже смирилась с тем, что мне придется вращаться в кругу людей немолодых, но признаю: когда моя жизнь в Лондоне только начиналась, эта перспектива казалась мне удручающей. Его друзья выказывали подчеркнутую вежливость, но у англичан есть много разных степеней вежливости. Я подозреваю, что они смотрели на юную американочку, которая так нахально влезла в лондонское общество, как на маленького уродливого кукушонка в их устланном великолепными перьями гнезде.
Скоро моя светская жизнь стала напоминать скачки с препятствиями, которые единственному их участнику казались все более и более утомительными. Посетители обычно не частят к новобрачным, потому что и американцы, и британцы уважают обычай не тревожить невесту в первый год, но из-за положения в обществе Эдварда мне пришлось принимать жен его ближайших друзей, а потом отвечать на их визиты. Довольно быстро мне наскучило это до смерти – что́ я, молодая американка, едва окончившая школу, могла сказать вдовствующей герцогине, которая за всю жизнь ни разу не выезжала за пределы Англии? Я погрузилась в изучение газет, чтобы знать и говорить о текущих событиях, и проводила долгие часы за «Генеалогией» Берка, пытаясь познакомиться с историей английской аристократии.
Но худшее ждало меня впереди. Главным интересом Эдварда была политика, и вскоре начались пышные политические обеды и бесконечные изматывающие «вечера». Я могла бы избежать их, сославшись на усталость в связи с беременностью, но чувствовала себя прекрасно, и мне претило лгать Эдварду. И потом, я не люблю сдаваться. Поэтому вновь принялась за работу – пыталась освоить британскую политику, но меня не отпускала мысль, что британцам не хватает письменной конституции. К тому же меня начали утомлять так называемые злободневные вопросы. Вскоре я даже подумала, как приятно было бы почитать об отделении южных штатов вместо бесконечных препирательств о парламентской реформе или о том, должен или не должен мистер Гладстон отменить налог на бумагу.
Однако я не сдавалась. Я прочла книгу Джона Стюарта Милла «О свободе». И даже, отклонившись от политических и социальных вопросов, «Происхождение видов» Дарвина, но тут Эдвард увидел, что я читаю, и пресек мои занятия.
– Бога ради, не говори о социализме и эволюции в чьем-нибудь доме, в который я тебя привожу! – воскликнул он в ужасе. – Читай «Самопомощь» Сэмюэла Смайлса, если тебя интересует социальное состояние простых людей. И попробуй немного поэзии, если хочешь продвинуться дальше твоих обычных легких романов. Ты читала «Королевские идиллии»?
Я не читала. Я не любила поэзии, к тому же мне казалось, что теория Дарвина гораздо привлекательнее фантазий Теннисона. Я достигла возраста, когда мне хотелось поднять бунт против безжалостно корректного религиозного воспитания Амелии, и, хотя я по-прежнему страстно верила в Бога – которого я, будучи ребенком, идентифицировала с моим пожилым отцом, – я с удовольствием представляла себе, как все эти фарисейские священники погружаются в ступор, сталкиваясь с этими новыми научными гипотезами. Но в кругах Эдварда такие разговоры считались ересью, и я думала, что ничто так категорически не разделяет стариков и молодежь, как одно только упоминание имени Дарвина.
– Видимо, мы кажемся тебе очень консервативными, – сказал мне как-то раз сочувственно Эдвард.
И устаревшими, подумала я, вспомнив обескураживающую запутанность английской классовой системы, но промолчала. Конечно, в Нью-Йорке тоже существует классовая система и безобразный снобизм. Мне стыдно признаваться, но был в моей жизни неприятный момент, когда я сама сверху вниз смотрела на девицу, чей отец зарабатывал в год не больше двадцати тысяч, и все же классовая система в Америке совсем другая, гораздо более неофициальная и гибкая, гораздо более… да, единственное существующее для этого слово – «демократичная».
– О да, – иронически ответил Эдвард, когда я высказала ему эти соображения. – Мы все с огромным интересом наблюдаем за американским демократическим экспериментом.
Полагаю, ирония его происходила из убеждения, что демократия кончится с началом гражданской войны. Но я не думала, что будет война. Фрэнсис тоже не думал, потому что это могло плохо сказаться на торговле, и он собирался на приближающихся выборах голосовать против Линкольна.
– Как бы голосовала ты, если бы имела право? – спросил Эдвард, когда я показала ему письмо Фрэнсиса.
Поначалу я решила, что он поддразнивает меня.
– Эдвард, что за вопрос! Ты же знаешь, что женщины совершенно некомпетентны, когда речь заходит о политических решениях.
– Да, но только потому, что большинство женщин не получили образования. А не потому, что они некомпетентны как женщины.
Я никогда не переставала удивляться неожиданности некоторых суждений Эдварда. Какой бы предмет мы ни обсуждали, он демонстрировал раздражающе консервативный взгляд, но вдруг, когда я уже теряла всякую надежду на более гибкую позицию, небрежно отпускал замечание столь радикальное, что я с недоумением спрашивала себя, как ему удавалось избежать ярости своих старомодных коллег по политике. Сегодня, когда политическое поле разделяется жесткими границами, мы забываем о предыдущей эпохе, к которой принадлежал Эдвард, – эпохе коалиций, неотчетливых разделений по партиям и независимой политической мысли.
– Элеонора обладала чутьем в политических вопросах, – пояснил он. – У нее была природная склонность к политике, это правда, но к тому же она получила образование – ей наняли первоклассную гувернантку. Я не считаю, что женщины должны получать точно такое же образование, как мужчины, но уверен: женщинам нужно предоставлять больше возможностей, например какие были предоставлены Элеоноре. Однако, прежде чем давать образование женщинам в этой стране, мы должны дать образование мужчинам. – Он заговорил энергичным голосом, будто произносил речь в палате лордов. – Каждый мужчина обязан получить хотя бы начальное образование, и глупо утверждать, хотя так говорят многие, что рабочие классы не получат от образования никакой выгоды.
Тогда-то он и рассказал мне о его эксперименте в области образования. Он отправил сына ирландского крестьянина, Родерика Странахана, сначала в школу в Голуэе, а потом в университет в Германии.
– А теперь я подумываю о другом эксперименте, – с энтузиазмом добавил он. – У меня есть занятный молодой арендатор Драммонд, и я думаю, что ему пойдет на пользу отправка в Сельскохозяйственный колледж. Но это пойдет на пользу не только ему, но и мне! – тут же пояснил он, когда я похвалила его за альтруизм. – Он вернется более просвещенным фермером и будет распространять просвещение среди других моих фермеров, а они безнадежно отсталые в сельскохозяйственных вопросах.
Сельское хозяйство интересовало Эдварда больше всего после политики, но, поскольку у меня эта тема не вызывала интереса, она редко присутствовала в наших разговорах.
А пока все мои попытки пробиться через броню вежливости, в которую облачались знакомые Эдварда, не приносила никаких успехов, и в конечном счете я настолько отчаялась, что набралась мужества и пожаловалась ему. Но мои жалобы оказались напрасной тратой времени. Он просто отмахнулся от моих трудностей и заверил меня, что все только и говорят ему, какая я замечательная.
– Очень рада, – пробормотала я, пытаясь подпустить энтузиазма в голос, хотя на самом деле на душе у меня стало мрачнее прежнего.
Я знала, что после всех моих углубленных изысканий, неудачи больше нельзя списывать на незнание английской жизни, а потому не оставалось ничего иного – только сделать вывод, что вина моя состоит в молодости и иностранном происхождении. С возрастом я ничего не могла поделать, но что касается происхождения, то тут можно попытаться стать больше англичанкой.
– Я решила стать англичанкой в большей мере, чем англичане, – сообщила я как-то утром Патрику. Эдвард уже ушел в библиотеку надиктовывать письма своему секретарю, а мы с Патриком задержались в столовой. – Я хочу научиться говорить с английским акцентом.
– У англичан нет акцента, – удивленно ответил Патрик. – Они говорят по-английски. С акцентом говорят иностранцы.
– Вздор! – горячо возразила я, не зная, то ли мне смеяться, то ли плакать, но, когда он хихикнул и добавил, что я очень веселая, поняла, что слезы будут неуместны.
– А вообще, – продолжил он, – зачем что-то менять? Англичане не любят иностранцев, которые пытаются перестать быть иностранцами. Это нечестно.
– Но что же мне делать?! – возопила я, чувствуя себя окончательно сраженной английской замкнутостью.
– А зачем что-то делать? Думаю, вы и так очень милы.
– Похоже, больше никто так не считает, – угрюмо проворчала я. – Я здесь уже целый месяц, а все смотрят на меня как на какого-то зверька из зоопарка.
– Ну, месяц – это еще слишком мало! – заявил Патрик, но я, не зная, что ответить, поспешила из комнаты наверх, задернула все занавеси кровати с балдахином и с головой зарылась под подушку, после чего, охваченная самой унизительной жалостью к себе, принялась рыдать и занималась этим до полного изнеможения.
И тогда мне стало лучше. Я села в кровати и вспомнила, как в Нью-Йорке люди либо игнорировали меня, либо шептались у меня за спиной – говорили, какая жалость, что я такая дурнушка. Теперь, по крайней мере благодаря Эдварду, меня никто не игнорировал и я всегда одевалась привлекательно. Раздвинув занавеси на кровати, я встала и принялась рассматривать себя в зеркале. Никаких признаков; пока еще слишком рано, но мысль о ребенке так радовала меня, что я забыла о пожилых англичанах, смотрящих на меня как на сумасшедшего подростка. Да я даже согласилась с Патриком: нельзя так скоро ждать положительных результатов.
Позднее я почувствовала гордость за то, что сумела настроить себя на такое философское отношение к жизни, но тем не менее, когда Эдвард тем вечером объявил, что пора ехать за город, я тут же обрадовалась возможности поменять глупую напыщенность Лондона на пасторальный покой Вудхаммер-холла.
3
Один из самых обескураживающих аспектов моего вхождения в английское общество состоял в том, что большинство его представителей отсутствовали: они уехали из города на парламентские каникулы. При этом сам процесс оказался мукой смертной. Если меньшинство так напугало меня, то как мне удастся пережить сезон следующего года, когда придется столкнуть с английским светом en masse? Однако эти мрачные размышления остались позади, когда мы покинули Лондон и я погрузилась в нетерпеливые ожидания знакомства с Уорикширом.
Ежегодные поездки Эдварда (как и большинства людей, принадлежащих к его классу) обычно повторяли друг друга по времени и маршрутам. Когда шли заседания парламента, он находился в Лондоне, лишь иногда ненадолго вырываясь то в Вудхаммер, то в Кашельмару, но, когда парламентская сессия заканчивалась, он месяца на два уезжал в Ирландию. В Англию возвращался в октябре, наносил визиты друзьям, принимал их сам, а потом отправлялся в Вудхаммер-холл, где тоже рассылал приглашения, осматривал поместье и удовлетворял свою страсть к охоте. К Рождеству снова ехал в Ирландию, но в середине января, когда собирался парламент, возвращался в Лондон. Однако в этом году мое появление разрушило привычный ритм его жизни: сначала мы поженились в июне, в самый разгар сезона, потом уехали на медовый месяц, растянувшийся на два, и, наконец, я забеременела, отчего долгая поездка в Ирландию становилась проблематичной. Однако я чувствовала себя прекрасно и была готова ехать, но Эдвард и думать об этом не хотел.
– Кашельмара слишком далеко от цивилизованного мира в твоем нынешнем состоянии, – сразу же заявил он, – и если, не дай бог, что-нибудь случится, то никто не знает, когда мы сможем заполучить ближайшего доктора. Нет, в течение следующих нескольких месяцев ты должна оставаться в Англии.
Он даже предложил мне пожить в Лондоне и после рождения ребенка, но мысль о невозможности бегства за город приводила меня в ужас.
– Загородный воздух укрепит меня, – убедительно настаивала я. – И потом, мы ведь к январю вернемся в Лондон, правда?
С неохотного разрешения моего доктора мы в ноябре уехали в Вудхаммер, и я подготовилась к двухмесячному блаженству.
Но у меня не было привычки к загородной жизни. После Нью-Йорка я обнаружила, что загородная жизнь пугающе тиха, а неторопливый ее ритм категорически напоминает мне кладбищенский.
– Тебе сейчас, пока ты в таком положении, вовсе не обязательно наносить и принимать визиты, – твердо сказал после нашего приезда Эдвард. – Ты должна воспользоваться возможностью вести уединенный образ жизни.
– Как монахиня! – воскликнула я, улыбаясь, чтобы скрыть мое отчаяние. – Дорогой, я бы так хотела узнать и других твоих друзей. Мы не могли бы устроить один-два небольших обеда?
И вот я снова оказалась среди пожилых англичан, излучавших свою характерную ледяную вежливость, но теперь мне некого было винить, кроме себя самой. Эдвард настаивал на том, чтобы свести нашу светскую жизнь к минимуму, и, пока он пропадал целыми днями на охоте, а Патрик занимался со своим новым учителем, я писала длинные письма в Америку и старалась не тосковать по Нью-Йорку.
Мне не то чтобы не нравился Вудхаммер – этот степенный, красивый дом с высокими каминами и классическим елизаветинским садом. И даже не то чтобы мне не нравилась Англия. Вокруг нашего дома располагались затейливые домики и деревни. Маленькие коттеджи с соломенными крышами, вековые церкви, построенные из серого камня. Уорик тоже был поразительным городком, с улицами, отстроенными наполовину деревянными домами, и замком точно как на книжных иллюстрациях к сказкам; я даже поначалу не поверила, что он настоящий. Да, на английскую сельскую местность было приятно смотреть, она даже вызывала восхищение, но, как все говорят, влажность и туманы здесь такие, что англичане не в состоянии толком протопить свои дома. Бо́льшую часть времени в Вудхаммере я провела, греясь у камина под тремя шерстяными шалями. Все слуги думали, что я сумасшедшая, но, к счастью, беременным женщинам простительны всевозможные экстравагантности.
Еще одна досаждавшая мне сторона жизни в Вудхаммере – это еда. Никакого разнообразия овощей, только бесконечные сало, выпечка и картофель. Один раз я даже видела пудинг из сала, выпечки и тертой картошки – все это вместе на одном блюде. Но когда я попыталась объяснить, почему это вызывает у меня отвращение, слуги смотрели на меня в полном недоумении.
Я уже не в первый раз отмечала, как невыносимо трудно дается общение с англичанами. Я предполагала, что с этим не должно возникнуть сложностей, поскольку мы вроде бы говорим на одном языке, но часто не могла понять ни слова из сказанного, а еще чаще они слушали меня, глядя вежливо-недоуменными, остекленевшими глазами, намекавшими на то, что они понимают меня так же плохо, как и я – их. Теперь, много лет спустя, я приспособила мой словарь к местным реалиям и почти не употребляю американских выражений, но первые месяцы в Англии я, вероятно, постоянно использовала фразы, которые либо никогда не применялись в Англии, либо вышли из употребления сто лет назад.
Но хоть и через муки, я в конце концов начала чувствовать, что англичане становятся мне понятнее. Я к этому времени, например, уже знала, что друзья Эдварда не желают говорить на определенные темы, которые часто обсуждаются среди друзей Фрэнсиса в Нью-Йорке. Ньюйоркцы постоянно говорят о Европе. Европа то, Европа се. Европейских мод ожидают затаив дыхание, европейские новости обсуждаются с большой торжественностью, европейские искусства и драматургия импортируются и становятся предметом для обсуждения в культурных кругах. В Англии никто не произносит слово «Европа». Англия не считает себя частью Европы, а прочие европейские страны здесь сочувственно называют «Континент» – большая и, конечно, отсталая территория где-то к востоку от Белых скал Дувра. Англичане ездят на Континент путешествовать, понаблюдать за французами, а иногда и подраться с ними. Англичане среднего класса ездят туда торговать, но это делается очень со вкусом и почти не упоминается в разговорах. В целом же англичане не говорят о Континенте. Они рассуждают об империи, научном прогрессе и политике. В отличие от Америки, где никто из уважающих себя людей не лезет в политику, в Англии политика считается исключительно цивилизованной игрой высшего общества, не такой веселой, как лисья охота, но доставляющей необыкновенное удовольствие умному клубу избранных. Она также дает возможность Исполнить Свой Долг Перед Народом. Англичане считают себя очень, очень цивилизованными, вероятно, самым цивилизованным народом, которого Господу хватило мудрости наделить ответственностью за остальной мир, и чем скорее иностранец согласится с этой истиной, тем скорее будет принят английским обществом.
– Я смотрю, тебе тут нравится! – доброжелательно воскликнул как-то Эдвард, когда мы готовились к Рождеству. – Только не думай, что мне неизвестны проблемы, с которыми ты столкнулась.
Не подозревая о том, мы приближались к новому кризису, а мои трудности ни в коей мере не кончились.
Рождество – время переживаний для иммигранта. В целом мне с переменным успехом удавалось преодолевать периодические приступы тоски по дому, но, когда промелькнули декабрьские дни, меня охватило желание увидеть мой старый дом, усыпанный сверкающим снегом и в сосульках. Я приходила в себя от невежества англичан, которые и слыхом не слыхивали про День благодарения, наш неофициальный, но широко отмечаемый семейный праздник в конце ноября, а когда по почте пришли подарки и рождественские письма от моей семьи, это было почти невозможно вынести.
Фрэнсис написал мне длинное нежное письмо, и я пролила над ним немало слез и в итоге размазала все строки его красивого почерка. Мне писала Бланш, мне писала Амелия (я никогда не думала, что меня может тронуть письмо Амелии), мой племянник Чарльз тоже написал мне, и даже моя племянница Сара написала. Десятилетняя Сара, в которой Фрэнсис души не чаял, сочинила не коротенькое письмо, а текст на целых две страницы обо всех праздниках, на которые ее приглашают, и платьях, которые она собирается надеть, и я поймала себя на том, что снова плачу. Чарльза я любила, но Сару любила еще больше… но это потому, что она так походила на отца.
Бланш писала о том, кто вышел замуж, кто развелся, Амелия перечисляла обанкротившиеся семейства, а Фрэнсис сообщал о том, сколько денег заработал. Все это было таким очаровательно неанглийским, и передо мной на пару мгновений предстал яркий гобелен Нью-Йорка, так непохожего на скучный, чопорный, благопристойный Вудхаммер-холл.
– Фрэнсис пишет что-нибудь о политической ситуации? – поинтересовался Эдвард, поняв, что я жажду поговорить о моей семье, и я, захлебываясь от поспешности, чтобы скрыть слезы, ответила:
– Нет, почти ничего, разве только что он опасается, как бы Линкольн не выиграл выборы, и поэтому инвестирует в самые разные отрасли – ведь рынок может обвалиться. Он не хочет думать о том, что будет, если начнется война. Все покупают одежду – вдруг цена хлопка взлетит к небесам. И устраивают вечеринки на случай худшего развития событий, а наши соседи устроили маскарад, и там шампанское лилось из фонтана с золотым купидоном в холле.
– Бог ты мой, – сказал Эдвард. – Надеюсь, они нашли способ охлаждать его.
Ни один муж не мог бы быть добрее ко мне, чем Эдвард в мои трудные дни, и я в сотый раз думала, что счастливый брак может сгладить даже самую невыносимую тоску по дому, но тут в Вудхаммер пришли две важные новости из-за границы. В первой сообщалось, что Линкольн выиграл президентские выборы, а вторая – гораздо более важная для меня в моем нынешнем состоянии – пришла от дочери Эдварда Катерин, которая была совершенно убита неожиданной смертью мужа и умоляла Эдварда немедленно приехать в Санкт-Петербург и увезти ее домой.
4
– Ты не можешь уехать! – воскликнула я. – Ребенок… я не могу сопровождать тебя… Рождество… ты не успеешь вернуться вовремя.
К моему стыду, я разрыдалась. Я начинала подозревать, что моя слезливость в значительной мере объясняется беременностью, потому что, как я уже говорила, я не из тех женщин, которые льют слезы с поводом и без повода.
– Веду себя просто ужасно! – застонала я. – Понимаю это, но ничего не могу с собой поделать. Я сочувствую Катерин, но не хочу, чтобы ты уезжал.
– Я тоже не хочу уезжать. Думаешь, я бы провел Рождество вдали от тебя, если бы мог остаться? Но Катерин – моя дочь. Она в скорби. Она больна и просит меня о помощи. Мой долг помочь ей.
– А как насчет твоего долга передо мной?
Я взорвалась от негодования и выскочила из комнаты, прежде чем он успел ошибочно принять мою панику за гнев. В спальне я опять спряталась за занавесями и приготовилась рыдать до изнеможения, когда вдруг почувствовала едва заметную дрожь где-то в глубине моего тела. Я села в возбуждении. Ребеночек тут же зашевелился снова. И теперь я перестала быть такой трусливой, даже некоторую храбрость почувствовала. Когда минуту спустя появился Эдвард, чтобы успокоить меня, я бросилась в его объятия и снова попыталась извиниться.
– В конечном счете я буду не такой уж одинокой, – пробормотала я и объяснила, что случилось, на том ссора и закончилась, а на следующий день он неохотно убыл в Санкт-Петербург.
Я даже думала, что он в последний момент поменяет решение, но твердо вознамерилась загладить свою вину и почти вытолкала его за дверь, когда настало время прощаться. Но потом, когда я стояла на ступеньках крыльца и смотрела, как уезжает по дорожке экипаж, настроение у меня упало – и, наверное, упало бы еще сильнее, если бы Патрик дружески не взял меня за руку.
– Я буду опекать вас, пока папа не вернется, – сказал он, сжимая мои пальцы. – У нас будет прекрасное Рождество вдвоем, вот увидите.
Он и вправду был замечательным мальчиком.









































