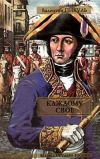Читать книгу "Париж"

Автор книги: Татьяна Чурус
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Рыжов с Хохриным, пропустив по стопочке и закусив окорочком и буженинкой, ласково смотрят на меня и говорят: «Теперь тебе надо учиться хорошо, Таня, – говорит Рыжов. – Чтобы не подвести своего папу», – поддакивает Хохрин
(папа говорит, что Хохрин младше Рыжова по званию, и потому поддакивает ему во всем).
«А я хорошо учусь!» – выкрикиваю я и опускаю глаза: поведение у меня хромает – так говорит наша училка Степанида Мишка
(я представляю, будто у поведения есть ноги, а то и костыль)
и карябает мой дневник своим ворчащим красным пером: «Конфликтует с мальчиками»
(«конфликтую» я с Мишкой Захарчуком, «Заходером», дурак, вечно плюется из трубочки жеваными бумажками, а они застревают в моих кудряшках и сидят там, словно птенцы в гнездах, и с Андрюшкой Герасимовым, «Ге́рисом», который дразнит меня Чу́дой-Юдой: «чуда» мне нравится, а вот «юда» не очень),
«Поет на уроках»
(я «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!» пою совсем тихо, но Степанида Мишка: «Чудинова, – говорит, – я всё слышу!»), –
и я боюсь, что сейчас Рыжов с Хохриным скомандуют «Чудинова, дневник!», как мой брат Вовка, сынок дядь Гены: он, когда приходит к нам в гости, начинает выпендриваться: «покажь, мол, дневник» – и «жрет в три горла, засранец, хоть бы спасибо сказал»
(моя мама еще и не такое про Вовку говорит: как-то раз она ему крикнула в спину «жлоб», а папа поддакнул: «здоровый лоб» – и обрадовался: «ну надо же… жлоб – здоровый лоб… прям стихи!»),
и лицо у него всегда красное, оспинами изрыто, на шмат колбасы с салом похоже, они с Галинкой закрываются в детской комнате и не пускают меня к себе, а я долблюсь что есть сил в дверь, а потом Вовка выглянет: «Покажешь дневник – пущу!» – и снова за дверь
(вашему Вовке «кайло бы в руки», как говорит мой папа, «я бы посмотрел на него»).
«А я хорошо учусь!» – выкрикиваю я. Рыжов с Хохриным пропускают по стопочке, закусывают
(«Вот угорёк копченый», – папа покорно склоняет голову),
утирают лоснящиеся губищи волосатыми кулаками
(у Рыжова кулаки обросли черными колючками, у Хохрина – рыжим пухом),
икают. «Молодец, – говорят Рыжов с Хохриным, – так держать!» «У меня на этой неделе пять звездочек!» – снова выкрикиваю я
(Степанида Мишка кладет за обложки тетрадей красные звездочки за отличные оценки).
«Ишь ты, папку обогнала! – Рыжов с Хохриным кивают на четыре звездочки, которые светят своим капитанским светом со дна стопки. – Ну что, пять звездочек надо обмыть!» Рыжов с Хохриным выпивают, закусывают, утирают губы, икают. «И я, когда вырасту, – выкрикиваю я все громче и громче, – вступлю в партию!» Мама выводит меня из-за стола. «И коммунистом стану, как папа!» «Коммунист! – морщится мама, волоча меня по коридору и заталкивая в детскую комнату – я упираюсь. – Прощелыга чертов! Только и знает москвича поить да жопы этим… – мама сплевывает словечко, выдыхает, – лизать! «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!» – даже не пою, кричу я, пытаясь выломать запертую дверь. Я хочу, чтобы Рыжов с Хохриным услышали, как я пою, чтобы они всплеснули руками: «Да она поет, как Дин Рид, или даже как Виктор Хара
(нам Степанида Мишка про Хару рассказывала на политинформации: «Альвандор Сальенде (так она называла Сальвадора Альенде – но я пока не знала, кто это такой) и Виктор Хара были истинными коммунистами и друзьями советского народа, а Паночет (так она называла Пиночета, которого я тоже пока не знала) – врагом и антикоммунистом. И поэтому паночетовцы убили наших друзей» (несколько девчонок даже заплакали, а мы с Аленкой поклялись вступить в партию и биться с врагами советского народа до последней капли крови)).
Да она поет, как Виктор Хара! – закричали бы Рыжов с Хохриным. – Такие люди партии нужны!» «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!» – отчаянно кричу я из-за двери: мне кажется, я в застенках. Но Рыжов с Хохриным выпивают, закусывают, утирают губищи волосатыми кулаками, икают. И не обращают на мой Париж, на мою большую терцию никакого внимания. «Не предавай искусство, деточка!» – Лилия Григорьевна выпивает, закусывает, утирает губы волосатым кулаком, икает – на дне стопки мерцают своим капитанским светом звездочки, и я слышу, как они поют тоненькими голосами «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!» До-ми. Большая терция.
Мы с Аленкой больше не ходим к Лилии Григорьевне, «не выбрасываем деньги псу под хвост», мама запретила мне даже «заикаться об этой алкашке чертовой»: «бессовестная, сверкала перед детьми своими цылдами!» – но слышать этот мир и петь его: петь сердитую дверь в нашем подъезде – она скрипит на ре-си и хлопает на фа, петь качели, которые взлетают на соль, а приземляются на до, петь бутылки с молоком, которые чокаются в авоське на ля-фа, ля-фа, петь визжащую на си-си-соль диез машину старшеклассника Валерки Варнавина, петь гавканье на фа-фа Пика, подбирающегося к заветному половику, под которым схоронено сливочное масло, – слышать и петь этот мир не в силах запретить мне ни мама, ни папа, ни Степанида Мишка, ни даже дядь Саша-милиционер.
Уже после дня рождения
(мы с Аленкой обе апрельские, только я на пять дней старше, и потому мне первой пришлось раздавать конфеты всему классу: по одной шоколадной и одной сосательной конфетке; «Эти Буяновы, вот гниды хитрожопые, “Дунькину радость” купили и батончики копеечные, а мы из Трускавца перли деликатесные конфеты, чтобы этих оглоедов (моих одноклассников) кормить! И чтобы твоей ноги у них в доме больше не было, слышишь? – строжилась мама. – Какие-то рюмочки пластмассовые девчонке (это мне) подарили! Это они на что намекают, а? – мама хватала рюмочки, которые Аленка подарила мне на день рождения, и шваркала их об пол – рюмочкам хоть бы хны: пластмассовые! – Мы им куклу за три рубля купили! За три рубля! – мама поднимала палец. – Семейка про́клятая!»),
уже после дня рождения мы с Аленкой
(а я ходила к Буяновым, обеими ногами ходила: разве можно дружбу измерить рюмочками или трехрублевыми куклами?),
мы с Аленкой пошли к Лилии Григорьевне. Купили вафельный тортик за пятьдесят копеек
(мы с Аленкой копим деньги: я в коробочку из-под конфет «Птичье молоко», Аленка – в коробочку из-под сливочной колбаски: бедняжка, она, наверное, и «Птичьего молока-то» не пробовала, туго живется простым смертным).
Пошли, а тут дождь! И хлещет своими длинными розгами по асфальту, по земле, по крышам домов, словно бы те провинились и теперь надрываются: до-ми-соль-си бемоль, до-ми-соль-си бемоль! Мы прячемся в заброшенном доме и прыгаем на кровати с панцирной сеткой. Она по-старчески ворчит ля-си, ля-си. Пигалица Аленка робко раскачивается, готовясь к прыжку. «Выступает Елена Вайцеховская», – объявляю я. «А кто это?» – тормозит Аленка. «Прыгунья, – говорю я. – В воду». «А почему в воду?» –Аленкины косички взлетают. «Так дождь ведь!» «Ну да, Таня!» – фыркает Аленка: отличница, а ничего не знает! Я вот знаю всех советских спортсменов, потому что с самого детства болею. Мама говорит, мне было месяцев шесть: мы жили в крохотной однокомнатной квартирке, папа смотрел суперсерию СССР – Канада, а я трясла кроватку и выламывала прутья, когда Фил Эспозито появлялся на льду. Я закрываю глаза, подхожу к краю помоста, отталкиваюсь, прыжок… Зал взрывается аплодисментами, дождь неистовствует: браво, браво! До-ми-соль-си бемоль, до-ми-соль-си бемоль!..
Дождь кончается: ля-фа-фа-фа. В подъезде у Лилии Григорьевны темно: кто-то выкрутил лампочку. Мы крадемся по лестнице, словно воры, нашариваем звонок входной двери. «Кто? – спрашивает незнакомый женский голос. «Это мы», – пищит Аленка. «Кто “мы”?» – голос повышается. «А Лилия Григорьевна дома?» – набираюсь смелости я. «Тут такие не проживают», – голос удаляется. «А… Изольда Григорьевна? – шепчу я, пугаясь сама себя. Голос не отвечает. – А Изольда Григорьевна?» – отчаянно кричу я. «Я сейчас милиционера позову, они вам покажут и Лилию Григорьевну, и Изольду Григорьевну, хулиганье!» Мы с Аленкой скатываемся вниз. «А может, мы квартиру перепутали? –Аленкины косички дрожат. – Или подъезд не тот?» Я мотаю головой: и дом, и квартира, и подъезд – всё то. Мы пытаемся разломать на кусочки вафельный торт – ядреный, не поддается. Тогда мы вгрызаемся в его чумазое тело: я с одной стороны, Аленка с другой – торт крошится, хрустит на зубах. «А вдруг улица не та?» – Аленкины косички взлетают. Мы бежим к табличке с названием улицы – та… Из подъезда выходит какой-то дедушка с длинным носом и громко сморкается. «Скажите, пожалуйста, а это улица Гоголя, дом 188, квартира 3?» – пищит Аленка. «Апчхи! – говорит дедушка. – Ну Гоголя. А вам какого рожна надо?»
(«рожна́» – так говорит моя бабушка.)
«Мы ищем Лилию Григорьевну. Она вот в этой квартире живет», – кричу я и тычу пальцем в окна Лилии Григорьевны. «А вы из какой школы?» – сморкается дедушка. «Из 96-й», – пищит Аленка. И не соврет ведь!
Отличница несчастная, пионеркой стать хочет. «Пионер всегда говорит правду! – радостно сообщает нам Степанида Мишка. – Пионер – всем ребятам пример!» Но я-то не говорю правду, я-то скрываю, что папа работает в «кэгэбе», что он, а значит, и я, не простые смертные! «Пап, – пристаю я словно банный лист, – а вдруг меня будут пытать – и я расскажу, что ты работаешь в «кэгэбе», а?» «Я тебе расскажу», – цыкает папа. А мой внутренний голос напевает: «Расскажи-расскажи! И тогда ты станешь простой смертной! Забудешь вкус “Восточных сладостей” из синей жестяной коробки! Вкус волшебной воды “Нафтуся”! Ты больше никогда не поедешь в Трускавец, а если и поедешь, то не в кэгэбэшный санаторий, а дикарем! Ты перестанешь пользоваться нежной туалетной бумагой! А когда заболеешь, пойдешь не в кэгэбэшную санчасть, а в районную поликлинику и будешь сидеть в очереди два часа…» Я закрываю рот ладошкой, чтобы он не вылетел наружу, этот внутренний голос. В конце концов, в пионеры будут принимать еще не скоро, побуду пока не простой смертной. «Малявки», – дразнит нас с Аленкой наша тонконогая соседка Жанка Тальман
(нам с Аленкой безумно нравится это имя – Жанка Тальман (у Жанки папа то ли немец, то ли швед – в общем, «оттуда», и одно время мы обе даже хотели, чтобы нас звали так же: Жанка Тальман и Жанка Тальман! – но потом подумали: а как же нас будут различать? – и решили остаться как есть: Аленой Буяновой и Таней Чудиновой),
накручивая на палец кончик ярко-рыжего пионерского галстука. Она старше нас на два года, и ее недавно приняли в пионеры. «Жан, – восхищенно пищит Аленка, – а дай галстук поносить!» «Ага, пола́й! – огрызается тонконогая Жанка. – Ты что, дура, что ли? – Жанка подкручивает пальцем у виска. – Ты вообще знаешь, кто такой пионер?» «Нет! – прикидываюсь я дурочкой с переулочка. – Кто?» «Пионер, – воображает Жанка, надувая губки и пожимая остренькими плечиками, – должен быть первым в учебе, спорте и общественной жизни. Пионер, – тараторит Жанка и загибает пальчик за пальчиком, – должен быть отличным учеником, образцовым товарищем и должен вести себя примерно и в школе и дома. Пионер должен быть всегда честен, вежлив и аккуратен. Пионер должен быть достойным продолжателем дела Павлика Морозова, Володи Дубинина и Марата Казея. Пионер должен быть верен делу Ленина, слушаться старших и собирать металлолом. Пионер должен уметь хранить военную тайну. Пионер должен быть примером для октябрят. Пионер – будущий комсомолец. Ясно, малявки?» – Жанка смеется, дрыгает тонкой ногой и смотрит на нас свысока, хоть я в сто раз выше этой тонконожки. «Ура, – думаю я, а сама закрываю рот ладошкой, чтобы словцо – недайбоже́ – не выскочило наружу, – пионер-то, оказывается, должен уметь хранить военную тайну!» «Пап, – снова пристаю я к папе, – а вот то, что ты работаешь в «кэгэбе», – это военная тайна?» «Военная», – отмахивается папа. «Прощелыга чертов! – строжится мама. – Ребенка бы постыдился: “тайна”. Только и знаешь водку жрать с москвичом!»
«А вы из какой школы?» – сморкается приставучий дедушка. «Из 96-й», – пищит отличница Аленка. «А-а, – кивает головой дедушка. – А вы часом не мукулатуру
(дедушка так и говорит: «мукулатуру»)
собираете? А то у меня полон подвал барахла». «Пионер должен быть верен делу Ленина, слушаться старших и собирать металлолом», – всплывают в моей памяти слова тонконожки Жанки Тальман. «Нет, – пищит Аленка, – мы Лилию Григорьевну ищем. Вон в той квартире живет», – Аленка тычет пальчиком в окно Лилии Григорьевны. Занавеска подозрительно колышется. «А я вот сейчас в милицию позвоню! – просовывается в форточку чья-то сморщенная мордочка
(мы с Аленкой переглядываемся: на кого же эта мордочка похожа… похож? – да на проверяющего, точно: газ у Лилии Григорьевны проверял!). –
Ходют тут всякие!» Занавеска задвигается. Финита ля комедия!
Финита ля комедия, комедия окончена – так говорит Олег Даль… Недавно спектакль по телеку показывали, необыкновенный спектакль, я таких пока не видела, а я уже взрослая
(да, взрослая, правда, мама постоянно твердит: у тебя молоко на губах не обсохло, слушай, что говорят старшие, – а сама иной раз такое несет…),
так вот я уже взрослая, мне уже восемь, между прочим, – нас Степанида Мишка часто в театры водит, на всякую детскую «муть с жутью», как говорит моя мама, и я громко смеюсь
(«Чудинова, я всё родителям скажу, бессовестная!» – грозно шепчет Степанида Мишка),
я хохочу в голос, когда толстая старая тетка в белом парике играет Золушку или Принцессу, когда Разбойник с тощими ногами и накладной бородой почему-то очень громко кричит и тычет пальцем в зрительный зал: «Ребята, куда она
(Золушка или Принцесса)
побежала?», а наши девчонки
(Кузя, Тимошка, Мошка),
вот малышня, кричат: «Туда, туда!» – и тычут пальцами в другую сторону. Мы с Аленкой всегда садимся с краю, чтобы в антракте сорваться с места, первыми влететь в буфет и вдоволь наесться пирожных
(я обожаю такие трубочки, с кремом!)
и мороженого
(в такой вазочке, с ножкой),
напиться молочного коктейля, газировки
(мы с Аленкой обожаем газировку за три копейки из автомата)
и сока
(сок продается в таких конусообразных стеклянных колбах).
Как-то раз я умудрилась проесть целых три рубля: мама дала мне три рубля, по ошибке дала, и про сдачу не сказала. «Три рубля! – кричала она уже после того, как я вернулась из театра. – Я дала тебе три рубля! Где сдача?» «Нет сдачи», – отвечала я, утирая липкие губы кулачком. «Как это нет? – мамины бровки перемахивали через оправу очков. – Опять эту Буянову кормила?» «Никого я не кормила! – била я себя в грудь кулаком. – Я съела восемь пирожных!» Мама выпучила глаза, так что стеклышки ее очков закипели, золотая корона волос запылала: мама была похожа на вулкан, извергающий лаву. Папа хихикнул: «Хм, восемь пирожных! Даже я себе не могу позволить съесть восемь пирожных. Это ж кило мясца́! Н-да! – папа призадумался. – Поллитра… Н-да!» «В театр больше не пойдешь! Поняла?» – отрезала мама. Я ликовала. «Финита ля комедия, комедия окончена», – так говорит Олег Даль: я просто влюбилась в него. Он глянул прямо с экрана – на меня. И глаза у него… «Черт тощий», – чихнула моя мама, подошла к телевизору и только хотела переключить на другую программу, как я закричала на соль-соль-соль – звонко, протяжно! – «Не надо! – закричала я. – Не переключай!» (соль-соль-соль-соль). Комната окрасилась в зеленый цвет, Олег Даль снова посмотрел прямо на меня – у меня зашлось сердце – и выстрелил в Андрея Миронова
(в Андрея Миронова все наши девчонки влюблены, но они думают, что он играет только в комедиях и вообще не актер!) –
я вздрогнула. «Чеканукнутая, – мама подкрутила у виска, – орет как сивый мерин». Зазвонил телефон, мама вышла из комнаты
(«Не знаю, что с ней делать, с этой хиврей, прет как на дрожжах, а ума нет, совсем от рук отбилась!» – плакала мама, и ее слезы затекали в телефонную трубку и текли по проводу прямо к моей тете, какой-то маминой сестре).
Я сидела, словно мне дали дубиной по голове, вперившись в маленький экран «Изумруда», словно это не в Грушницкого, а в меня выстрелил Печорин, Олег Даль, и погибала… Вот так же я закричала соль-соль-соль
(«Не надо!»),
когда мама в другой раз пыталась погасить «изумрудный» экран. Никого не было в комнате – я включила телевизор и увидела, как какой-то мальчик включает телевизор. Мне стало страшно: а вдруг это я на экране?.. Потом начался фильм. И возникла надпись на экране – «Зеркало». И тут мама решила погасить изумрудный экран. Я закричала соль-соль-соль! Сначала я пыталась заглянуть в маленький «изумрудный» экран, словно в зеркало. А потом чую: это они – все эти странные люди на экране – они смотрятся в меня, словно это я – зеркало! «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!» – дрожали мои губки. А оттуда, из зеркала, на меня лилась музыка! Я не могла поймать ее. Я чувствовала, что меня засасывает туда, в эту музыку, как в воронку, я уже крутилась в этой воронке, я хватала губами воздух, я искала глазами кого-то… Мама… «Матери бы помогла, бессовестная! Или вон уроки иди делай!» – мама снова пыталась погасить экран. Ее розовый халат, словно занавес, скрыл от меня изображение – прекрасную Мадонну
(я не знала тогда ни Леонардо, ни Баха, но я стала искать их отзвуки, отблески в этом мире, прислушиваться, присматриваться к каждому звуку, к каждому изображению).
Зеркало погасло. Я молча сидела в кресле, уставившись в темный экран. Мама громко говорила, размахивала руками. «У людей дети как дети, – говорила она. – А эти… коровы проклятые! Только и знают жрать отборные продукты! Нет чтобы матери помочь! Недоедаю, недопиваю – всё им, всё им! Неблагодарные! И этот, прощелыга, где-то шлындает…» Мама заплакала. И вдруг «Изумруд» зажегся! Я уставилась в экран. «Да идите вы все к черту!» – крикнула мама и вышла из комнаты.
«Ты фильм вчера смотрела?» – спрашиваю я у Аленки на следующее утро. Понедельник, зима, мы идем в школу, ловим языком крупные снежинки, а у меня треснула губа – кровь, и я похожа на ту девочку, из «Зеркала». «Какой? – пищит Аленка. – До программы “Время” или после?» До «Времени» фильм обычно показывают по первой программе, а после – по второй. Я пожимаю плечами: «А “Времени” не было…» «Как это не было?» – пищит Аленка и подкручивает у виска: мол, совсем уже. А я думаю: «Времени» не было… это другого, другого времени не было! Но я ничего не говорю Аленке, а просто тихонько пытаюсь поймать мелодию, которая залетела ко мне вчера: ля-а-а, соль-фа-ми-фа-ми-фа-ми… «Мы вчера весь день пельмени лепили», – пищит Аленка, слизывая с губ большую снежинку.
«Мукулатуру брать будете?» – приставучий дедушка снова громко сморкается и утирает свой длинный нос. Мой папа макулатуру собирает. И сдает ее в пункты вторсырья. Это его страсть. Такая же, как покупать уцененные товары в комиссионных магазинах, брошюры в «Букинисте», обрезанные яблоки на базаре, приносить с помойки сломанные стулья и торшеры, коробки и самовары. За старые газеты и бумаги ему дают Жюль Верна, Фенимора Купера, Александра Дюма и рулоны туалетной бумаги серого цвета. Папа ставит книги на полки – и они стоят, новенькие, со склеенными страничками, стоят и пахнут типографской краской, ждут, пока я вырасту и прочту их – а я вырасту и прочту, я уже читаю, взрослые книги читаю, тихонько, чтобы мама с папой не видели, под кроватью, с фонариком. «Ни одной книги не прочел, прощелыга! – ворчит мама, осматривая очередную папину «макулатурную» добычу. – И всё тащит, тащит, как крыса. Мало тебе?» «Не трожь! – кричит папа, выхватывает из маминых рук книгу, бережно ставит ее на полку. «Будете брать мукулатуру, я вас спрашиваю? А то пионерам отдам», – дедушка машет руками, изображая пионерский салют. «Мы скажем учительнице, – выкрикивает Аленка, – и всем классом придем». «Лады, – чихает дедушка, – а теперь дуйте отсюда». Мы с Аленкой переглядываемся: темнит дед, ох темнит! Дуем – и вдруг Аленка пищит: «А давай – пищит Аленка, – попросим твоего папу найти Лилию Григорьевну». Я краснею и гляжу на эту пигалицу исподлобья: «А чё это мой папа будет ее искать?» «Так он же в «кэгэбе» работает», – хихикает Аленка. «В какой еще “кэгэбе”? Нигде он не работает!» Всё, папка, попал ты в капкан
(Когда меня еще не было, а Галинка была маленькая, а папа уже работал в «кэгэбе», он оказался в вытрезвителе: тогда еще никакого москвича, которого папа «поил, прощелыга!», и в помине не было, папа просто «залил шары» – и утром, вернувшись из вытрезвителя, еле слышно прошептал маме, которая «всю ночь глаз не сомкнула, прощелыга ты чертов!»: «Всё, Нюра, – прошептал папа и потупил взор, – попал я в капкан, теперь попрут из органов («кэгэба» еще «органами» называется, только я вот никак не могу понять, что это за организм такой!)»)!
Финита ля комедия! «Ну да, Таня!» – Аленка щурит глаза и поджимает губу. Я прибавляю шагу. Аленка не отстает. «Откуда ты знаешь?» – резко торможу я, лицо пылает, дышу, будто меня накачивают насосом. «Да все знают», – пожимает плечами Аленка. Я снова прибавляю шагу. «Подумаешь! – кричит мне в спину пигалица Аленка, которая не успевает за мной. – Очень надо!»
Мы с Аленкой не разговариваем. В школу вместе не ходим. В классе сидим буками и делаем вид, что не знаем друг друга. И только Пик ни о чем не догадывается и, когда встречает меня на улице, весело гавкает на фа-фа и берет у меня с ладони «Докторскую» «колбаску». «Чё это, с Буяновой-то поссорились, что ли? – ехидничает мама. Я молчу. – И правильно, – говорит мама, – нечего тебе у них делать. Хитрые, черти. Отборными продуктами ее тут кормили, куклу за три рубля купили, – я выбегаю из комнаты, мама кричит мне в спину, – а они…» Но я ее не слышу: я уткнулась носом в подушку и плачу! Пусть они хитрые, пусть Аленкина мама Лилия Емельяновна болтает про меня всякую «муть с жутью»: «Она разбила чехословацкую хрустальную вазу, она громко кричит: на нее жалуются соседи, она надевает без спроса мои туфли на выход!», пусть Иришка своим ползучим голоском ябедничает Степаниде Мишке: «А Таня Чудинова отвлекает нашу Алену от занятий», – пусть! Я всё равно люблю Аленку, люблю Буяновых, и мне очень одиноко без них! Я несколько раз набираю номер буяновского телефона, пару раз трубку берет Лилия Емельяновна, пару – Иришка и один раз – Аленка! Кровь стучит в моих висках, я бросаю трубку, точно бомбу, и отпрыгиваю от полки, на которой стоит наш красный телефон. Я несколько раз подбегаю к дребезжащему телефону с молчащей трубкой: пару раз молчат, потом просят прощения за то, что, кажется, не туда попали, пару раз молчит Ромка Бальцер, который в меня влюблен: молчит, сопит, а потом включает пластинку с песней Владимира Высоцкого «Она была в Париже»
(в другой раз, услышав любимый голос, я бы с ума сошла: Высоцкий, да еще и Париж! – но сейчас я грущу по Аленке, и даже Высоцкий мне не Высоцкий и Париж не Париж),
глупый Ромка, рыжий, маленький, злой, и червячки в глазах будто ползают туда-сюда, туда-сюда – знал бы ты, что у нас есть все записи Высоцкого
(Папа не где-нибудь там работает – в «кэгэбе», а там есть всё, даже записи Высоцкого – и мы с Галинкой включаем наш любимый магнитофон «Весна-306» (ни у кого из девчонок такого нет!), кидаем ему в пасть вкусную кассету – и оттуда несется «Протопи ты мне баньку по-белому», «Ой, Вань, гляди, какие клоуны», «А гвинеец Сэм Брук обошел меня на круг»; папа заглядывает в нашу комнату: «Потише сделайте! И чтобы никому, ясно? Спросят: а какие это папка с работы записи принес? – говорите: Йосю Кобзона. Поняли?»).
И один раз, только один раз, кажется, звонит Аленка – это она, я узнаю ее сопение, ее дыхание: она всегда вздыхает, прямо как моя бабушка
(бабушка крестит рот и говорит «Господи, помилуй!», а Аленка нет, она просто вздыхает, без Господа, мы же октябрята, в пионеры собираемся вступать, в комсомол, в партию, а тут «Господи, помилуй»; когда кто-нибудь говорит «Господи», мы смеемся: «Не Господи, а Советская власть!»… но если честно, я и сама его поминаю, Господа, бабушка меня научила, и креститься меня тоже научила бабушка, но только папе я об этом никогда в жизни не скажу, ни-ни: он коммунист, он работает в «кэгэбе», и «Господь тебя покарает, антихрист» (как говорит моя бабушка)),
и трубка вздыхает, но тут же принимается пищать… совсем как Аленка…
Июнь. Каникулы. Мы так и не помирились. Я снова увидела Пика: он радостно бросился ко мне и «облобызал» своими грязными лапами, но Лилия Емельяновна цыкнула с балкона: «Пик, а ну домой! Сейчас же!» Пик виновато глянул на меня: прости, мол, сама понимаешь! – махнул хвостиком и поплелся к подъезду. И больше ни-ни… Каникулы. Июнь. Аленка уехала в пионерлагерь, мы с мамой – в профилакторий
(утром маму увозит на работу автобус, а вечером привозит обратно: лечиться и отдыхать «от семейки этой чёртовой» – то есть от нашей семейки),
у Галинки сессия, папа – в Москве: для простых смертных она закрыта, Москва, – Олимпиада ведь скоро начинается! – но не для папы: он едет «пить с москвичом, прощелыга чертов; все люди с семьями, а я одна как про́клятая, да еще с этим довесочком
(довесочек – это я)».
В том году мы уже были с мамой в профилактории
(папа тогда ездил в Юрмалу – не знаю, правда, поил ли он там какого-нибудь юрмальца).
Я купалась в Бердском заливе, ходила в зимний сад, смотрела на рыб, которые тыкались своими мордами в толстое стекло аквариума, ела кислородный коктейль. На завтрак каждое утро профилакторцам давали по полстакана сметаны. Те, кто не съедал сметану, не могли выпить какао или кофе с молоком
(какао или кофе наливали в алюминиевый чайник, на крышке которого красовался номер, написанный красной краской),
потому что другого стакана не было. Так что приходилось буквально вылизывать эту несчастную сметану
(«Кефиром разбавляют, паразиты», – ворчала мама),
а затем наливать в опустошенную посуду жиденький кофе с молоком или какао. Перед самым отъездом «Лилька» Мочалина
(опять Лилька, да что ж такое! – Лилька эта с мамой работает: мосластая тетка с громким визгливым голосом)
подготовила «поэтический монтаж». Мы с девчонками и мальчишками должны были читать стишки, которые она насочиняла. Женька Ма́дин по кличке Жиртрест промямлил: «Душ, уколы принимаем, в баньке веничком махаем. / Зубки наши засверкали: килограммы мы набрали». Тетки в зале просто зашлись смехом, а Лилька – в платье с вырезом
(«Швабра чертова, мослами своими сверкает», – фыркнула мама) –
светилась от счастья, тем более что к ней все время приставал «Сашка» Заиграев
(«Сашка» этот – «сто лет в обед, а он всё Сашка» – с мамой работает, «пьянчутка чертов»).
Я вышла на сцену и вместо стишка «Будь здоров, профилакторий» вдруг начала петь Высоцкого: «Как, Вань? А Лилька Федосеева, / Кассирша из ЦПКО? Ты к ней приставал на новоселье… / Она так очень ничего». Ма́дина
(Женькина мать и секретарь парторганизации маминого завода, шкафообразная тетка в квадратных очках – я ее побаиваюсь)
вскочила со своего места. «Прекратить! – заскрипела она. – Кто позволил? А ну прекратить! Дайте занавес! Давай занавес, гнида!» Спасибо, Сашка Заиграев, растянул меха гармошки да как заорет: «К тому же эту майку, Зин, / Тебе напяль – позор один! / Тебе ж шитья пойдет аршин. / Где деньги, Зин?» Тетки в зале сначала молчали, как мордастые рыбы в аквариуме, а потом затряслись своими холодцовыми тушами. Мадина – Зинаида Паллна – покраснела и выбежала из зала. Сашка Заиграев похлопал меня по плечу: «Ну ты, Танюха, даешь!» А Лилька Мочалина рванула к микрофону и профальшивила: «Ну, что «отстань»? / Опять «Отстань»? Обидно, Сань!»
Аплодисменты не смолкали минут двадцать. Успех был ошеломительный. Но мама отрезала: «Чтобы я хоть раз еще тебя взяла с собой!» – и вот мы снова едем в профилакторий. И я купаюсь в Бердском заливе, смотрю на рыб, ем кислородный коктейль – и знакомлюсь с Алешей. У меня платье василькового цвета, с белой грудкой, края которой расшиты розовыми цветочками, кудряшки отросли и свиваются в локоны, загорелая кожа цвета крем-брюле покрыта еле заметным золотистым пушком. «Ты похожа на инфанту Маргариту, только у нее платье другое», – Алеша сидит рядом со мной, ест ложечкой пузырчатое лакомство – кислородный коктейль и смешно морщит нос, поправляя очки, которые то и дело сползают к верхней губе. «А кто это, инфанта Маргарита?» – мне стыдно, что я не знаю какую-то там инфанту Маргариту. «Веласкес ее рисовал», – невозмутимо отвечает Алеша и улыбается мне. Воображает, тоже мне! Я отодвигаюсь: подумаешь! А сама мучительно перебираю в памяти все открытки с картинами художников, которые папа покупал в «Букинисте». Нет, никакого Веласкеса я не знаю. «Врешь, небось?» – я слизываю с ложки сладкую пену и, тряхнув локонами, отворачиваюсь от Алеши. Он встает и уходит. Тоже мне, девчонка, обиделся! Из-за какого там Веласкеса! Я фыркаю. Алеша возвращается с двумя порциями кислородного коктейля. Я улыбаюсь. «Ты красивая!» – шепчет он и краснеет – и, кажется, очки его краснеют тоже.
(«Красивая как жопа сивая», – обычно говорит мне моя мама и добавляет: «Отцова дочь». Они – мамина родня – все черноволосые и черноглазые: мама, бабушка, Галинка, мамины сестры и братья. И дедушка: у нас карточка есть. «Волос вьющий, густой, глаз чёреннай – красаве́ц! – так говорит о дедушке моя бабушка. – Где-то ты теперь, мой Петушок!» (дедушка Петя пропал без вести в первые дни войны, и бабушка «ро́стила семерых детей одна-одинешенька»). Они – мамина родня – все черные, и признают потому только «черную» красоту. Папа же мой светловолосый, светлоглазый, белокожий – и я вся в него: «отцов род». Когда я «неслушничаю» (это бабушка так говорит), мама обижается: «Вся в отца, его порода – вот и иди к отцу!»)
Мы лакомимся пенистым лакомством молча: Алеша сидит, весь красный, я опустила глаза. «Ты красивая!» – поет над моей головой кто-то невидимый. Ре-ре-соль-ре-ре! «Вот ты где! – в маленький кабинетик, где профилакторцы поглощают кислородный коктейль, врывается мама… с выпученными очками – они вот-вот лопнут. – Бессовестная! Мать высунув язык рыскает по всему Бердскому заливу, а она и в ус не дует!» А я как раз дую в «ус» – воздушная пенка над моей верхней губкой взмывает ввысь… и повисает на носу – Алеша улыбается, мама бросает на него птичий взгляд. «Здравствуйте», – кланяется маме Алеша – очки его сползают с носа. «А ну пойдем сейчас же!» – крысится на Алешу мама и дергает меня за рукав. «Мам, ну можно коктейль доесть, а?» Я вру: я не коктейль хочу доесть – я хочу сидеть рядом с Алешей, и чтобы он говорил «Ты красивая!», и смотрел на меня умными каре-зелеными глазами поверх очков, и чтобы рассказывал о своем Веласкесе и инфанте Маргарите, и чтобы… «Только и знает жрать», – мама утирает лоб ладошкой, садится рядом. Алеша – красный-красный, на Ромку Бальцера похож! – неловко встает, пиала с кислородным коктейлем падает. «До свиданья», – бубнит себе под нос Алеша, поднимает пиалу и сверкает своими пятками к двери. «Это еще кто?» – фыркает мама. «Да так…» – отмахиваюсь я и стучу ложкой по пустой пиале. Да-так – до-ми… Па-риж… А-лёш… Предательские слезы щекочут глаза, я шмыгаю носом, давлюсь соплями – и ничего не понимаю: что это со мной?.. «Завыла как сивый мерин, – ворчит мама, – нет чтобы матери помочь: целый день на работе, пашу как пашечка, завтра в шесть часов вставать…» Завтра я увижу Алешу, и мы весь день будем купаться в Бердском заливе, есть кислородный коктейль, а вечером пойдем в кино: у нас кино каждый день крутят! – и когда выключат свет, Алеша…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!