Текст книги "Илья Ильф и Маруся Тарасенко. Мелодия на два голоса"
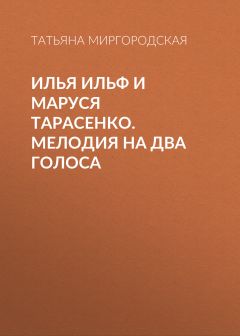
Автор книги: Татьяна Миргородская
Жанр: Журналы, Периодические издания
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Илья Ильф и Маруся Тарасенко. Мелодия на два голоса

Ей было семьдесят семь, никто больше не звал Марию Николаевну Марусей. Ночами она теперь не спала, но совсем не мучилась бессонницей. Включала ночник и доставала свое тайное сокровище, о котором не подозревали даже дочь Александра и внук Илюша: пачки писем, перевязанные ленточками. Мария Николаевна знала наизусть каждое, но играла сама с собой. Наугад вынимала из стопки ветхий конверт – руки дрожали так, будто она только что его получила. Взгляд выхватывал написанные любимым почерком слова: «милая моя девочка», «моя маленькая, чудесный, нежный ребенок», «достоевчик мой», «нас ничто не разделит, я никому тебя не отдам»…
Она читала – и переносилась на шестьдесят лет назад. Нужно ответить, ведь он ждет, волнуется! Брала ручку – теперь уже шариковую, а не перышко, – и принималась писать. Как в счастливые роковые двадцатые. Когда влюбленная Маруся Тарасенко садилась за письмо Илье Ильфу, она, словно собираясь на свидание, прихорашивалась у зеркала и шла к столу как к памятнику или тенистому каштану, где условились встретиться. Ни Маруся, ни Иля тогда понятия не имели, что впереди – годы страстной любви и недолгого супружества, всемирная слава и даже бессмертие.
…Если бы не советская власть, одессита Иехиеля-Лейба Файнзильберга ждал удел вечного провинциала, обреченного на предельно узкий выбор образования, профессии, законного брака. Семья жила бедно, мать Миндль занималась хозяйством, отец Арье Беньяминович – хилый, словно придавленный ответственностью за семью банковский бухгалтер, прежде всего думал о том, как подтолкнуть сыновей к более удачливой судьбе. Александра (Сруля) и Михаила (Мойше-Арона) отдал в гимназию в надежде, что они станут бухгалтерами или устроятся в банк. Третьего сына, Илю (Иехиеля-Лейба), – в ремесленное училище. Увы, надежды отца не оправдались: наследники выбрали ненадежное и безденежное искусство. Миша и Александр – он называл себя Сандро – стали художниками. А Иля, поработав чертежником, телефонным монтером, токарем и статистиком, подался в литераторы. И только младший, Вениамин, порадовал родительские сердца: пошел по инженерной части. К слову, все четверо позже стали еще и превосходными фотографами.
Иля учился блестяще, читал запоем и все подряд. Был он рыжим (и конечно, удостоился дразнилки «Рыжий, красный, человек опасный»), близоруким и любопытным. Революционные потрясения, обрушившиеся на Одессу, сказались на его жизни самым непосредственным образом. Одиннадцать раз в городе сменялась власть, а летом 1919 года, когда на борьбу с Деникиным стали мобилизовать даже негодных к строевой службе, Файнзильбергу тоже пришлось встать под ружье. Он явился на сборный пункт в пенсне и с книжкой Анатоля Франса под мышкой. Опыт пережитого в Гражданскую остался с ним навсегда: много позже Иля расскажет любимой женщине о том, как лежал в пшенице, боясь поднять голову, и как доводилось стрелять в людей.
После разгрома деникинцев в Одессе создали телеграфное агентство – отделение РОСТА, куда и устроился Иля. Затем Илья – так теперь его называли – перешел в продкомиссию на должность «письменного работника». А вскоре вступил в клуб «Коллектив поэтов», среди участников которого были Юрий Олеша, Валентин Катаев, Эдуард Багрицкий, Владимир Сосюра, Семен Гехт. В большой квартире местного авантюриста Мити Ширмахера (он станет одним из прототипов Остапа Бендера) они читали стихи – великих поэтов и собственные – под аплодисменты стекавшихся сюда художников, студентов и восторженных барышень. Уже тогда Илья поражал эрудицией, интеллектом и бритвенным остроумием. Он сидел обычно в углу, но доносившиеся оттуда короткие и едкие суждения задавали тон дискуссии. Его побаивались. Его уважали.
Чуть позже начали появляться и кафе поэтов – сначала «Пэон 4-ый», потом «Мебос», где собирались ежевечерне. Их украшал Михаил Файнзильберг, к тому времени под псевдонимом Ми-фа, и там всегда выступал его младший брат, создавший себе псевдоним из первых букв имени и фамилии – Ильф. Все они жили тогда стихами, рассказами, беседами. Без этого жизнь казалась бы совсем невыносимой: начало двадцатых было временем чудовищной бедности и голода.
Дома у Файнзильбергов стало совсем грустно. В конце 1921 года уехал в Петроград Миша, а в начале 1922-го эмигрировал Сандро – сначала в Константинополь, потом в Париж, где впоследствии стал известен как яркий художник Фазини (он считал, что оставаться в разрушенной России равноценно смерти, но именно из Парижа спустя двадцать лет его увезут в Освенцим). Вскоре под колесами трамвая погибла хлопотливая мама Миндль, а у Ильи обнаружили туберкулез, развившийся от постоянного недоедания и переохлаждения.
Из города разъезжались друзья и подруги. Все стремились в Москву и Петроград: вот где была настоящая жизнь, самые интересные люди и захватывающие события. Почти каждый день Ильф провожал очередного счастливца и на перроне желал одного: «Да пребудет с вами буйство, нежность и путешествия!» А потом возвращался домой к больному растерянному отцу и младшему брату. Теперь Одессу он именовал «мертвым Брюгге»: родной город буквально на глазах сужался, будто выдавливая из себя людей. Больше всего на свете Илья тоже хотел уехать, но его удерживало самое важное и дорогое в жизни: Маруся.
Когда в семь лет Иля на спор ломал сирень за соседским забором, неподалеку, через несколько одесских улиц, над колыбелькой новорожденной Маруси Тарасенко восхищенно агукали мама Елена Андреевна и отец Кузьма Игнатьевич, пекарь родом из полтавских казаков. Марусе суждено было всегда быть любимицей, ее считали особенной и родители, и старший брат Коля, и младшие сестры Катя и Женя. (К слову, дочери сочли имя отца слишком грубым и неизящным и когда выросли, стали называться Николаевнами.)
И речи не велось об участии Маруси в семейном пекарском деле. Хрупкая, утонченная, впечатлительная, она мечтала рисовать и после гимназии поступила в художественную студию. Там образовалась компания из четырех девушек – «Коллектив художниц»: Генриетта Адлер, Тоня Трепке, Рая Менделевич и Маруся Тарасенко. Зимой 1921 года в квартиру, где они занимались живописью, часто заходили молодые люди из «Коллектива поэтов». Среди мольбертов топили буржуйку, жарили кукурузу, варили морковный чай и глинтвейн, читали стихи и конечно завязывали первые романы. С легкой руки Багрицкого высоких и красивых – как на подбор – девушек прозвали «валькириями». У них не было помады, поэтому губы красили красным краплаком – масляной краской с собственных палитр.
«Валькирия» Маруся Тарасенко влюбилась сначала в Ми-фа – своего преподавателя Рыжего Мишу Файнзильберга, талантливого и странного. Когда он уехал в Питер, ужасно загрустила, мечтала поскорее увидеться снова и от тоски тесно сдружилась с Ильфом: он напоминал ей старшего брата. Вот только довольно скоро стало ясно, что сдержанный интеллигентный Иля относится к ней совсем не как к другу.
Постепенно в разговорах, прогулках, взглядах рождалось чувство – робкое, неуверенное, очень невинное. Летом 1922 года Иля и Маруся начали переписку – из Одессы в Одессу. Встречались днем, а ночью писали друг другу послания, чтобы отдать наутро: этот поразительный эпистолярный роман продолжался полгода. На бумаге они признавались в любви, ревновали и свободно обсуждали то, о чем молчали при встрече.
Свидания же оставались предельно сдержанными – прогулки на почтительной дистанции, походы в синематограф, маленькие подарки Или. Он позировал Марусе и читал стихи – от него она узнала о Мандельштаме. Первого октября впервые осмелился дотронуться до ее руки, третьего, в свой день рождения, положил голову ей на колени, и она погладила его по волосам. А шестнадцатого, в день своего рождения, Маруся наконец призналась вслух, что любит. Теперь у встреч выработался ритуал – часами по ночам сидели на подоконнике студии, смотрели в окно и разговаривали. Она знала: Ильфу невмоготу и дальше оставаться в Одессе. Не хотела, чтобы уезжал, но не позволяла себе его удерживать. Ночью в сочельник шестого января 1923 года она тайком провела Илю к себе в комнату, и они долго сидели у докрасна раскаленной железной печки, тихо клялись друг другу в любви и верности и решились поцеловаться. Такое целомудрие поразительно: тогда все только и делали, что демонстративно отвергали «старую мораль», да и у Ильи было уже немало женщин. Но отношения с Марусей стали особенными.
На следующий день он уехал в Москву – навсегда. Единственным мостиком между возлюбленными оставались письма.
Москва ослепляла огнями, подавляла огромными зданиями, шумом. Каждый день сюда приезжали провинциалы со всех концов России, твердо верящие, что добьются успеха. Здесь были работа, еда и деньги, а главное, прямо на глазах творилась история: что ни день – новые театры, эксперименты в литературе и живописи, кинематограф, газеты! Приезжие были готовы на любые лишения, и Ильфу пришлось помыкаться. К счастью, его приютил Валентин Катаев в своей комнатке в Мыльниковом переулке на Чистых прудах – Илья спал на полу, подстелив газету. Катаев же помог устроиться в газету «Гудок»: сначала библиотекарем, потом правщиком. Это была неблагодарная низкоранговая работа – приводить в пристойный вид безграмотные письма рабочих в редакцию. Но Ильф совершил маленькую революцию: под его пером эти письма превращались в шедевры, острые заметки с блистательными заголовками. К изумлению начальства, никому не интересная четвертая полоса стала самой читаемой. Еще Илья писал фельетоны, и вскоре в «Гудке» его оценили как «золотое перо».
Следом в Москву переехал Юрий Олеша и присоединился к Ильфу в редакции. Им дали комнатку в типографском общежитии. Воспоминания об этом много позже выльются в совершенно реалистичное описание общежития имени монаха Бертольда Шварца. Выгороженную часть комнаты с половиной окна (вторая отходила соседу) Олеша называл «спичечным коробком». Из имущества у Ильфа имелись лишь табурет и матрас на кирпичах (теперь на газете спал уже Юрий). Затем друзья переехали в крошечную комнатенку на втором этаже флигелька у Сретенских Ворот, где их многочисленными соседями были жуткие наглые крысы, а продукты и примус за неимением кухни приходилось держать в общем коридоре.
Вне работы Ильфа увлекали только два занятия – чтение и прогулки. Он проглатывал все, от философских трактатов и литературных новинок до справочников. А гуляя, подмечал множество подробностей, зачастую невидимых для остальных. И еще одному чрезвычайно важному делу он отдавался всей душой – переписке с Марусей. Писал по ночам, а если совсем сходил с ума от тоски, делал это и на работе, уединившись в каком-нибудь уголке.
Замкнутый, насмешливый, суховатый в глазах знакомых, в письмах к ней он становился совершенно другим – страстно влюбленным, страдающим и откровенным. Вокруг крутилось множество интересных женщин, и ни на одной он не останавливал взгляда. Маруся же в Одессе боялась и ревновала. Илья никогда не знал, чего ждать от ее очередного письма – пылких уверений в любви или драматических упреков и подозрений. Тем не менее ему хватало мудрости и терпения не забывать: она молода, одинока и очень неуверенна в себе. Ей всего девятнадцать, а ему целых двадцать шесть. Получив очередное сбивчивое письмо, в ответ он нежно обращался к Марусе «мой достоевчик» и раз за разом, называя «милой девочкой», переходя с «ты» на «вы» и обратно, заверял в своей преданности, лгал, что здоров и сыт, и клялся, что живет только ради нее. Он пишет почти каждый день, отправляет маленькие подарки – нательный крестик или статуэтку японского божка Чина, всегда носит при себе ее фотографии и единственное, чего ждет, – ответного письма.
Они провели в разлуке девять месяцев: в Москве попросту негде было жить. Но Иля понимал, что в Одессе Маруся чахнет, и к сентябрю 1923 года уговорил ее уехать в Петроград – учиться живописи под присмотром Рыжего Миши. И даже выслал деньги на дорогу. Но зимой Тарасенко из-за какой-то глупости с ним рассорилась и отправилась на Рождество в Одессу, а в феврале на обратном пути вдруг взяла да и выскочила из поезда в Москве. У Ильфа не осталось никаких сил противостоять, и Маруся поселилась в их с Олешей комнатушке-пенальчике. Двадцать первого апреля 1924 года они поженились.
Брак стал необходим еще и потому, что жене сотрудника газеты железнодорожников полагался бесплатный проезд. Это было важно: Марусе предстояло ездить часто. На какое-то время из-за бытовых тягот молодой жене пришлось отправиться назад в Одессу, к мужу она возвращалась наездами. Теперь соседствовали две семьи – Ильфы и Олеша с женой Ольгой Суок. Несмотря на чудовищную бедность, жили весело. И даже бытовые казусы оборачивались поводом для смеха. Например у Ильи и Юрия имелись одни парадные брюки на двоих, они висели на гвозде за дверью. Однажды женщины решили прибраться. В поисках какой-нибудь ветоши для натирки пола Маруся вспомнила о тряпье за дверью. Пол-то натерли, а чем – поняли, только когда мужья обнаружили катастрофу. А еще Маруся с Олей замазывали тушью ноги под дырками на черных чулках, вот только чулки перекручивались, предательски обнажая белую кожу… Но бедности не стыдились, так жили все вокруг. Сам Ильф обладал одним пальто, брюками и кепкой, но при этом ухитрялся выглядеть чертовски элегантно. Друзья отмечали: есть в нем какой-то парижский шик.
Почти пять лет Маруся жила на два города, любовь поддерживалась перепиской. Илья много работал и даже помогал обедневшему тестю расплачиваться с долгами. В отделе фельетонов «Гудка» помимо них с Олешей работали Валентин Катаев и Семен Гехт, периодически к ним присоединялся едкий Виктор Ардов, а в 1926-м команду острословов пополнил младший брат Катаева Евгений, взявший псевдоним Петров. С самого начала он проникся к Ильфу огромным уважением, даром что сам уже заслужил известность блестящего сатирика. Но по-настоящему они сдружились через год, когда состоявшемуся писателю Валентину Катаеву пришла в голову авантюрная идея создать мастерскую советского романа. Он-де будет придумывать идеи, сочинять станут «литературные негры», а потом Катаев, «как Дюма-пэр», пройдется по тексту рукой мастера. В качестве «негров» были выбраны тридцатилетний Ильф и двадцатипятилетний Петров. Дальнейшее – уже история мировой литературы.
В первую свою книгу Ильф переместил весь опыт жизни и бесчисленных наблюдений. А главный герой, Остап Бендер, соединил в себе сразу нескольких «комбинаторов» из времен одесской юности. Веселенький сюжет о сокровищах, спрятанных в стуле из роскошного гарнитура, соавторы превратили в блистательную энциклопедию советской жизни. Катаеву в «Двенадцати стульях» просто нечего было править, и он вообще устранился от любых претензий на соавторство. С одним условием – посвятить их шедевр ему.
А Ильф и Петров, что называется, проснулись знаменитыми. «Двенадцать стульев» отправились в триумфальное путешествие по миру, разошлись на бесчисленные цитаты и наконец-то подарили своим авторам возможность сносно устроить жизнь и разрешить проклятый «квартирный вопрос».
В 1929 году Ильф получил комнату в двухкомнатной коммунальной квартире дома, построенного для сотрудников «Гудка» напротив храма Христа Спасителя. Маруся смогла войти полноправной хозяйкой в собственное жилище. Жизнь их не стала легкой, но была интересной, веселой и счастливой. Илья много и напряженно трудился: к журналистской работе добавилась литературная. Они с Петровым превратились в одного прозаика, чью фамилию все произносили в одно слово: «Ильфипетров». Рассказы, повести, рецензии, фельетоны, сценарии… Уволившись из «Гудка», соавторы печатались в «Правде» и «Литературной газете», работали в штате еженедельного юмористического журнала «Чудак» (для него они даже придумали совместный псевдоним Ф. Толстоевский). В печать выходили «Светлая личность», «1001 день, или Новая Шахерезада», цикл о городе Колоколамске. Три года ушло на продолжение приключений Остапа Бендера – «Золотого теленка».
Петров стал самым близким человеком для Ильи – пожалуй, не менее близким, чем Маруся. Они с Ильфом были неразлучны: вместе работали, отдыхали и праздновали и так «проросли» друг в друга, что действительно составляли одну гармоничную личность. Но что интересно, оставались на «вы». Таким уж человеком был Илья, он даже с Марусей так и переходил с «ты» на «вы» и обратно, как в письмах влюбленной юности.
Что же Маруся? Она была абсолютно счастлива. Подрабатывала, ретушируя фотографии для газет и журналов, занималась своей обожаемой живописью, обживала новый дом. Потихоньку изначальная бедность сменялась уютом – таким, как его понимали супруги. Сначала над их кроватью висела ситцевая узорчатая тряпочка, потом туркменская дорожка, а затем и настоящий ковер. Комнату заполняли вещи, в которые влюблялся Илья: фарфоровые львы, гравюры и рисунки, восточные статуэтки, чернильницы и, конечно, книги, альбомы и подборки старых журналов, которые он покупал на развалах у Китайгородской стены. Еще одной его страстью стали записные книжки, в которых Ильф фиксировал свои наблюдения, эффектные сравнения и забавные словечки.
У Ильи наконец-то появилась возможность досуга – в редкую свободную минуту можно было лежать под теплым пледом, обложившись книгами. Рядом тихонько рисовала жена. Ее младшая сестра Надя, переехавшая в Москву, какое-то время тоже жила у Ильфов, помогала по дому не слишком хозяйственной Марусе и стала добрым другом зятю. Илья страстно увлекся фотографией, купил на одолженные у Петрова деньги фотоаппарат. Тот жаловался: «Было у меня на книжке восемьсот рублей, и был чудный соавтор. А теперь Илья увлекся фотографией. Я одолжил ему мои восемьсот рублей на покупку фотоаппарата. И что же? Нет у меня больше ни денег, ни соавтора… Мой бывший соавтор только снимает, проявляет и печатает. Печатает, проявляет и снимает…» Благодаря этому увлечению остались поистине уникальные кадры. Среди них есть и исторические, например последовательная съемка взрыва храма Христа Спасителя или похороны Владимира Маяковского. А есть камерные, бытовые, запечатлевшие уютную комнату, обеденный стол с нехитрой снедью, туалетный столик Маруси, кровать, книги и безделушки, а главное – самих героев этой маленькой театральной сцены. Эти фотографии дышат счастьем и покоем.
Однако о гладкой писательской жизни, которую вели более удачливые собратья по перу вроде того же Катаева, мечтать не приходилось. «Золотой теленок» неожиданно встретил резкую критику – в первую очередь со стороны всесильного Александра Фадеева, одного из руководителей Российской ассоциации пролетарских писателей. Дескать, нельзя выводить главным героем такого беспринципного пройдоху, как Остап Бендер, не поймет такого советский читатель. К счастью, за соавторов заступился Максим Горький – обратился к наркому просвещения Андрею Бубнову, и книгу издали.
«Двенадцать стульев» и «Золотого теленка» напечатали чуть ли не на всех языках мира. С этим советское правительство не могло не считаться: умных, ироничных, популярных Ильфа и Петрова начали отправлять в командировки – в Среднюю Азию, на открытие Туркестано-Сибирской железной дороги, на военные учения в Белоруссии. Пришлось побывать и в печально знаменитой коллективной поездке выдающихся советских писателей на Беломорканал в 1933 году. Цвет отечественной литературы наперебой восхищался проектом «перековки» отпетых уголовников, старательно жмурясь и отказываясь видеть политзаключенных, ежедневно гибнувших на гигантской стройке. А потом литераторы дружно уселись за общую книгу, стремясь превзойти друг друга в славословии. Увы, это мало кого уберегло – многие из них вскоре и сами были репрессированы. И только Ильф и Петров наотрез отказались участвовать в проекте – они вообще были предельно принципиальны во времена, когда это не сулило ничего хорошего. Взяли и рассорились с кинорежиссером Григорием Александровым, любимцем Сталина, поставившим «Цирк» по их пьесе: увидев, что из едкой комедии получается помпезная агитка, потребовали убрать имена с титров.
Их отправляли и в заграничные командировки. Где только не побывали Иля с Женей! В Турции, Греции и Италии, в Варшаве, Праге и Париже… Наконец-то Ильф смог повидаться со старшим братом Сандро, которого не видел больше десяти лет. Здесь сказалось его знаменитое бесстрашие – кто и что об этом подумает, кто и как к этому отнесется, Илье было безразлично. Марусе же оставалось получать письма – как всегда, ее муж писал исправно.
Жить, по выражению Сталина, становилось все лучше и все веселее. Писатели превращались в привилегированный класс. Скромный и честный Ильф с ужасом смотрел, как, расталкивая друг друга локтями, его коллеги рвутся к кормушке. Появились закрытые распределители, табель о рангах и цеховая мода. Ездить теперь нужно было только в международном, ни в коем случае не в мягком вагоне, одеваться и обставлять квартиру определенным образом, посещать конкретные рестораны и кутить в них каждый раз как в последний. Бились за литфондовские дачи, за прикрепление к кремлевским больницам и цековским столовым. А еще собратья по перу как с ума посходили, бросая старые семьи и заводя себе молодых подруг для новой престижной жизни.
Иля и Маруся оставались одним из последних форпостов нормальности во всеобщем безумии. Им и в голову не приходило унижаться или заниматься патетической халтурой ради каких-то благ. Они продолжали жить в своей маленькой комнате, тратили деньги на книги и альбомы, ходили в театр и встречались только с любимыми друзьями.
В марте 1935 года родилась дочь Сашенька, которую дома звали придуманным Ильей прозвищем Пиг, Пига – от английского «поросенок». Большего счастья Ильф не испытывал. Когда приходили приятели, хватал их за руку и тащил к кроватке: «Смотрите скорее, правда, моя дочь – красавица?» Сашенька была слишком мала, чтобы что-то разглядеть, но гости восторженно соглашались.
Уже в сентябре соавторы отправились в эпохальную поездку по Америке. Теперь Ильф в первую очередь покупал подарки для дочки – одежду и игрушки. Кроме того, они с Петровым приобрели пишущую машинку, на которой собирались печатать свои будущие книги. В Америке Илья бесконечно фотографировал, и впоследствии его снимки стали бесценным свидетельством уклада жизни далекой страны. А еще он вновь проявил бесстрашие и встретился с родственниками, когда-то эмигрировавшими в Штаты из Одессы. Эта ветвь Файнзильбергов взяла в новой жизни фамилию Файнсилверы и поселилась в Хартфорде, штат Коннектикут. Один родной дядя Ильи звался Вильямом, второй – Натаном (он, к слову, был знаком с Марком Твеном). Занимались родственники продажей машин и не бедствовали. Илью возили по окрестным городам и потчевали традиционными еврейскими блюдами, которых он не ел с детства.
В каждом письме Марусе он описывал все, что видел и узнавал. А еще просил прислать новые фотографии Пига и когда получал, каждую зацеловывал. За пять месяцев, показавшихся Ильфу целой вечностью, они с Петровым действительно проехали Америку вдоль и поперек, познакомились с Эрнстом Хемингуэем, Эптоном Синклером и Дос Пассосом, Генри Фордом и Полем Робсоном, побывали в Голливуде и даже Мексике.
Вернувшись с прогулки по знаменитому кладбищу в Новом Орлеане, Илья признался Жене в страшном. Оказалось, что уже десять дней он очень плохо себя чувствовал: болела грудь, кашлял кровью – совсем как в двадцать лет, когда у него диагностировали туберкулез. Илья даже подумать боялся о том, что болезнь вернулась.
По окончании путешествия организаторы тура предложили писателям бесплатно съездить на пароходе на Кубу и Ямайку, совершенно недоступные для советских граждан в то время. Но соавторы отказались: тоска по семьям совершенно их вымотала (Петров был женат на Валентине Грюнзайд). Ильф писал Марусе: «Милая моя, нежная дочка, я уже очень заскучал. Ни тебя нет очень долго, ни Пига маленького. Дети мои родные, мне кажется, что никогда больше с вами не расстанусь. Без вас мне скучно. Вот ходят по улицам индусы, японцы, голландцы, кто угодно, и Тихий океан тут, и весь город на падающих склонах, а мне уже чересчур много, мне нужно вместе с тобой посмотреть, как наша девочка спит в кровати».
На обратном пути из Америки соавторы заехали в Париж. Там Илья снова встретился с Сандро. Тот не мог не заметить его состояния – мучительного кашля, усталости и крайне подавленного настроения. Фазини умолял Ильфа задержаться на несколько дней, показаться местным врачам, но тот не желал ничего слышать: больше всего на свете он хотел домой.
В Москве диагноз подтвердился – долгое автомобильное путешествие, постоянные переезды и перемена климата оказались губительными для здоровья. Вернувшийся туберкулез к тому же спровоцировал сердечную недостаточность. К физическому недомоганию добавились моральные страдания: боясь заразить родных, Илья вынужден был оградить от себя самых любимых людей – жену и дочь. Как-то, вернувшись домой, Маруся застала мужа склонившимся над раковиной. Он обернулся и растерянно сказал: «Маруся, у меня кровь горлом…» Она бросилась было к нему, но тут же вынужденно остановилась. Маленького Пига теперь тоже держали от папы на расстоянии, лишь несколько раз он решился взять дочку на руки. Постепенно она начала от него отвыкать, дичилась – это было самым мучительным. Но однажды, испугавшись какого-то насекомого, Сашенька бросилась именно к нему, крича: «Папа, папа, жук!» – Илья ужасно обрадовался и все повторял жене: «Вот видишь! Все-таки жук оказался страшнее папы».
Весь 1936 год Ильф изо всех сил старался вылечиться – он ездил в санатории, наблюдался у врачей. Маруся сходила с ума от беспокойства, куда только делась ее безалаберность! Теперь она следила за питанием мужа, готовила полезные блюда, строго выдерживала график приема лекарств. Все, что от нее зависело, она делала. Увы, тогдашнее состояние медицины в Советском Союзе победы над туберкулезом обеспечить не могло. После каждого курса лечения Илье ненадолго казалось, что стало легче, но вскоре он снова начинал задыхаться.
И все же Ильф не терял надежды. Продолжал работать, выстукивая на машинке «Одноэтажную Америку» на съемной даче в сосновом бору Красково. Из-за дурного самочувствия это была первая книга, которую они с Петровым решили писать по отдельности, разобрав на главы. Оба ужасно боялись, что ничего не выйдет – привыкли оттачивать каждое слово в спорах. Но прочитав, что написал каждый, в изумлении обнаружили: стиль отрывков совершенно идентичен. Оказалось, за время совместной работы они действительно выработали единую манеру письма.
Между тем вокруг сгущались тучи. Очерки из «Одноэтажной Америки» хоть и напечатали в 1936 году в журнале «Знамя», но с большим скрипом: отношения со Штатами ухудшились. Мало того, узнав о сталинском проекте гигантского киногорода в Крыму, Ильф с Петровым осмелились написать ему письмо: мол, они только что из Голливуда, там прекрасно обходятся съемками в студии, а такое гигантское строительство ради съемок на натуре расточительно. Письмо прошло через киношного начальника Шумяцкого, и он сопроводил обращение откровенным доносом на «саботажников». Сталин разгневался: его и без того уже раздражали слишком независимые соавторы, чересчур восторженно отзывавшиеся о Штатах. Возмутился и нарком тяжелой промышленности Орджоникидзе, назвав их склочниками, порочащими важное дело. Надвигалась опала.
В стране шли громкие судебные процессы, разоблачающие врагов народа. В отличие от многих Ильф и Петров никогда не закрывали на это глаза, ни за что не голосовали, не подписывали коллективных писем и не клеймили «отступников» с трибуны. Они с женами оказались среди тех немногих, кто навещал опального Михаила Булгакова, предлагали ему всю возможную помощь. Тот читал им «Мастера», его верная Елена Сергеевна однажды записала: «Ильф и Петров не просто прекрасные писатели, они – прекрасные люди». А Ильф все чаще мрачно констатировал: «Кирпич уже летит».
В 1937 году начал заселяться писательский дом в Лаврушинском переулке напротив Третьяковской галереи. Здесь получили жилье Пастернак и Олеша, Катаев и Алигер, Барто и Пришвин, Паустовский и Макаренко, Каверин и Федин. Досталось по трехкомнатной квартире и Ильфу с Петровым. В одном подъезде: Илье на четвертом, товарищу на пятом этаже.
Вселившись, Ильф со вздохом сказал: «Отсюда уже никуда». В первых числах апреля он еще успел побывать на собрании московских писателей, пригубить бокал в ресторане и грустно пошутить: «Шампанское марки «их штербе», – цитируя предпоследние слова Чехова, «я умираю» на немецком. Договорился о продолжении работы над фельетоном с Петровым. Они распрощались в лифте – с тем, чтобы встретиться назавтра в одиннадцать. Но утром соавтор уже возил в этом лифте в квартиру друга подушки с кислородом, сознавая их бесполезность. Слухи о том, что Ильф умирает, разнеслись быстро. Марусе приходилось раз за разом открывать дверь и спокойно говорить очередным встревоженным посетителям, что ее мужа увидеть нельзя. Визит долгожданного медицинского светила, от которого ждали чуда, состоялся тринадцатого апреля – слишком поздно. Тем же вечером Ильфа не стало. Рядом с ним до последней минуты оставались Маруся и Петров.
На погребении оба хоронили вместе с Ильей самих себя. Вокруг было множество людей и цветов, друзья и коллеги бесконечно сменяли друг друга в почетном карауле, все плакали, а Маруся не могла: она совершенно окаменела и не слышала слов соболезнований. Смотрела, как шевелятся губы у звонко вещающего Фадеева, и не понимала, о чем он говорит.
В ее ушах продолжали звучать последние сказанные ей слова Или: «Оставляю тебе мою Сашеньку в память о себе». Прочти он где-нибудь такое, досадливо сказал бы – так не бывает, литературщина. Но так было.
А потом пришлось жить дальше. Теперь Маруся существовала за двоих – и за двоих принимала удары судьбы, всякий раз радуясь: хорошо, что Иля не знает. Он не узнал о гибели Сандро и его жены в Освенциме. Не узнал, что Миша умер от голода в эвакуации в 1942 году, не получив ответов на мольбы о помощи ни от кого из знакомых. Что в 1942-м же погиб в авиакатастрофе Евгений Петров. Что его дорогие девочки остались совсем одни, без всякой помощи, которую так искренне обещали заплаканные знакомые на похоронах. Вернувшись из эвакуации, они нашли свою квартиру разграбленной. Гонорары за произведения Ильфа получали редко, а в 1948 году специальным постановлением секретариата Союза писателей сочинения соавторов и вовсе объявили вредными, тиражи даже изъяли из библиотек. За всем этим стоял тот самый Александр Фадеев, который со слезами на глазах произносил торжественную прощальную речь на кладбище.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































