Текст книги "Изюм (сборник)"
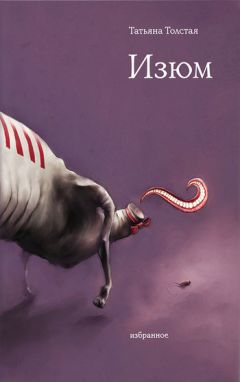
Автор книги: Татьяна Толстая
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
2000
Какой простор: взгляд через ширинку
Вот радость-то какая, светлый праздничек: вышел первый номер журнала Men’s Health. Название на русский не переведено, и напрасно: артикуляция глухого межзубного спиранта, как правило, плохо дается именно тем славянам, на чье просвещенное внимание издание рассчитано. Но это не проявление нашего низкопоклонства, как можно подумать, а решение американских издателей: хотят сохранить свою марку в любой стране. Дело хозяйское, но, даже и не будучи астрологом, каждый может привести примеры того, как непродуманно выбранное имя влияет на судьбу новорожденного. Так, помню, много ненужного веселья в свое время вызывал один индус, аспирант моего русского приятеля, профессорствовавшего в Америке, а звали юношу Pizda.
Красивое имя – высокая честь; название Men’s Health представляется мне неблагозвучным для русского уха, а потому буду называть журнал «Мужское здоровье» или «Здоровье мужчин» (мушшин – произнес бы американец, заставь мы его артикулировать наши заголовки, но мы не заставим; мы гуманнее).
Мужчиной в рамках этого издания считается средняя часть туловища в ее простой физиологической ипостаси. Письмо редактора русского издания Ильи Безуглого не оставляет сомнений в том, что термин надо понимать узкотехнически: «Наша задача – приносить вам пользу и давать профессиональные ответы на любые вопросы, будь то проблема преждевременной эякуляции, конфликт с тещей или покупка модного галстука». Вообще говоря, после этих слов все про журнал понятно, все предсказуемо, и можно было бы прекратить писать рецензию. Эякуляция, теща и галстук в одном флаконе – это ответ «мушшин» на наши прокладки с крылышками. Но – пустите, я скажу! Немного зная мушшин, я составила о них несколько более высокое представление, чем то, что предлагает журнал, и мне, хоть и вчуже, обидно.
Образ мужчины, конструируемый журналом, до воя прост. Это брутальное двуногое, тупо сосредоточенное только на одном: куда вложить свой любимый причиндал (подсказка: в индуса). Форма существования этой белковой молекулы сводится к тому, чтобы поддерживать свой attachment в рабочей форме, устраняя возникающие помехи на пути к индусу, будь то начальник, работа, прыщи, теща, лень или потные руки. К адресату журнал упорно обращается на «ты», и, похоже, он того заслуживает. В социальном плане читатель «Мужского здоровья» мыслится как внезапно разбогатевший дебил, не знающий, что делать с салфеткой («когда вы сели за стол, сразу возьми ее и расстели на коленях») или с носовым платком («сморкайся осторожнее»), гугнивый («ты устал гундосить на переговорах»), сервильный тупица, но в чем-то хитрован («ИЗОБРАЗИ ВНИМАНИЕ: сиди прямо, слегка подавшись вперед, демонстрируя необыкновенный интерес к словам руководства»). Кто он, этот предполагаемый читатель «Здоровья»? Официант ли он, работник торговли, разъевшийся на недовложениях в жюльен? (Катаясь на лыжах, «представь, что ты несешь поднос».) Слесарь-ремонтник, обобравший трамвайное депо? («Смени поступательные движения члена на вращательные».) Чахлогрудый, тоскующий узник бибиревской распашонки? Вот как заставить себя НЕ смотреть телевизор: «встань, потянись, сделай несколько отжиманий». Вот как нейтрализовать маму жены: купить старой карге набор карт и игральных костей за сто долларов, и тогда «вместо того, чтобы портить тебе нервы, теща предастся раскладыванию пасьянсов». Надо ли говорить, что в представлении сотрудников журнала теща, – в худших традициях оттепельного «Крокодила», – конечно же, не живой человек, а враг народа, вроде карикатурных «воротил с Уолл-стрита». Это занудная, ноющая, брюзжащая помеха вожделенному времяпрепровождению, всегда подразумеваемому, – пива и в койку. Очень смешное слово – теща. Все еще без шуток не хожу. Собственно, первый же разворот в журнале сообщает болезненно крупным шрифтом: «НАДО БЫЛО ЖЕНИТЬСЯ НА СИРОТЕ» и сопровождается соответствующей фотографией, смысл которой в том, что теща у «него» во где сидит. Дети? Дети, конечно, «создают трудности для половой жизни».
«Она» же, ради которой, собственно, и стоит пользоваться дезодорантом для ног (а так бы зачем?) – то есть, собственно, теща будущая, но еще не вышедшая в тираж, – тоже не человек, а сучка с сумочкой: «чтобы произвести впечатление на такую женщину… необходимы шарм, такт и солидный счет в банке», а если кто станет метаться, соображая, что же из перечисленного важнее, ясно указано: женщины любят тех, у кого «солидная зарплата». Блажен, кто верует.
Но все же надо отдать должное коллективу редакции: он ненавязчиво, осторожно начинает вводить для своего пещерного собеседника трудные понятия: «интеллект», «ум», «мечты», но, боясь спугнуть сморкающегося и гундосящего недоросля, для начала предлагает облегченный вариант: так, мы узнаем, что «сладкие грезы – признак развитого интеллекта», «эротические фантазии – отличительная особенность живого ума», а также что «мечтать не вредно: тут нам не „прокрутят динамо“ и не заразят дурной болезнью». «Культура» тоже задействована: так, микеланджеловский Давид используется для иллюстрации проблем с мочеиспусканием, и это понятно: мушиный мозг читателя ничего в скульптуре, кроме пипки, на заметку не возьмет. Немножко литературы: камень в уретре журнал называет «каменным гостем». Не забыта и музыка: «люди, тренировавшиеся на велотренажерах под музыку, показали гораздо лучшие результаты, чем те, кто крутил педали в тишине». Это, пожалуй, и все, но на первый раз культуры более чем достаточно. Да, собственно, я бы так уж сразу не ошарашивала читателя таким шквалом интеллектуализма, а сосредоточилась бы на рекомендациях типа: «не ешь из одной тарелки с соседом», «не таскай еду у нее из тарелки: обжорство снижает потенцию». Может быть, стоило бы еще и еще раз повторить эти полезные советы, чтобы закрепить пройденное.
После культуры, как водится, идет просвещение, но тут караул заметно устал: «САНКИ. Кто изобрел: какая тебе разница…» «СНЕГОХОД. Кто изобрел: чукча». Чукча – это, конечно, теща в семье народов: так смешно, так смешно! Автора! Вот еще о зимнем спорте: «Может, необязательно сразу лезть в прорубь. Но залепить снежком в окно кабинета начальника, по-моему, сам Бог велел». Как обаятельно для тех, кто понимает: тут и фрейдистская «прорубь», и вновь, и вновь бессмертный мотив: теща и ее окно, требующее все новых веселых шуток. Отсмеявшись, уже лишь краем глаза отметим скучные потуги на афоризмы («Пьяный менеджер – тоже менеджер»), заметки ветеринара («Медики утверждают, что чем больше поз ты используешь, тем богаче твоя сексуальная жизнь») и останемся, пожалуй, глухи к внезапному мичуринскому взвизгу: «Чечевица – где еще найдешь столько солей фолиевой кислоты!» Где-где. У индуса в бороде.
Мир мужчины, предлагаемый издателями, уныл и прост: пустыня, а посередине – столб, который все время падает, хоть палочкой подпирай. Этот «мужчина» никогда не был мальчиком, ничего не складывал из кубиков, не листал книжек с картинками, не писал стихов, в пионерлагере не рассказывал приятелям историй с привидениями. Никогда не плакал он над бренностью мира, – «маленький, горло в ангине», – и папа соответственно не читал ему «вещего Олега». Да и папы у него не было, и не надо теперь везти апельсины в больницу через весь город. Ни сестер у него, ни братьев. И жениться надо было на сироте. И дети его – досадное следствие неправильного выбранного гондона. Странным образом в этом мире нет и женщины – есть лишь «партнерша» с «гениталиями», как в зоопарке, мучимая ненормальным аппетитом к драгметаллам, словно старуха-процентщица. Жизнь его – краткий миг от эрекции до эякуляции с бизнес-ланчем посередине, и прожить ее надо так, чтобы не прищемить, не отморозить и не обжечь головку члена. До пятидесяти лет этот кроманьонец только и делает, что «кончает», после полтинника – кончается сам. На сцену выходит Немезида – аденома простаты; тут ему, молодцу, и славу поют. Он выпадает со страниц журнала, из поля зрения, из жизни; как раз в тот момент, когда «здоровье» ему нужнее всего, – цирроз, катаракта, пародонтоз, варикоз, геморрой, – журнальные доброхоты прекращают дозволенные речи, заколачивают ларек и уходят. Читателя! Советчика! Врача! – не-ет, дедусь. Протри «очки престижных марок»: кому ты нужен? Сдай часы от Картье и – на выход.
К женским глянцевым журналам, бабачащим и тычущим, прибавился и мужской, почти неотличимый, что и понятно. Им, татарам, все равно: что мушшин подтаскивать, что партнерш оттаскивать.
1998
Художник может обидеть каждого
Патриаршие Пруды, какими мы их знали, приходят к концу. Если вы хотели там погулять – гуляйте скорее: ударная волна увековечивания докатилась и до Прудов. Распоряжением московских властей там будет установлен памятник Булгакову. Все началось душным майским вечером 1929 года… Боги, боги мои!
Писатель Булгаков, Михаил Афанасьич, уже увековечил себя самым замечательным образом: нерукотворным. Феномен народной тропы в случае с Булгаковым сказался в полной мере: наш таинственный народ торит свою тропку там, где хочет, а не там, где ему указывают. К Лермонтову, например, нипочем не торит. Может, не читал. Тургенева немножко знает, и даже производит конфету «Му-Му» с картинкой коровы, – как если бы Герасим утопил теленка. Гоголя в упор не видит, – должно быть, оттого, что сам является его персонажем. Но Михаил Афанасьич, писатель мистический, поразил народ в самое сердце, причем не всем собранием сочинений, а именно и исключительно романом «Мастер и Маргарита». И не столько страницами о Христе и Пилате, сколько описанием нечистой силы, избравшей для посещения Москву и натворившей там черт-те чего. Кто хоть раз сидел с нашим народом на лавочке, согласится, что черти, домовые, ведьмы, барабашки и лешие ближе и понятней простому человеку: он с ними живет, он об них спотыкается, они у него мелкие вещи воруют, а Христос – это сложно, это туманно, это узурпировано начальством, это ТВ-Центр и перегороженное движение по Волхонке.
Стоило мистическому роману попасть в народные руки, как Патриаршие Пруды, бывшие дотоле мирным местом прогулок, немедленно, раз и навсегда, необратимо сделались местом также мистическим, культовым. Обычный милый уголок города, попав в зону литературной радиации, незримо преобразился. У радиации, как известно, нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, – одно воздействие… Вот на этой аллее «соткался из воздуха прозрачный гражданин престранного вида», – именно на этой, а не на той. Вот на этой скамейке сидели Берлиоз с поэтом Бездомным. Вон там был ларек «Пиво и воды», а тут турникет, а здесь Аннушка пролила подсолнечное масло. Посвященный видит все это, образы ткутся из воздуха, населяют тенистую аллею. Это и есть нерукотворный памятник.
Но Общественный совет при мэре Москвы по проблемам формирования градостроительного и архитектурно-художественного облика города (длинный-то какой) не верит в нерукотворность и решил вложить административные персты в незримые раны Распятого и его Певца. Совет подумал: вроде тут вот всё оно и клубилось, коты эти с грибами, клетчатые черти, – чой-то ничего не видно? – и заказал, чтоб было видно. Плоть от народной нашей плоти. Совет при мэре тоже запанибрата с нечистью и потому, объявив конкурс на лучший проект памятника Булгакову, не стал никак обосновывать свое решение установить памятник не где-нибудь, а именно здесь – «на Патриарших Прудах, вблизи павильона».
Восплачем, кстати, о судьбе скульптора, тяжела его доля. Душа у него, может быть, рвется лепить зайцев, а конкурс – на деда Мазая. Руки чешутся изваять голых баб – а бабы не кормят, кормит Ильич, или же Пушкин какой – и вот дважды в столетие, к годовщинам рождения и смерти, топчет и душит скульптор свою пугливую летучую музу, и, погрузивши руки в шамот, с понятной ненавистью лепит и лепит ненавистные, заказные бакенбарды.
Он же тоже есть хочет, скульптор-то. Он же тоже смотрит на освещенные витрины с жареными курами печальными карими глазами собаки Павлова.
И вот двенадцать человек (число мистическое, но и задумка обязывает) откликнулись на зов трубы Совета при мэре. Двенадцать апокрифов под шифрами были представлены в помещении Российской Академии всяких художеств и сопровождены «пояснительными записками». Скульпторам мало показалось написать в записках: «тут я думаю поставить столб с развевающимися простынями, а из простыней чтоб свисала лепеха, и в ней профиль писателя», или: «я развешу там-сям отрезанные головы», или же: «на бережку будет большой наклонный зеркальный треугольник. К нему одними задними ножками крепится кресло с А. Н. Островским, что у Малого театра, но считается как Булгаков». Нет, скульпторы пошли одолжились у соседних муз и вылепили тексты, мутные как по форме, так и по содержанию. «„Мастер и Маргарита“ – один из немногих романов, одухотворяющий на изобразительное творчество». «Сатана-Воланд, этот человекоубийца от Начала, осуществивший Божественную функцию в окружении бесовской свиты стоит в центре сегмента земного шара». «Булгаков в пяти измерениях: три пространства + время + собственно булгаковское. Неустойчивое равновесие! Устойчивое неравновесие!»
Поэтика сопроводиловок – смесь темного бормотания газеты «Завтра» со шпаргалками двоечника – толкает на нехорошие мечтания: чтобы прием в Академию сопровождался обязательным усекновением языка. Ведь если слепые лучше слышат, то, может быть, немые лучше ваяют?.. Один из памятников, – боги, боги мои! – представляет собой бесконечно длинные, длиннее дядистепиных, брюки, сами по себе стоящие на подставке, а над брюками – скрещенные на несуществующей груди руки… Видна рука (или нога?) профессионала: к конкурсу допущены лишь «профессиональные (дипломированные) скульпторы, художники и дизайнеры, имеющие опыт работы по созданию произведений скульптуры и монументального искусства, лицензированные архитекторы». Сунься какой нелицензированный Пракситель – отлуп. Постучись безвестные молоденькие студенты, озаренные свежей мыслью, – пинка молокососам! «Мы кошкины племя-я-я-янники!» – «Вот я вам дам на пряники!.. У нас племянников не счесть, и все хотят и пить и есть!»
Гуляйте же, гуляйте напоследок по Прудам, смотрите на них с улыбкою прощальной, покажите детям, пусть запомнят. «Демонтировать павильон под ансамбль Булгакова, – мечтает зодчий, – затея соблазнительная, но почти неосуществимая. Значит, вода». Значит, – прощай, вода! Звери алчные, пиявицы ненасытные, что горожанину вы оставляете? воздух! один только воздух!.. Уже не протолкнуться по Арбату, не проехать мимо Манежа, подрыт Александровский сад, узкой калиточкой стали Никитские ворота, Кинг-Конг навис над Замоскворечьем: что бы еще украсить? Кремль? – срыть его, сровнять с землей, населить персонажами сна Татьяны! Перекрыть движение по всей Москве, выгнать всех приезжих, да и москвичей заодно, и пущай скачут по всей столице петры да медведи, нострадамусы да кикиморы, пусть из каждой подворотни скалится наше размножившееся все. Спорить с этим, протестовать, говорят нам, – бесполезно.
Но воздух пока свободен. И свободно пока летают по нему народные мстители – голуби. Посидев на головах увековеченных, они, конечно, свободно, обильно и наглядно выразят свое отношение к проектам Российской академии художеств.
Летите, голуби!
1999
Крутые горки
«Сам! Сам!» – кричит Больной, он же Ленин, в фильме Сокурова, отбиваясь от попыток окружающих помочь – помочь подняться, сесть в машину, спуститься по ступеням, надеть штаны. А что «сам», что «сам»-то, половина тела парализована, ее надо волочить за собой; половина мозга не работает – разбилась, или лопнула, или потекла, или встала дыбом – как вообразить себе отказавший мозг? Вы выздоровеете тогда, когда сможете сами помножить 17 на 22, – говорит ему Врач, – как только помножите, так сразу и выздоровеете. Надо, значит, помножить, но как? Как это делают? Ну, как-то ведь делают… Нажимая карандашом, Больной крупно выводит в блокноте: 17 x 22, 17 x 22… Там крест посередине, он что-то значит, этот крест, через него множат… только как?.. Еще раз, крупно и криво, еще один крест – вотще.
Он не выздоровеет, а они не перемножатся, и ключ потерян, – булькнул и утонул в омуте поврежденного мозга, да и сами числа ничего ему не говорят, ни о чем не напоминают. Это зрителю видно, что в 17-м году Больной «сам» все разрушил, а в 22-м сам и разрушился, и не поможет ему множительный крест, ибо этот символ и в высшем своем, духовном значении для Больного – ничто, и ни ангелов для него нету, ни Бога, одно электричество, а значит, и умирать ему, уходить во тьму пустую, где, по пустому слову его, «электрон так же неисчерпаем, как и атом», да и того уж не будет.
Семнадцатый год на двадцать второй не множится, или же множится обильно и неисчислимо, – бедами, смертями, невинными и виноватыми жертвами, вороньем над белеющими в полях костями, голодными собаками над расстрельными ямами. В фильме ни бед, ни ужасов нет, есть только Больной, подстрекатель бед, виновник, участник и жертва. Он недоумер, он еще корячится. Но скоро.
Скоро, уже скоро. Наступает черед других. Они, собственно, уже тут, собрались и наступают, располагаются, занимают то пространство, которое прежде принадлежало ему, которое вроде бы еще и сейчас ему положено: всякий ведь имеет право на вершок личного воздуха вокруг лица, на опору под локтем, на сиденье стула, правда? Ан нет, неправда. Он уже и этого права лишен, он получеловек, и место его получеловеческое. И в огромном парке, и в огромном дворце в Горках, где анфилады комнат пустынны, приятно полутемны и осязаемо прохладны в душный июньский день, все – и челядь, и охрана, и Жена с Сестрой, – все норовят занять ту точку пространства, в которой скрючен Больной, словно бы он полупрозрачен, словно бы он уже не считается. Наступают на него, наваливаются, переползают через лежащего, передают тяжелую корзину через его голову, тарелкой с супом едва не задевают по носу, а в машине, для него же нарочно и снаряженной, чтобы ехать «на охоту», все сиденье заставляют и заполняют вещами, взятыми для его же удобства. Вот еда, плед, вот шофер и охрана, да и сама «жена и друг» широко расположилась, только ему, предмету их забот, сесть негде. И небо наваливается, душит облаками, продираемыми разве что изредка грозовым разрядом – нет, не гнев Божий. Электричество. Бога-то нет, это же все глупости. Есть только власть и насилие.
О насилии он думает постоянно. Он был апологетом, знатоком, глашатаем и теоретиком насилия, он безжалостно бичевал (они это любили, бичевать) тех блеющих, трусливых овец, меньшевичков, пацифистов, архискверных достоевских, которые дрожали и просили: не на-а-адо! Не на-а-адо насилия! Он твердо знал: надо. И вот теперь оно обернулось против него, теперь это его толкают, и не пускают, и бесцеремонно переползают через его полубеспомощное тело, и насильно стригут ему плотные желтые ногти на бесполезной, обмякшей ноге, и насильно пытаются надеть на него штаны, и насильно укутывают в простыни после насильственной ванны, которая – ой, нечаянно! – оказалась слишком горячей, – такое домашнее, дружеское, то сердечное, то равнодушное насилие, невыносимое до визга, до истерики. Он и будет визжать, будет бить палкой посуду, и они все, опасливо отскакивая, чтобы по ним не попало, станут закидывать его, как собаку, тряпками, скатертями какими-то. Экспроприированными, конечно, – откуда же у пролетариата скатерти. (Проще – ворованными, – говорит Сестра.) Насилие привычно, оно уже часть быта, часть домашнего, какого-никакого – среди чужих-то вещей – уюта. И верная Жена и друг, любящая, нелюбимая, неловкая, неряха во имя Идеи, вся невпопад, вся кое-как, будет читать ему домашним, уютным голосом выписки о насилии – как ноздри рвут до мозга, как порят до смерти – крест-накрест, и вдоль, и поперек. Заботливо, вовремя прочтет – на пикнике, среди океана белых-белых, прозрачных, невинных, июньских колеблющихся цветов.
А Больной хочет умереть. И тоже чтобы сам. Он просит у партии яду, а партия яду не даст. А вот хочешь – да не получишь. Насилие потому что. И газету у него из рук вырывают. И телефон будто бы не работает. И уехать нельзя – будто бы упавшее дерево перегородило дорогу. Он просит Жену уйти из жизни с ним вместе, а она не видит в том смысла. Она продолжит его правое дело после его смерти. Для дела ведь лучше, чтобы ей не пойти с ним туда, в темноту, где даже электричество все насовсем кончилось. Для себя ей ничего не надо, она не женщина и вряд ли ею когда-нибудь была, вот и шапочка на ней мусорная, горшком, – шапочка соратника; вот и чулки у нее рваные и спущенные, вот и читает она любимому посреди счастливого разлива белых цветов о вырванных ноздрях.
Но они не наедине и не вдвоем в цветах, нет покоя и в поле – там под березкой покуривает спрятанный охранник, и вон там фуражка другого, а там третьего, четвертого, – все прозрачное, пенное цветение заражено надсмотрщиками, как гнидами. Весь мир загажен, задушен досмотром, дозором, надзором; весь мир – цензура, весь мир – тюрьма, и не риторическая «тюрьма народов», а тюрьма вот этого, одного, единственного для самого себя, беспомощного человека. Все как он и хотел, все по слову его, да только повернутое против него же самого, ударившее воротившимся бумерангом, – ведь Бог, которого нет, отзывчив на просьбы, но насмешлив.
Что-то там в его искалеченном мозгу еще шевелится, что-то людское еще осталось, ему невыносимо, и он бросается оземь своим полутелом, и ползет, ползет, ползет, как червь, как слизень, как обрубок куда-то туда, куда-то в цветы, как будто хочет уйти в землю – ибо на небо ему путь заказан, – куда-то в землю, но не уйдет, не доползет, как не ушли, не доползли, не доползут его жертвы, приговоренные им, обреченные, убитые и еще не убитые, мирные, хорошие, в сто раз лучшие, чем он.
…Господи, прости меня, как я его ненавижу!..
Не доползет, – его опять отловят и вернут на место. В Горки приедет Сталин – так, на разведочку. Подарит палку. Что же еще может подарить тиран бодрый и готовящийся тирану чахнущему и гаснущему? Больной не узнает Сталина, да и можно ли ясно провидеть будущее, если и настоящее для тебя – система темных, непроходимых коридоров? Кто это был? Как его фамилия? Он еврей? Нет? – жаль; с евреем, по крайней мере, всегда можно договориться… Что это в супе?! Палец?!
При чем тут палец, Володя, это же горох!!!
Он не понимает, кто к нему приходил и что там, в супе, и не понимает, где он, и не понимает, почему он тут, среди этих дорогих, чужих вещей – люстры, мраморные статуи, анфилады, тонкая посуда, белый чужой рояль, на котором – по его же вине – никто уже ничего не сыграет, и чудные, пышные, опустелые сады, которых он не заслужил. Здесь у них никто ничего не заслужил, никто не знает, как быть дальше. Сестра ест свой суп из чужой посуды, держа тарелку на коленке, как бы в пути, как бы на пересылке, и когтит Больного, попрекает эгоизмом – умирать он, видите ли, собрался, а как же близкие, которые от него зависят? Они хотят жить. После всего, что они наделали, они еще хотят жить. И держать его живым, живее всех живых, чтобы кормиться вокруг него, чтобы загораживаться его еще живым трупом от той новой, страшной, нетерпеливой силы, которая обложила дом, притаилась за деревьями и ждет своего часа. Потому что после него придет и их черед.
А он и жить не хочет, и умереть не может. Он хочет только одного:
– Дверь, но закройте же дверь!..
Но уж этой-то роскоши ему никто не разрешит.
«Телец» – абсолютный шедевр, лучший фильм Александра Сокурова.
2001
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































