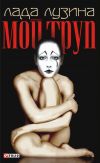Текст книги "Весенняя коллекция детектива"

Автор книги: Татьяна Устинова
Жанр: Современные детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Олимпиада ненавидела мать, ее мятое молодое лицо, запах перегара и немытого тела и то, что ей приходилось целовать это лицо, а мать еще надолго прижимала дочь к себе, и Олимпиада старалась не дышать, так старалась, что однажды упала в обморок, и бабушка ее откачивала.
Потом, когда подросла, она стала матери сочувствовать, очень горячо, остро, и, когда Горбачев в одночасье отменил и Берлинскую стену, и «железный занавес», попросила бабушку навести справки об отце.
Она страстно мечтала, чтобы он нашелся, чтобы он был миллионер, чтобы он вдруг, узнав о ней, прилетел в их с бабушкой квартирку, и полюбил бы мать, и вылечил бы ее, а саму Олимпиаду забрал бы с собой, и она стала бы немкой и миллионершей.
Тогда всем хотелось быть немками и миллионершами.
Ответов на бабушкины запросы долго не было, но она все «запрашивала» и «запрашивала», и наконец пришла «официальная бумага». В ней говорилось, что Мартин Дитрих Майер разбился на машине на автобане Кельн – Брюссель в ноябре восьмидесятого года. Сразу после Московской Олимпиады.
Его уже не было, когда мать пыталась с ним связаться через Олимпийский комитет, Комитет по спорту и еще какие-то общественные организации. Его к тому времени уже похоронили.
Его не было, когда родилась Олимпиада, когда мать медленно, но верно сходила с ума, когда ее отовсюду исключали и таскали на собрания и выгоняли из комсомола и из сборной.
Его просто не было, и все тут. И Олимпиада даже представить себе не могла, что произошло бы, если бы мать узнала.
Лучше было бы или хуже?..
Наверное, лучше, потому что она не стала бы мечтать о счастливой жизни с любимым в уютной стране Германии, и перестала бы добиваться встречи с ним, и ходить по инстанциям, и «портить свое будущее», возможно, осталась бы в сборной и, может быть, вернулась бы после рождения дочери в большой спорт!
Возможно, возможно…
Или хуже, потому что она очень его любила, и его смерть подкосила бы ее окончательно.
Или лучше, потому что пусть уж смерть, чем та жизнь, которой мать жила!
– Мама, я тебе поесть привезла. Вот и… вот.
Мужик за столом, закуривший следующую папиросу, сказал все тем же глубоким и низким голосом:
– От молодец, дочка! От поесть нам сейчас и надо, ох надо!
И сгреб со стола ее пакеты.
– Мама, – сказала Олимпиада, стараясь не обращать на мужика внимания, – смотри, какое все вкусное!
Мужик уже хищно, как собака в помойке, копался в ее пакетах, и она сдерживалась изо всех сил, чтобы не вырвать их у него из рук, не закричать, не надавать по испитой, наглой морде, не вытолкать его взашей сию же минуту!
– Станислав, – сказала мать, – Станислав, отдайте жратву обратно! Мы не графья, мы и своего похаваем!
Она повернулась обратно к плите и снова загрохотала своими кастрюлями. Жидкий и бедный пучок волос, который она закалывала до сих пор, возмущенно и жалко подрагивал.
– Мам, – пробормотала Олимпиада, потому что совершенно не знала, о чем говорить, – а у нас соседа убили, дядю Гошу Племянникова, помнишь его?
– Зачем мне всякую шваль помнить? – спросила мать тут же.
– Ну, вечная память, – пробормотал мужик, пошарил под столом и вытащил непочатую бутылку. – А что, девчонки! – громко и радостно возопил он и щелкнул по бутылке желтым кривым ногтем, под которым слоем лежала черная грязь. – А ну-ка за упокой души раба божьего, как его?..
– Сказано, сегодня больше не пью, Станислав! – рявкнула мать. – А раз сказано, значит, не пью!
Она пошатнулась, и Олимпиада поддержала ее под локоть. Мать вырвала руку.
– А что мамаша моя сумасшедшая? – спросила она пронзительно и засмеялась таким смехом, каким смеялись артистки в кино в семидесятые годы. – Все срамит меня, все позорит? Вот какая мать у меня, – добавила она, оборотясь к Станиславу, – у других матери за детей горой стоят, а моя только меня позорит, только срамит! И то ей не так, и это не эдак! Я ей говорю – еще попомнишь ты доченьку свою и как ты ей всю жизнь изломала! Еще попомнишь!
– Мама, бабушка давно умерла. Ты что, забыла?
– А что это я должна забывать? Я что, ненормальная?! Это вы все считаете, что я урод! Врачей по моему следу пускаете, как собак! Станислав, слышите, врачей! А я понормальней многих буду! Так ей и передай.
– Кому, мама?
– Матери моей, умнице-разумнице, которая меня из дому выгнала и знать не желает!
– Бабушка давно умерла, мама!
Тут мать вдруг схватилась за голову, сильно нагнулась и стала биться о плиту:
– А я-то что же не умерла?! Когда же я-то умру?! Господи, да за что мне все это?! Да сколько это будет продолжаться?! Боже мой, боже мой, говорят, ты милосерден, да что ж ты допускаешь, чтобы так человека расплющило и раздавило!..
Станислав, сдиравший пробку с водочной бутылки, на секунду замер, посмотрел уважительно и икнул.
Олимпиада изо всех старалась не заплакать.
– Мамочка, – жалобно пролепетала она, когда мать перестала биться. – Я тебе поесть привезла. Ты… поешь. Там вкусное. Ты любишь.
И она кинулась к своим пакетам и стала доставать свертки и банки и швырять их на стол, и даже Станислав прибрал подальше свою бутылку, так отчаянно она швыряла:
– Вот колбаса докторская, сыр, хлеб, шпроты, мама! Хочешь, я тебе открою? И на бутерброд положу! И давай выгоним их всех, мам! Пусть они идут себе, а мы поедим! Давай, а?!
– Ничего мне уже не надо, дочка, – сказала мать и улыбнулась Олимпиаде. – Ты езжай. Езжай. Чего уж теперь.
– Ку-уда?! – весело взревел Станислав. – А покойника помянуть? За упокой души, так сказать, тяпнуть?! Никуда не пущу, пока не тяпнешь!
Олимпиада исподлобья посмотрела на него. Мать, опершись на обе руки, не поворачивалась от плиты, и одна сальная прядь, похожая на серый крысиный хвост, вывалилась из пучка.
Олимпиада взяла бутылку за горлышко и по очереди, один за одним отлепила от нее пальцы Станислава. Размахнулась и вышвырнула ее в окно.
Повернулась и вышла.
– Господи-и, – протянула Люсинда и взяла на гитаре широкий аккорд, очень и очень печальный, – я теперь, когда на лестницу выхожу, все по сторонам смотрю. Жду, как бы еще откудова покойник не вывалился!
Олимпиада быстро готовила салат из крабов – много-много крабов, горстка рису, яйцо и майонез. Она готовила этот салат очень редко, только когда нуждалась в срочном утешении.
Люсинда тоже сказала, что она нуждается в утешении, и поэтому вот, видишь? И показала Олимпиаде гитару, которую до этого прятала за спиной. Лицо у нее было совершенно счастливое.
– У тебя с работой проблемы, этот Ашот, не ровен час, объявится, – в сердцах выговорила Олимпиада, – денег ни копейки, и еще тетка, а ты гитару купила!
– Да как же мне без гитары, я без нее никак не могу, – заторопилась Люсинда, часто-часто моргая. – Я же без нее пропадаю совсем, Липочка! Ни спеть, ничего! Только я хотела попросить, чтобы она уж у тебя постояла, а то тетя Верочка… выбросит.
– Чтобы… кто постояла? – не поняла Олимпиада Владимировна, которая нынче, кажется, тоже осталась без работы и, главное, без перспектив!
Не возьмут ее в пресс-службу холдинга «Янтарь», не отработала она год в крупной промышленной компании!
– Чтобы вот гитарочка моя постояла, – сказала Люсинда и поглядела подобострастно, – ну хоть бы в кладовке, а? Она мешать не будет, Липочка, а я, хочешь, убираться у тебя стану хоть каждый день! – Тут она подумала и продолжила: – Не, каждый день не смогу, а два раза в неделю – это с удовольствием!
– Да не надо у меня убираться, – вскипела Олимпиада Владимировна, как тогда, когда она еще была прежней, уверенной в себе и не отягощенной никаким знанием жизни. – Я сама прекрасно убираюсь! Ты мне лучше скажи, что ты будешь теперь с работой делать?! У тебя ведь там проблемы какие-то, на рынке, да? Или я ошибаюсь?
Люсинда не ответила. Она играла на гитаре – с чувством глубоко соскучившегося человека, которому вдруг вернули любимое дело.
– А… твой сегодня не придет? – вдруг спросила она, перестав играть.
– Не знаю. Да какая разница, придет, не придет!
– Я его боюсь, – призналась Люсинда, подумав. – Не любит он меня.
– Подумаешь, не любит! Мало ли кто кого не любит! Зато я тебя люблю.
– Ой, правда, Липочка?! Самая-самая правда?
Ей давным-давно никто не говорил, что любит. Она даже позабыла, как это звучит.
– Правда, – хмуро сказала Олимпиада. – Я тебя люблю.
Тут она вспомнила, что должна непременно выпить таблетку «для красоты», бросила салат, достала упаковку, которая всегда лежала поблизости, и налила в стакан воды. Люсинда из-за гитары внимательно за ней наблюдала.
– Лип, а чего это ты пьешь? Заболела?
– Нет.
– А зачем пьешь?
– От вен.
– А у тебя разве вены? – не поверила Люсинда. – Вот у моей матери вены – жуть!
– А я не хочу, чтобы у меня тоже были вены – жуть, – сказала Олимпиада серьезно, – потому и пью. И тебе бы попить, потому что ты целыми днями на ногах!
Люсинда тряхнула белыми волосами:
– А как называется?
– «Асклезан», – по слогам, чтобы Люсинда лучше запомнила, произнесла Олимпиада Владимировна. – Подожди, я тебе сейчас дам…
Она порылась в выдвижном ящике, где держала лекарства, и из самой главной коробочки, где были самые главные средства вспомоществования, вытащила тюбик.
– Это тоже «Асклезан», но не таблетки, а крем. Станешь ноги мазать, и не будет у тебя никаких жутких вен!
– Спасибо, – прочувствованно поблагодарила Люсинда.
В том, что они «ухаживали за собой», тоже было возвращение в обыденность, некое утешение, в котором они нынче так нуждались.
– А тетя Верочка как?
– Плохо, ой не спрашивай, Липа! Почти не встает и все время плачет. Я ей говорю – тетя, да что вы убиваетесь за этой Парамоновой, как за родным братом? А она мне – живой человек, душа живая, а пропала ни за грош! И собачка ейная пропала, обое пропали!
– Обои целы! – сердито сказала Олимпиада и показала рукой на стены. – Пропали обе! И слова «ейный» не существует в природе, как и слова «ихний»!
– Зачем она повесилась? – задумчиво спросила Люсинда сама у себя. – Ну, муж ладно, свалился, а себя-то зачем же убивать? Грех какой!
Олимпиада очень сомневалась в том, что Парамонова сама себя убила. Все это было так страшно и так похоже на фильм ужасов, что самоубийство никак не укладывалось в картинку.
– Я не понимаю, из-за чего все это началось, – задумчиво сказала Олимпиада и добавила в салат еще майонеза. – Когда началось? Когда взорвали дядю Гошу или еще раньше?
– Да когда раньше-то? Раньше у нас все живы-здоровы были! Годами никто не помирал, все тута были! И что сделалося?!
– Да, – согласилась Олимпиада. – Вот именно. Что сделалось?! Садись, ужинать будем.
И тут в дверь позвонили. Обе девицы в панике уставились друг на друга.
– Кто это может быть?! – почему-то спросила Олимпиада у Люсинды. – Никого не должно быть!
– Да это небось твой приперся, – зашептала та в ответ. – Слушай, может, мне… в кладовку, а?!
И она подхватила гитару, приготовившись бежать с ней в кладовку.
– Прекрати, – сказала Олимпиада, приходя в себя.
Убийца не стал бы звонить ей в дверь, это уж точно!
Или стал бы?.. Ведь если Парамонова не убила себя сама, значит, ее убил кто-то, кому она открыла дверь! Старший лейтенант тогда сказал, что замок не был ни вскрыт, ни сломан, выходит, она сама и открыла! И еще он добавил: «Что за дела творятся в этом доме, мать его?!»
Олимпиада помедлила еще, вытерла сухие руки полотенчиком, дождалась, когда звонок грянет во второй раз, и только тогда пошла открывать.
– Прошу прощения, что без приглашения, – сказал Добровольский галантно. – Я могу войти?
– Да-да, – с несколько туманным видом отозвалась Олимпиада Владимировна. – Пожалуйста.
Она отступила от двери, и Добровольский с трудом протиснулся мимо нее в комнату, из которой выглядывала встревоженная Люсинда.
– У-уф, это вы! – воскликнула она и просияла. – А мы-то перепугались!
– Добрый вечер, – ответил Добровольский.
– Здрасти вам тоже!
И воцарилось молчание.
Добровольский молчал, потому что неожиданно обнаружил, что очень рад видеть Олимпиаду Владимировну, рад, как мальчишка, так рад, что даже вот никак не придумает, что бы такое сказать поумнее.
Олимпиада молчала, потому что вот уже несколько дней как совсем перестала надеяться, – большой срок!.. Трудно и невозможно было ответить себе на вопрос, на что именно она надеялась, но надеялась, пассы возле квартиры проделывала и на каждый телефонный звонок отвечала с неким душевным содроганием – а вдруг… он? Вдруг это он звонит?..
Люсинда молчала, потому что не понимала, почему молчат те двое, а потом вдруг поняла и стала смотреть внимательно-внимательно. Вон оно как!.. И давно это началось?.. Или еще не началось?
А вообще-то он ничего, мужчина видный, из себя приятный, заграничный опять же! Правда, староват немного, толстоват опять же, вон пузо у него!.. Ну и что, подумаешь, пузо! Совсем не такое противное, как у Ашота, к примеру, и говорит он приятно, и глаза веселые и черные-е-е!.. Люсинда раньше ни у кого не видела таких черных глаз!
– Я… взял на себя смелость принести бутылку вина, – нарушил молчание Добровольский, вынул из-за спины сверток и засмеялся над собой.
Эк тебя угораздило, право слово! Вот угораздило так угораздило! Смелость на себя взял!..
– Давайте сюда вашу бутылку, – немедленно нашлась Люсинда, – а у нас салат с этими, с крабами!.. Вы любите салат с крабами?
– Люблю, – сказал Добровольский. – С детства.
И тут они все немного расслабились.
Нога у него еще побаливала, он мужественно прихрамывал, и это тоже было смешно, как в оперетте, где бравый капитан дальнего плавания непременно появляется в последнем акте в фуражке с белым верхом и тросточкой и делает предложение матери главной героини!
Олимпиада долго изучала узкое и длинное бутылочное горлышко, чтобы только не смотреть на Добровольского, и удалилась за штопором на кухню. Через секунду он возник на пороге.
– Прошу прощения, что не позвонил.
– Ничего.
– Я был занят.
– Конечно.
Проклятый штопор никак не находился. Она так редко им пользовалась, что даже позабыла, где он лежит! Вот и приходится теперь открывать все дверцы подряд.
Добровольский смотрел на нее, на ее личико, где было написано абсолютно все, что ему хотелось прочитать, потом подошел, вынул из ящика штопор, задвинул ящик, обнял Олимпиаду и прижал к себе.
Найденный штопор он аккуратно положил на стол у нее за спиной.
Олимпиада сопротивлялась изо всех сил. Она стояла прямая, как палка, твердая, как скала, несокрушимая, как Красная армия в степях Маньчжурии, и недоступная, как настоятельница Белозерского женского монастыря.
Добровольский обнимал ее крепко и очень надежно. Ничего общего с хлипкими Олежкиными объятиями, похожими на желе, которыми Олимпиада привыкла довольствоваться.
Впрочем, Олежка возник в ее сознании на одну секунду и пропал, как и не было его.
– Замучилась? – спросил Добровольский.
Олимпиада кивнула.
– А почему не зашла ни разу?
– Как я могу?! – ужаснулась Олимпиада. – Когда ты не… то как тогда я?..
– А как я должен догадаться о том, что ты хочешь меня видеть? Я мысли читать не умею!
– Умеешь.
– Умею, – согласился Добровольский.
Не мог же он, такой умудренный и опытный, признаться в том, что ему страшно. Страшно ошибиться, страшно не угадать, попасть впросак, что особенно трудно, когда опытный и умудренный!..
Не мог же он признаться, что примерно триста или восемьсот раз разложил все в голове так и эдак, и прикинул, и оценил, и попробовал представить. И с представлением вообще вышла целая история, потому что вдруг все гормоны, какие только есть в нем, Добровольском, встали на дыбы, и помчались, и закрутились, и застучали в виски, и затмили разум!..
Не мог же он рассказать ей про свои «зароки» – не попадать в ситуации, в которых от него ничего не зависит, и не отвечать ни за кого, кроме себя!
Не мог рассказать, что уже мысленно увидел, как все будет и как она будет жить с ним в Женеве, и решил, что придется квартиру продавать и покупать домик, чтобы сад был, терраса, вид на горы и еще что-то очень глянцевое, как на фотографии. Что он уже все придумал – как они станут наезжать в Париж, где у него дела, и в Москву, где у него дела, и кем она будет работать, потому что без работы в скучной и чопорной Швейцарии от скуки можно сдохнуть!
Конечно, он все понимал и читал у нее на лице, как в книжке Михаила Морокина, которую купил по случаю в книжном магазине на Тверской. И так же, как в книжке, он ясно видел и понимал, что именно она пытается скрыть за умными словами, гримасами и ужимками, и все-таки не разрешал себе ни во что до конца поверить.
А как он мог?!
Он ничего про нее не знал, ну, или почти ничего! Он разом нарушил оба своих главных зарока, и, видимо, с этим уже ничего нельзя поделать. Он ни разу не поговорил с ней ни о чем, кроме убийств и взрывчатки.
И вообще все было донельзя шатким в этой вечной как мир схеме «девочки – мальчики», да и не могло быть никаким иным.
Он уже все знал и все-таки во всем сомневался, потому что не было вопроса и не было вслух сказанного «да», а как же без этого?! И романа никакого не было, а Добровольский был большой специалист именно по романам – с ухаживаниями, розами-мимозами, короткой поездкой на выходные в уютный отельчик в горах или на берегу моря, с легкой и ни к чему не обязывающей болтовней по телефону, которая лучше всего определяется французским «о-ла-ла!».
И еще был дед Михаил Иосифович, которого когда-то вызвали в школу за то, что он нарисовал грачей на ветке, а Олимпиада выдала шедевр за свой. И именно из-за деда Добровольский чувствовал, что отвечает за нее, словно это он нарисовал грачей, а не дед.
В сорок лет все выглядит немного не так, как в двадцать пять, и определяется быстрее, и поэтому Добровольский точно знал, что выхода у него нет, отступить он не может и, главное, не хочет. А значит, очень сильно осложняет себе жизнь, но оно того стоит, или ему хотелось верить, что стоит!..
Неприступная скала у него в руках дрогнула. Олимпиада Владимировна обняла его за шею и уткнулась носом в плечо.
– Ну что?
– Ты приятный! – объявила она и повозила носом по водолазке.
– Я рад.
Она еще повозилась, и он сверху поцеловал ее в макушку, примерился и пятерней сгреб ее волосы. Потом еще раз. Олимпиада приложилась щекой к его плечу – подставила место, где нужно чесать, как кот Василий, бывший Барсик.
Добровольский усмехнулся.
– Почему ты не говоришь, что я испортил тебе прическу?
– Какую прическу? А-а!.. А ты разве испортил?
Потом они стали целоваться и доцеловались до того, что Олимпиада совсем перестала соображать, и прижалась к нему по-настоящему сильно, и обняла его тоже по-настоящему, как будто обволокла со всех сторон, и даже застонала тихонько от радости.
Да нет же!.. Оказывается, раньше все было не так! Все было совсем не так, и вот только сейчас стало правильно, как надо, как положено, и именно так, как писали в книгах и что показывали в кино. Вот же оно, вот, вот!..
Щекам стало горячо, и затылку больно.
Прямо сейчас нужно сделать что-то еще, что-то важное, чтобы стать еще ближе, чтобы больше уже никуда и никогда не отпускать это огромное радостное болезненное чувство. Чтобы жить с ним, зная, что оно есть, рядом, стоит только дотронуться, прижаться, ощутить присутствие второго, без которого и вне которого ничего нет.
Если есть один, значит, должен быть и второй, потому что мир так устроен – парами. Оказывается, я – это не я, это только часть меня, и, может быть, не самая важная. Нет никакого «я», зато есть «мы» – я и этот человек, и я поняла это, как только увидела его на лестничной площадке, или нет, не тогда, а еще раньше, может быть, когда Михаил Иосифович рассказывал о том, что у него замечательный внук, или еще когда-то. Неважно.
Важно только, что он есть, мы есть и, значит, отныне и навсегда все будет хорошо!
Хорошо…
Тут оказалось, что целоваться больше нет никаких сил.
На первом курсе они бегали «дистанцию» – семь километров «юноши» и пять километров «девушки». Олимпиада добегала и падала, и ей казалось, что больше никогда она не сможет вздохнуть, что шевельнуться тоже не сможет, что руки и ноги больше никогда не будут ее слушаться. Сейчас она испытывала что-то похожее.
Но не целоваться тоже было невозможно, чувство потери, когда он отстранился, было таким острым и таким… физически ощутимым, что она растерялась.
Добровольский серьезно смотрел на нее.
Олимпиада пригладила волосы, просто для того, чтобы поделать что-то руками, которым без него стало пусто, взяла штопор и одну кофейную чашку.
– Не переживай, – сказал он вдруг. – Все будет хорошо.
– Ты думаешь? – спросила она жалобно.
– Я знаю.
– Откуда?
Он пожал широченными плечами, взял у нее из рук чашку и сунул обратно на полку. Глаза у него сияли.
– Знаю, и все тут. Пошли. Твоя деликатная подруга наверняка уже подозревает самое худшее.
– Да куда уж хуже! – буркнула Олимпиада.
Деликатная Люсинда бренчала на гитаре и последнюю фразу, сказанную в дверях, расслышала.
– Это точно! – радостно воскликнула она. В присутствии Добровольского и в контексте намечающихся перемен она совершенно перестала бояться Олежку и почувствовала себя уверенней. – Хуже-то некуда!
– Всегда есть, – уверил обеих девиц Добровольский и стал открывать вино. – Вот вам история про адвоката, который каждое свое выступление в суде начинал словами: «Уважаемые дамы и господа, это ужасное преступление, но могло быть гораздо хуже!» Однажды ему предстояло защищать преступника, который изнасиловал свою мать и зарезал отца, и все с нетерпением ждали, что же он скажет после своей знаменитой фразы о том, что «все могло быть хуже!».
Он мельком глянул на Олимпиаду с Люсиндой. Те слушали, и Люсинда даже бренчать перестала.
– Адвокат так начал свою речь: «Уважаемые дамы и господа! Это ужасное преступление, но могло быть гораздо хуже! Он мог изнасиловать отца и зарезать мать!»
Они переглянулись.
– Страсти какие, – сказала Люсинда задумчиво и выложила историю о том, как в станице Равнинной шабашники чуть не до смерти зарезали пьяного попика и все неделю боялись на улицу выходить и даже стали двери запирать, чего отродясь не делали.
Она быстро съела свою порцию салата из крабов, глотнула вина и потянулась к своей гитаре. Она вообще все время на нее посматривала заговорщицки, как на лучшего друга, с которым у нее есть какая-то общая приятная тайна.
– Ах да! – спохватился Добровольский. – Это очень хорошо. Я давно хотел попросить вас спеть.
– Меня?! – поразилась Люсинда. – Меня – спеть?
– Да, – сказал Добровольский. – Спойте, пожалуйста. Что-нибудь собственного сочинения, если можно.
Бедная Люсинда совершенно растерялась, даже рот разинула.
Тетя Верочка с пением гоняла ее взашей. Олимпиада говорила, что она «занимается ерундой», а этот во всех отношениях положительный мужчина вдруг попросил ее спеть?! Вот так просто взял и попросил?! Да еще собственного сочинения?!
Тут ей стало так страшно, как будто предстояло выступать в «Олимпийском» перед многотысячной толпой фанатов и поклонников.
– А может… не надо? – робко спросила она и подула на гитару, сдувая пылинки.
Добровольский был неумолим. Конечно, надо. Он давно хотел послушать, но все не удавалось, и вот наконец – такая удача! Просим, просим, или что-то в этом роде.
– Ну хорошо, – сказала Люсинда угрожающим тоном и шмыгнула носом от неловкости. – Ну ладно. Песня про… Ну, в общем, сами догадаетесь про что. Это я сама сочинила.
Она перехватила гитару, устроила ее поудобнее, занесла руку, подумала и добавила:
– Это я все сочинила, и стихи тоже.
Олимпиада отвернулась. Ей было стыдно. Она знала, какие именно стихи пишет Люсинда Окорокова. Зачем Добровольский заставляет ее позориться?! Ведь все и так яснее ясного!
Люсинда взяла аккорд, сбилась и взяла еще один. Прокашлялась и наконец заиграла и запела.
Добровольский слушал.
Олимпиада примерно со второго предложения неожиданно тоже стала слушать.
По Тимирязевскому лесу рядом с папой
Шагала смело я в зеленых теплых ботах,
И ель нахальной женственною лапой
Мой капюшон царапала в воротах.
И белки рыжие, в ладонь засунув ушки,
Над горсточкой орехов колдовали.
Была я счастлива. Мы грызли с маком сушки,
А после сладким чаем запивали.
И лес шептал, вздыхал смолистым ветром,
И улыбались встреченные нами.
И папа, помахав полями фетра,
Цветы срывал, чтоб отнести их маме!
Вот такая это песня, и Люсинда Окорокова пела ее с чувством. Олимпиада же Владимировна смотрела на нее, некрасиво вытаращив глаза и полуоткрыв рот.
– Ты что? – спросила она, когда Люсинда допела. – Придуривалась?
– Как?!
– Ты все это время придуривалась, что не умеешь по-русски говорить, какие-то небеса у тебя все дышали зарею?! Папа, помахав полями фетра! Это что такое?
Олимпиада была так грозна, что Люсинда перепугалась. Она даже не поняла, понравилась песня Липе или нет.
– Да умею я говорить! Я тебе все время толкую, что умею! А писать я еще лучше умею, мне так русичка и говорила, что я грамотная! Просто я же на рынке работаю, а там все так говорят, понимаешь?
– Нет, но небеса-то, небеса!..
– А небеса – это я ж моментально придумала, а про папу я долго придумывала, понимаешь? И за сочинения у меня всегда пятерки были, хотя русичка строгая была! Она мне говорила: «Окорокова, ты пишешь лучше, чем говоришь!»
Олимпиада покрутила головой.
– Так ты, выходит, гений?!
Люсинда, очень польщенная, пожала плечами.
Все помолчали.
– Так это… Тебе понравилося или нет?!
– Мне понравилося! – в сердцах ответила Олимпиада Владимировна. – Даже очень понравилося! А до этого мне ничего не нравилося!
– Может, ты просто не хотела слушать? – мягко спросил Добровольский.
Он допил вино, поставил бокал и посмотрел на Люсинду:
– Ну, чтобы закончить с лирической частью, я хочу предложить вам поехать со мной, чтобы вас послушал Федор Корсаков. Я договорюсь, и, если вы выберете время, мы с вами съездим.
– Какой Корсаков? – спросила Олимпиада, сильно наморщив брови. – Тот самый?!
Добровольский пожал плечами:
– Мы учились в одном классе. Теперь он музыкальный продюсер. Как это говорится?..
– Акула шоу-бизнеса, говорится, – мрачно подсказала Олимпиада. – Самый известный в этой стране.
Дзи-инь, звякнула гитара.
Люсинда Окорокова нашарила на столе французскую бутылку с длинным горлышком, поднесла ко рту и глотнула.
Бу-ульк, булькнула бутылка.
Добровольский не ожидал, что его слова произведут в массах такие разрушительные действия.
– Я ничего не обещаю, – сказал он быстро. – Ничего! Он сам будет принимать решение, но, если вы согласны, я вас ему представлю.
Люсинда поперхнулась и стала кашлять.
– Я согласна! – закричала она и опять стала кашлять. – Я согласна! А когда, когда?!
– Я позвоню, – настойчиво повторил Добровольский. – Если Федор не улетел, а он должен быть здесь, потому что мы уже созванивались, он нас примет.
Люсинда Окорокова вскочила с места, подхватила свою гитару и смачно ее поцеловала. Поцеловать Добровольского она не решалась.
– Девочка моя! – сказала она гитаре и еще раз поцеловала.
– Да ничего еще не произошло, – попытался остудить ее пыл Добровольский, но она не слушала, танцевала по комнате и кричала «ура».
– Как же не произошло? – сказала Олимпиада негромко. – Конечно, произошло. Она здесь почти шесть лет, на рынке торгует и с теткой живет, которая ее за прислугу держит. Она каждый день новую песню сочиняет. Я думала, они все про небеса, а они вон какие!.. А ты ей только что сказал, что ее послушает Корсаков! Это же сразу все меняет. Получается, что все не зря – и рынок, и тетка, и все! А ты говоришь – ничего не произошло!..
Некоторое время они смотрели на Люсинду, которая все танцевала и кружилась, а потом еще спела песню, очень плохую, и Добровольский сказал, что она плохая, но Люсинда ничуть не расстроилась.
Одна хорошая все равно есть! И Липа у нее спросила, может, она гений?!
Потом Олимпиада пошла варить кофе, и Добровольский решил, что должен спросить сейчас, потому что он за этим и пришел, – спросить и получить ответы.
– Люся, – сказал он, когда Люсинда все-таки уселась и быстро ложкой доела из миски весь салат с крабами, а потом пальцем вытерла стенки и облизала палец со всех сторон. Глаза у нее сверкали, как у кошки, и она была очень красива, просто глаз не оторвать. – Люся, я хочу задать вам вопрос, раз уж я вас здесь застал.
– М-м?
– Когда Парамонов упал с крыши, вы были на площадке между первым и вторым этажом. Что вы там делали?
Это было так неожиданно и так страшно – удар под дых, что Люсинда даже сразу не поняла, что она тоже упала с крыши, как Парамонов.
Олимпиада вышла из кухни и стала в дверях.
Люсинда пыталась быстро придумать, что бы ей такое соврать, но придумать не могла, и было совершенно понятно, что она собирается врать.
– Вы сказали, что ваша тетя смотрела телевизор, а вы вышли, потому что услышали, как Парамонов упал. Но это неправда. Я смотрел с улицы на ваши окна. У вас глухие железные ставни. Вы ничего не могли увидеть и тем более услышать. Вы были без верхней одежды, значит, на улицу не выходили.
Люсинда посмотрела на него с совершенно несчастным видом.
Олимпиада медленно подошла к ней и спросила с изумлением:
– Люська?! Ты что? С ума сошла! Отвечай немедленно!
Но ответить она не успела. В дверь позвонили.
…Жорж Данс отворил дверь и очень удивился, увидев у себя на пороге тетку с первого этажа.
– Здравствуй, милый, – ласково сказала та. – Можно мне пройти-то?
Он подумал и посторонился, пропуская ее.
Она была большая, важная, в расписном балахоне, на котором цвели заморские цветы и порхали заморские птицы.
На столе у него лежала рукопись – та самая! – и еще листочек бумаги, на котором он вел свои подсчеты.
Жорж, потеснив на пороге комнаты тетку, бросился вперед и проворно спрятал и рукопись, и бумажку в стол, задвинул ящик и повернулся к столу спиной и сложил руки на груди.
– Что вам? – сухо спросил он тетку.
Он знал, что она гадает, но позабыл, как ее зовут. Вообще он не любил, когда соседи совали нос в его дела. Кто их знает, что там у них на уме, может, они роман его хотят украсть! Пронюхали, что он должен перевернуть всю русскую литературу, и уже зарятся на его лавры и мировую славу! А может, и вовсе недоброе затевают. Жорж знал, что на гениев то и дело бывают «гонения», и был уверен, что и сам без «гонений» не обойдется, и ожидал их с мученическим смирением и кроткой улыбкой – ему представлялось, что все гении именно так себя ведут.
Но все же лучше от соседей подальше, подальше!..
– Что-то ты грязью совсем зарос, милый, – пропела тетка добрым голосом, а сама так и стреляла глазками по сторонам! Над глазами у нее были нарисованы синие облака – наверное, ей казалось, что это очень красиво, когда веки сверху закрашены синим. – А чего ж это Люсенька не приходит к тебе убираться?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?