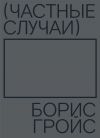Текст книги "Именем искусства. К археологии современности"

Автор книги: Тьерри де Дюв
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Все эти варианты, а также другие, непредсказуемые, ибо история не заканчивается, предоставляются вам, как только вы сами втягиваетесь в историю, которую пишете, и всякая теоретическая методология становится для вас неотделима от практической стратегии. Единственное, что они вам запрещают, так это быть, подобно вчерашнему историку искусства, простым историографом некой сущности. Они принуждают вас строить философию истории, признающую определением искусства лишь сам исторический процесс, в котором искусство отрицает себя и включает в себя свое собственное отрицание. Процесс этот не основан на сущности, его движущей силой является борьба. Он ни в коем случае не складывается в достояние, он проецирует наследие прошлого в будущее, чтобы его оспорить. Называя этот процесс искусством, мы, несогласные и конфликтующие друг с другом, просто экстраполируем некий неопределенный габитус и заведомо присягаем идее примирившегося человечества, пусть и расходясь по поводу того, каким оно будет. Впрочем, никто не знает, наступит ли консенсус[17]17
Разумеется, этот фоторобот «историка авангарда» суммирует гораздо более сложную картину. Собственно говоря, ему в наибольшей степени соответствуют художественные критики, работающие с еще не остывшей историей, которая разворачивается вокруг них и написанию которой они способствуют. Так, например, в 1913 г., когда громко заявляют о себе «исторические авангарды», мы находим на противоположных полюсах защитника истеблишмента Рояля Кортиссо и формалистического пропагандиста нового искусства Роджера Фрая; или сегодня, в эпоху нео-, пост– и трансавангарда, с одной стороны есть неоконсервативный теоретик Хилтон Крамер, а с другой – критик-постадорнианец Доналд Каспит. Однако история авангардов чаще всего писалась историками искусства, для которых авангард – это все-таки стиль, а современное искусство – достояние. Даже марксистские историки, которые не обязательно пишут о современности, но, по крайней мере, лучше других знают о том, что сами вовлечены в современные конфликты, не избегают стилистической модели. Таков случай Арнольда Хаузера, Фредерика Анталя, Никоса Хаджиниколау, хотя у последнего вместо понятия стиля используется другое – «визуальная идеология». Лишь обратившись к историкам искусства с философским уклоном, иногда просто к философам и всегда – к теоретикам, мы найдем особую форму написания истории, которая может принимать или отвергать авангард, но которая всегда преисполнена упования или глубокой тревоги, или их обоих одновременно, по отношению к будущему искусства и его возможному исчезновению. К примеру, в начале 1930‑х годов, когда «исторические авангарды» теряют свой созидательный заряд, мы встречаем справа Ортегу-и-Гассета, а слева – Герберта Рида. Один выступает против формалистического, «дегуманизирующего» авангарда, исходя из эстетизирующих и элитистских предпосылок, другой приписывает авангарду революционную силу, с помощью которой надеется разрешить свое личное противоречие «буржуазного» эстетика, увлеченного троцкизмом. Впрочем, необходимость выбора политической позиции сторонника или противника авангарда, вызванная отходом от понятия искусства как исторического инварианта и осознанием вовлеченности историка в историю, не обязательно приводит к расколу на консерваторов и прогрессистов. Один из наиболее интересных и плодотворных среди таких расколов, дискуссия Лукача и Адорно, произошел внутри левого фланга и даже ýже, в пределах гегельяно-марксизма. Одно и то же осознание отчуждения современного искусства привело Лукача к выбору реализма, Адорно же – к выбору авангарда. И наконец, сегодняшняя культурная ситуация, сложившаяся на фоне неудачи «исторических авангардов» в попытке упразднить понятие искусства в революционном обществе или радикально изменить его значение, наводит на размышления о том, возможна ли позиция историка авангарда без жестоких внутренних борений или решительного отказа от своих собственных оценочных суждений у тех, кто на нее претендует. Ведь хотя авангарды стали историческим объектом класса «искусство», понятие авангарда по-прежнему воплощает смысл истории, согласно которому искусство есть диалектический процесс своего собственного деклассирования. Эти борения и отказы хорошо видны как у авторов, которые, как Тимоти Дж. Кларк, кропотливо воссоздают феномен авангарда во всей его исторической полноте, прежде чем переходить к его теории, так и у тех, кто, как Петер Бюргер, стремится разрешить проблему корректной теоретизации авангарда, прежде чем связывать с ним исторические факты.
[Закрыть].
2.3. Как историк искусства, размышляющий о своей деятельности, не мог не оказаться рано или поздно перед вопросом о происхождении искусства, так и вы, историк авангарда, не сможете обойти вопрос о смысле истории. На самом деле вы поставили его, еще становясь историком. И ответили на него в виде пари, каковым и является ваша вовлеченность. Оптимистический или же пессимистический спорщик, вы поставили на прогресс или на упадок: так или иначе, вы ввели свои исторические интерпретации в игру. Их истинность или ложность ждут подтверждения от будущего и не повинуются логике. Иными словами, в становлении авангардов искусством для вас важен смысл слова «искусство», а не степень его истинности. Вы не так уж далеки от того философа-логика, которым недавно были. Как и он, вы говорите: искусство есть все то, что называется искусством. Как и он, вы заключаете из этого, что слово «искусство» есть общее имя всего того, что называется искусством. Но эти высказывания уже не являются логическими теоремами, ибо вы прибавляете к ним указание на субъекта высказывания, воображаемого, но необходимого: что называется искусством нами. И вопрос, поднимавшийся логиком, существенно меняется. Логик спрашивал о том, чтó общего между всеми вещами, которые люди называют искусством; вы же спрашиваете о том, чтó общее между нами позволяет нам соглашаться и называть искусством одни и те же вещи – либо в силу действительного согласия, либо в силу необходимости того, чтобы согласие однажды состоялось, для того чтобы нас охватило такое желание, для того чтобы такая мечта была мыслимой. Зародыш ответа напра шивается сразу же: мы все обладаем способностью к языку, к коммуникации вместе со всей ее свитой несообщаемого, словом – к знакам. Более того, эта общая способность является также нашей общей фатальностью: мы погружены в язык так же, как в общество или историю, язык предшествует нам и конституирует нас во всем вплоть до бессознательного. Произведения искусства имеют то общее, что мы вложили в них от нашей общей необходимости производить знаки, которые, в ответ, производят нас.
Говоря это, вы оказываетесь семиологом. Слово «искусство» – не предикат всех вещей, которые мы называем искусством, не понятие, а не что иное, как знак, и именно как знак оно функционирует на месте консенсуса. Оно заменяет собою и обозначает консенсус, оно – метафора согласия между людьми, причем одна из самых стойких таких метафор, созданных человечеством. Каждая из вещей, называемых этим знаком, тоже, в свою очередь, состоит из знаков: из метонимий этой метафоры, жаждущей проверить себя. Но поскольку произведения искусства, равно как и само слово «искусство», обречены быть знаками, всеобщее согласие, которого требует искусство, тоже обречено оставаться в пределах метафоры как желанный и недостижимый объект, как знак, беспрерывно перемещающийся в потоке знаков. Для вас, семиолога, знаки обладают собственной жизнью, причем художественные знаки еще в большей степени, чем знаки обычного обмена. Они образуют систему, однако эта система не ограничена и превышает возможности людей, которые, думая, будто пользуются или играют знаками, в действительности сами являются предметом их игры. Когда отправители и получатели обмениваются чередой знаков, они не могут помешать им говорить слишком много или слишком мало, запретить их фоническому или графическому веществу вызывать непредвиденные резонансы, отсылающие к другим знакам, или намекать на исчезновение подразумеваемой ими реальности. Консенсус, который вы на сей раз называете успешной коммуникацией, оказывается уже не загадкой, как для социолога, но просто-напросто исключением, единичной удачей, когда сообщение имеет исключительно резкую форму, кодировка исключительно строга или канал передачи исключительно чист. Тогда как правилом в этой области является полисемия, двусмысленность, шум, рассеяние. То есть – искусство, поэтический язык, текст без автора и адресата, ибо он числит среди своих производителей каждого читателя. Таким образом, искусство, все то, что с помощью нарицательного – и удобного – имени мы называем искусством, – это беспредельный «гул языка», сопровождаемый, поддерживаемый даже в его безумии, анализируемый в его бушевании и распылении, а затем катализируемый во имя невозможного консенсуса, который он обозначает и обещает.
Кроме того, для вас есть два рода искусства, поскольку есть два рода консенсуса. Первый, считаемый вами не заслуживающим интереса, объединяет в себе совокупность неоспоримых шедевров прошлого и ходовое потребительское искусство. Этот консенсус – по большому счету, не что иное, как габитус или привычка. Именно ему уделяет избыточное внимание историк искусства, принимающий его за некую данность, и его же всеми силами разоблачает социолог, усматривающий в нем маску господствующей идеологии. Вам же единственно достойными звания искусства кажутся спорные произведения, в числе которых вполне могут быть и шедевры прошлого, когда они подвергаются новому прочтению и обнаруживают способность возобновить конфликт. Но в этом случае даже шедевры вы называете авангардными. Таким образом, для вас, семиолога, имя искусства метафорически подразумевает то же самое противоречивое и конфликтное становление-искусством, на которое делал ставку историк авангарда, ваша предыдущая ипостась. Однако если он заключал пари, то вы интерпретируете. Когда в отношении авангардного произведения имеет место консенсус, он основывается на том, что для привлечения, провоцирования имени искусства необходимы разногласия; когда консенсус не имеет места, все же нужно, чтобы он был, так как разногласия необходимы, чтобы засвидетельствовать, что консенсус желаем и желателен как невозможный. Перед вами стоит задача интерпретировать вот что: тождество противоположностей, в силу которой искусство и неискусство образуют неразделимую пару. Вы затрудняетесь сделать это в рамках науки, поскольку наука не терпит противоречия и ее редукционизм кажется вам слишком обедняющим, чтобы охватить изобилие знаков. Интерпретировать тождество противоположностей – это значит, скорее уж, воссоздать его в текстуальной практике, чье многообразие сопоставимо с многообразием искусства, которое вы комментируете и с которым надеетесь достичь теоретически эффективного изоморфизма. Такого рода рассчитанное, стратегическое смешение практики и теории неумолимо приводит вас к одной из нескольких художественных доктрин.
Так как вы семиолог, художественные знаки имеют все шансы явиться вам поочередно в трех аспектах – означаемого, означающего и референта. Если вы отдаете первенство означаемому, ваша доктрина – символизм. Поскольку смысл искусства может быть лишь невозможным консенсусом в отношении его имени, вы становитесь свидетелем и защитником искусства для искусства. И поскольку консенсус невозможен и должен таковым оставаться, вы взываете к искусству против искусства. С декадентской меланхоличностью или дадаистским энтузиазмом вы без колебаний наделяете разрушение или уничтожение искусства смыслом антиискусства. Если же вы отдаете первенство означающему, то ваша доктрина – формализм. В кодировании и декодировании, в конструкции и деконструкции, в отказе от установленных конвенций и в изобретении новых конвенций вы ищете принцип «значимой формы». И находите его очищенным, как нельзя яснее обнаруживающим свою критическую и самокритичную силу, в среде бесформенного и антиформального, где синтаксическая значимость усиливается семантической незначимостью. И наконец, если вы благоволите референту, тогда ваша доктрина – реализм. Причем реализм этот основывается на подозрении в нереальности, которым знаки, поскольку они – знаки, окрашивают свой референт. Реальное изгнано из искусства, а оставшееся – сюрреалистический фантазм или гиперреалистическая обманка – есть самоубийство искусства в цитировании или пародии. Но к какому бы полюсу ни склонялась ваша доктрина, вы все равно оказываетесь приверженцем идеала автономии, тем менее самодостаточного оттого, что он с необходимостью требует своей противоположности. В случае означаемого это самоэкзальтация смысла искусства, непременно подразумевающая насмешку; в случае означающего это самоучреждение формальных конвенций искусства, непременно подразумевающее демонтаж; в случае референта это автореферентность посыла искусства, непременно подразумевающая предательство. Когда автономия искусства не самодостаточна, когда она включает в себя гетерономию, его идентичность раскалывается в практике, которая волей-нево лей порывает с общезначимым смыслом и поляризует голоса большинства. Консенсус в отношении авангарда всегда миноритарен, в противном случае авангард не был бы авангардом. Он всегда принудителен, так как предполагает усилие. Он всегда отчуждается и отчуждает. Это всегда консенсус с опережением, когда он желаем, и всегда преждевременный консенсус, когда он складывается. Это означает, что, когда другое имя искусства звучит «авангард», этот знак всегда и неумолимо загнан в угол двойной необходимости – своего предназначения быть символом невозможного консенсуса и своей обреченности быть симптомом неизбежных разногласий. Таким образом, чтобы люди однажды пришли к согласию, нужно ежедневно напоминать о конститутивном ляпсусе, на котором основано это недоразумение[18]18
Под наименованием «семиологи» каждый волен узнать своих персонажей. Всюду, от двух Соссюров (Соссюра «Курса» и Соссюра «Анаграмм») до Жерара Женетта, от русских формалистов до участников «Tel Quel», имел место общий процесс: в непременном сговоре между теорией, стремившейся к научности, и литературной практикой, стремившейся к авангарду, розыск художественного бытия сместился от искусства как области, или данности, к искусству как процессу или порождению – причем не перестав быть онтологическим розыском. Именно об этом свидетельствуют такие понятия, как письмо, текст, текстуальность или живописность, когда ими заменяются понятия литературы или живописи. Но семиотическое бытие текста должно, в онтологическом смысле, открывать себя, чтобы быть. Темы пара-докса (Барт), означания (Кристева), различая (Деррида) неизменно сопряжены с не-наличием истории как таковой и с подозрением в отношении консенсуса по поводу знаков, постоянства означаемых, конечности означающих и реальности референтов. Именно из-за этого, скорее чем из-за политических солидаризаций, впоследствии сочтенных сковывающими, французская семиология – или семио тика, или семоанализ, – вопреки всем своим «научным» начинаниям очень быстро оказалась либо на решительно литературной территории, либо на территории идеологии – к тому же скорее в гегелевском, чем в марксистском или альтюссерианском смысле.
[Закрыть].
2.4. Приобретя более чем скептический настрой после знакомства с вовлеченной социологией, авангардно ориентированной историей и диссеминационной семиологией, вы уже не доверяете консенсусу как лучшему кандидату на роль модели для ваших теорий. Вы ссылаетесь на невозможный консенсус, вы ищете провокации, вы подозреваете конфликт. И ставите всех нас, называющих искусством то, что мы называем искусством, перед свершившимся фактом, демонстрируя тот самый упоминавшийся ранее писсуар. Вот оно – воплощенное доказательство противоречивой идентичности искусства и неискусства. Будучи представлен, под своим псевдонимом, в нью-йоркский «Салон Независимых» 1917 года, он подорвал априорный консенсус организаторов экспозиции. Он вскрыл у этих организаторов, в числе которых был и Дюшан, всю неоднородность эстетических габитусов, которым повиновалось их мнение. Он был своего рода насилием, которое обнаружило диалектический закон авангарда, поместив в предвосхищенное будущее ретроспективную санкцию, которая должна была включить его в ранг достояния. Ибо он уже сейчас, для всех нас, имеет этот ранг, но имеет его в качестве постоянного скандала. Радикальнее любого другого авангардного произведения он свидетельствует, что антиискусство есть абсолютный смысл и подлинное значение искусства для искусства, что грубый отказ от всех формальных конвенций искусства имеет следствием абсолютный пуризм означающей формы, что реальное – это отбросы, единственное, что оставляет по себе абсолютная автореферентность искусства об искусстве. Писсуар делает все это явным, он – манифест всего этого. Ибо пусть он хранится в музее, пусть он считается достоянием, все равно, думаете вы, у одних он вызывает предчувствие счастливого дня, когда искусство наконец рухнет со своего пьедестала и будет принадлежать всем, у других – презрение и ужас перед тем днем, когда искусством будет все и ничто уже им не будет, и у всех нас, у общества немыслимого или невозможного консенсуса, – разногласия, с которыми мы трудимся во имя наступления дня славы или бесчестия. Короче говоря, реди-мейд предоставляет тревожное подтверждение отчуждения искусства – окончательное для тех, кто усматривает в нем свидетельство упадка, временное для тех, кто угадывает в нем предвестия обновления, и необходимое для тех, кому их способность отрицать обещает скорую эмансипацию.
Если, когда вы дошли до этой ступени, вас еще не разуверили в практической ценности ваших теорий овеществленная негативность этого писсуара – редимейда и почти народный успех антиискусства, несостоятельность значительной части искусства, явившегося за ним, и бессилие художественных практик, не способных поддерживать негодование в обществе, слишком либеральном, но слишком несвободном, слишком заботящемся о подавлении раздоров за плюрализмом и с чрезмерной осторожностью прикрывающем примирение с бескультурьем мишурой разногласий, то дело, несомненно, в том, что вы приняли решение укрыться на Марсе. Или вы были там с самого начала, вместе с философами злорадства и историками упадка, любящими взирать издалека на сожжение Рима. Или вы сидели на чемоданах вместе с утопистами современности, и новости из объятой огнем метрополии не достигали вашего слуха. Или, наконец, вы просто не хотите видеть того, что основная часть армии так и не последовала за авангардом, что двигатель противоречия изношен, что грань между творческим отрицанием и нигилизмом пройдена, что невозможный консенсус вокруг антиискусства состоялся-таки – из безразличия, – и что остае тся только ждать, пока однажды захватившее вас подозрение истребит все ваши надежды до последней. Если же вы, напротив, уже достаточно разочаровались в искусстве, если впечатление тщетности антиискусства заставило вас вспомнить, что Дюшан характеризовал иронию редимейда как «иронию утверждения», то, возможно, вы сами доведете свое подозрение до предела и увидите, что, встав под знамена авангарда, совершили не практическую, а теоретическую ошибку. Тогда, возможно, негативность покажется вам неверным понятием, так как она всегда приводит утверждение к двойному отрицанию и не оставляет ему никаких прав. Возможно, даже понятие отчуждения, социальная реальность которого неоспорима, покажется вам незаконным – опять-таки в том, что оно проверяется своим отрицанием. Ведь, в конце концов, вы сами рискуете отчуждением от своей социальной ответственности, когда, как вовлеченный социолог, разоблачаете иллюзию консенсуса; вы сами рискуете нарушить свой долг свободы, когда, как историк авангарда, провозглашаете неотвратимым смысл описываемой вами истории; вы сами рискуете отойти от своего обязательства говорить правду, когда, как семиолог-художник, умышленно смешиваете означающую практику и теорию означивания. Разочарования в догадках, которые заставили вас оставить иллюзии внеположности, метаязыка и незаинтересованности, несомненно приносят солидные интеллектуальные барыши, но эти барыши вводят нас в заблуждение. Ваша заинтересованность, ваше внимание ко всеобщему согласию, а особенно, к несогласию, исходя из которых мы говорим об искусстве, привели вас, хотели вы этого или нет, к речи от нашего общего имени. Это мы – заблуждение и а либи. И все надо начать с начала.
3.1. Теперь вы никто, не специализируетесь ни в какой области. Вы уже не специалист, вы – это вы сами, без какой-либо квалификации, обыкновенный любитель. Вы – господин или госпожа Все, ибо кто угодно и все на свете любят искусство – немного, очень даже или страстно. Собственно говоря, вы – влюбленный. Точно так же как, чтобы влюбиться в женщину, не требуется теория женщины, чтобы любить искусство, не нужна теория искусства. Точно так же как не влюбляются в Женщину (или Мужчину) вообще, не влюбляются и в искусство вообще. Даже Дон Жуан, ищущий Женщину, любит не больше одной женщины одновременно. Вы влюблены в такие-то произведения, не в одно, разумеется, но и не во все. Подобно любовным предпочтениям, ваши предпочтения в искусстве свободны и в то же время принудительны. Вас привлекает нечто неодолимое – вы не всегда знаете, чтó, но знаете, что это привлекает вас, ибо чувствуете влечение. Ваше знание исчерпывается вашей уверенностью, а ваша уверенность исчерпывается вашим чувством. Для вас оно неопровержимо и содержит свое подтверждение в себе. Окружающие, ваш психоаналитик, если он у вас есть, да и вы сами можете подвергать это чувство бесконечному сомнению, социальный порядок может подавлять его и пресекать его выражение, – все это сделает лишь более воодушевленной или мучительной его проверку, но нисколько не уменьшит его подлинность. В искусстве, как и в любви, ваши чувства определяются предшествующим опытом, опосредуются семейными отношениями, обусловливаются классовой принадлежностью, образованием или даже наследственностью. Несомненно, вы любите в пределах своих социальных возможностей и объективно предоставленных вам культурных шансов, но это не мешает вам любить. Ваш вкус – это эстетический габитус, но он ваш, и к тому же как раз потому, что вы чувствуете его своим, он и является габитусом, а не игрой неких внешних вам сил. Вы укоренили в себе приобретенные социально диспозиции, которыми определяется любовь к искусству, оставили их такими, какие они есть, или подвергли культивации, но так или иначе они конституируют вас на столь же глубоком уровне, как и все остальные аспекты вашей личности.
Если теперь кто-нибудь попросит вас дать определение искусству, то вы ответите ему исходя из вашего вкуса и ваших личных чувств. Указав на свои любимые произведения, вы скажете: искусство – это вот это, вот это и еще вот это. У вас спрашивают определения, но, ориентируясь только на собственные чувства, вы не считаете себя вправе обобщать и вместо теории приводите примеры. Каждому из этих примеров, одному за другим, вы даете звание искусства. Фраза «искусство – это вот это», или «это – искусство», является выражением вашего суждения. Иногда она преподносится как квазиопределение – в некотором смысле эмпирическое, так как оно основано на чувственном опыте, но, точнее говоря, эстетическое, коль скоро «эстетическое» обозначает «основанное на чувственном, а не на когнитивном опыте». Давая звание искусства примерам своего вкуса, вы совершаете эстетическое суждение. Несомненно, чаще всего, как это происходит в случае бесспорных шедевров, вы всего лишь повторяете давным-давно сделанное наименование или суждение. Ваш личный габитус подтверждает более или менее единодушный консенсус. Но время от времени вы называете искусством нечто неожиданное для ваших собеседников – или отказываетесь считать искусством нечто само собой разумеющееся. Возможно, что, подкрепляя одно другим, вы просто стремитесь выказать оригинальность или дерзость и, уклоняясь от доминирующего габитуса – хорошего или плохого вкуса – в сторону эклектизма, маньеризма или авангардизма, пытаетесь лишь упрочить основания своей причастности к этому доминирующему габитусу. Так, отличием человека со вкусом считается, вне зависимости от хорошего и плохого вкуса, то, что отличает его от общего мнения. Но может быть и так, что, повинуясь сложным и противоречивым чувствам, как бывает в любви, вы называете искусством нечто неожиданное против своей воли, насильно. Слово «искусство» диктуется вам объективированной силой тех чувств, которые вами помыкают и, как подсказывает вам некая мгновенная рефлексивность, ставят под угрозу ваш вкус, ваш габитус и эстетические привычки. В этом случае то неожиданное, что вы называете искусством, действительно неожиданно для общего мнения, но не для общего мнения как мнения других – массы людей, от которых вы отличаетесь, – или как нашего мнения – мнения класса отличающихся людей, у которых есть свой консенсус, – а для общего мнения как вашего, лично вашего мнения, поскольку, принадлежа к классу, каким бы этот класс ни был, вы усвоили в рамках своего вкуса квалифицирующую вас классификацию.
Такое суждение, порожденное разноголосицей, конфликтом ваших чувств, уже не может быть суждением вкуса, пусть даже и оставаясь эстетическим суждением. Так же как чувство любви то окрыляет, то тяготит, то доставляет радость, то погружает в беспокойство; так же как оно допускает и страсть, и нежность, и неукротимый сексуальный порыв, и заботливое товарищество, и абсолютное поклонение, и верную дружбу, и слепую фиксацию на соблазнительном объекте, и духовное сродство, сочувствие; так же как оно ненасытно домогается обладания или целомудренно забывает о себе, копит в себе нестерпимую ревность или внезапно оборачивается ненавистью, – одним словом, как любовь соткана из мучения и наслаждения, так и любовь к искусству питается чувственным изобилием многоликой толпы, а не угодной понятию вкуса и несколько упрощенной альтернативой удовольствия и страдания. Смеси удовольствия и страдания, или чередования ужаса и наслаждения – чувств или, скорее, неопределенных эмоций, в которых Кант и Берк усматривали признак возвышенного, – просто мало, чтобы охватить достаточно общим именем конфликтное многообразие чувств, которые составляют любовь к искусству и, несомненно, совпадают со всей палитрой человеческих чувств. Разумеется, среди них есть и возвышенное переживание, и чувство прекрасного, называемое вкусом. Но наряду с ними есть и внезапная смена вкуса отвращением, и кратчайший переход от возвышенного к смешному. Для обозначения причины или, вернее, повода к этой мобилизации несовместимых чувств одним словом – то есть одним знаком – и подходит слово «искусство». Причем подходит именно потому, что не подходит: ведь если имя такому сочетанию – любовь, то это должна быть любовь, отвергающая приличия и уж ни в коем случае не подобающая. Семиолог был прав, когда усматривал в слове «искусство» негативный знак успешной – или успешной как раз в меру своих упущений – коммуникации; историк авангарда был прав, когда принимал слово «искусство» исключительно в связи с провокационностью антиискусства или бессилием неискусства; социолог был прав, когда относил слово «искусство» лишь к практике, расстраивающей – или обнаруживающей уже расстроенным – консенсус, которого тем не менее требует постулат «социального». И вы сами, простой любитель, называя этим словом нечто неожиданное, увлекающее ваши чувства за рамки всяких приличий, даете свое согласие на это увлечение, миритесь с противоречивостью владеющих вами чувств и, посредством рефлексии, называете искусством объект, вызывающий в вас чувство внутреннего раскола.
Хотя ваши чувства принадлежат вам, хотя они доказываются тем, что испытываются, они никогда не бывают собственно вашими. Они суть усвоенные культурные ценности, и вероятность того, что вы их испытаете – а также что испытаете их скорее в связи с одним, чем с другим, – зависит, вне всякого сомнения, от вашей культуры. Ее широта – вот что позволяет вам, в той или иной мере удаляясь от ценностей своей группы, распознавать конфликт ценностей, оспаривающих друг у друга культурное поле, – конфликт, который социолог называл конкуренцией габитусов, историк авангарда – неизбывным противоречием искусства и антиискусства, а семиолог – диссеминацией знаков. Однако одно дело – распознавать конфликтующие ценности, а другое дело – их испытывать. Образованность и восприимчивость – совсем не одно и то же. Быть восприимчивым к искусству означает переживать конфликт культурных ценностей как борьбу чувств. Такая способность отнюдь не поднимает вас над схваткой, а погружает в нее – в противоположность эстетической беспристрастности или отстраненности, но и в отличие от нюха денди или сноба, рефлекторно выискивающего в конфликте ценностей те, что шокируют и выдаются из ряда вон. Рефлексивность ваших противоречивых чувств – это не рефлекс, это то, что концентрирует их противоречивость в чувстве внутреннего раздора. Называя искусством нечто неожиданное, вы принимаете рефлексивное чувство разлада, то есть, в конечном счете, сосуществование – не мирное, но враждующее сосуществование – культурных ценностей, которые вы способны испытывать. Вы соглашаетесь с явственным отсутствием консенсуса в отношении этой вещи, которая неожиданна для других именно потому, что поразительна для вас, и поразительна для вас именно потому, что отвергаема всеми, – и стремитесь открыть ее другим.
3.2. Число поразительных вещей, которые вы любите, растет, и контроверза ваших чувств обостряется. Возможно ли любить, не противореча себе, Вагнера и Моцарта, Рубенса и Мондриана или, в предельном случае, Лени Рифеншталь и Джона Хартфильда? Вопрос о единстве, об идентичности искусства, который логик поднимал в терминах общих особенностей объектов, а семиолог – в терминах общей принадлежности языков, теперь поднимается уже не на уровне общности или совместимости, но на уровне переходов от одного чувства к другому. Эстетическое суждение, которое ничего не объединяет, тем не менее осуществляет эти переходы. Ваш личный пантеон в той или иной степени заселен, ваша идеальная библиотека более или менее обширна, ваш воображаемый музей более или менее богат, но и то, и другое, и третье – это поле боя, Вавилонская башня, борхесовский хаос, где вы постоянно переходите из лагеря в лагерь, с языка на язык, от формы к форме. Каждая из имеющихся там вещей – пример того, что для вас является искусством, каждая годится для чисто указательного определения: это – искусство. Естественно, эта фраза – не более чем квазиопределение, не поддающееся обобщению. Но она претендует на обобщение: она осуществляет переход, она – индекс, позволяющий званию искусства переходить внутри вашего собрания с одного произведения на другое. К тому же что такое обобщение, если не накопление примеров и выработка формулы, на первый взгляд кругообразной, как это было у этнолога и социолога, но в действительности рефлексивной. Вы уже не говорите: искусство – это все то, что люди называют искусством, или же все то, что мы называем искусством. Вы говорите, вы подразумеваете, другое: искусство – это все то, что я называю искусством. Вы не основываетесь на корпусе, который вы собрали, но в формировании которого не участвовали, вы не предполагаете консенсус, о невозможности или иллюзорности которого сами в то же время догадываетесь: вы просто предъявляете свою коллекцию, реальную или воображаемую.
Предъявляя в качестве искусства все, что вы собрали, вы уже не являетесь обыкновенным любителем. Вы объявляете, отстаиваете, открыто исповедуете и стремитесь внушить другим свои пристрастия. И если вы решаетесь вынести на всеобщий суд под именем искусства свои сомнения, свою неуверенность, свои вкусовые промахи, даже свое отвращение и весь хаос чувств, вызываемых культурными продуктами, которые вы считаете поразительными, то вы с полным правом, без всякой игры слов, становитесь профессиональным любителем – художественным критиком. Художественный критик в широком смысле термина – хроникер, специализированный журналист, преподаватель, но также и музейный хранитель, куратор или коллекционер – то есть всякий, кто оглашает свои эстетические суждения, есть человек, осуществляющий критическое наблюдение не над корпусом объектов и не над консенсусом читателей, но над коллекцией вещей, которые вызывают у него впечатление родства с искусством. На основании этих вещей он судит, и по ним же будут судить о нем. Короче говоря, художественный критик – это человек, который превращает любительство в профессию. Вместе с профессиональным статусом к нему, разумеется, приходит власть, трибуна, авторитет наставника на кафедре или в прессе, функция реальной или подразумеваемой экспертизы, иногда харизма, а также возможности оказывать влияние на публику и даже манипулировать рынком. Но критик творит себя не властью, а своей репутацией, и, объявляя свое мнение, обязывает себя. Публикуя свои суждения, художественный критик предлагает судить о себе по их качеству и неизбежно вверяется приговору будущего.
3.3. То, что культуру делает ценной суд истории, – слова громкие, но справедливые. Именно потому, что история – это суд, причем суд, который заседает постоянно, – создаются одни культурные ценности и упраздняются другие. Историк авангарда не ошибался, когда определял конфликтную ценность, именуемую искусством, как процесс. Только это слово следует толковать скорее как процедуру, чем как протекание. Далее, именно потому, что история – это суд, культурные ценности сохраняются, несмотря на смену поколений, уже не живущих сообразно им. Историк искусства тоже не ошибался, когда определял накопленные ценности, именуемые искусством, как достояние. Но в этом слове следует подчеркнуть оттенок юриспруденции, а не наследия. Юриспруденцией называют юридическую память, куда заносятся решения, принятые в прошлом по случаям, подобным тем, которые возникают сейчас и все многообразие которых тексту закона просто не под силу предусмотреть. Судьи должны обращаться к юриспруденции, однако они свободны в том, чтобы расходиться с нею. Чем ближе юридическая система к обычному праву и чем меньше в ней значение писаного закона, тем важнее роль юриспруденции. История искусства и особенно история авангарда, то есть история современного искусства, весьма напоминает подобную юридическую систему. Художественная культура транслирует искусство, так же как юриспруденция транслирует, решая их по-новому, судебные решения. Ни одно из вновь вынесенных решений, составляющих юриспруденцию, не является определяющим для будущих решений, и ни одно из таковых не определялось полностью решениями, которые ему предшествовали. Нет ни окончательного суждения, ни самого первого суждения, нет ни исторической детерминации «в последней инстанции», ни суда первой инстанции. Суд истории – это вечный апелляционный суд. Первый читатель книги, первый слушатель концерта или первый зритель картины уже судят о суждении художника, а тот, бросая вызов своей провокацией, уже судил сообразно или вопреки предубеждениям своего времени.
Вы были художественным критиком и, пересуживая, стали историком. По сути дела, вы – несколько медлительный, запаздывающий критик, который судит о событии, уже отдалившемся от него во времени. Возможно, вы просто не так уверены в своих суждениях, как первооткрыватель талантов, работающий в пекле истории, и, дабы судить, вам требуется уже скопившаяся судебная практика. Но между вашей практикой историка и практикой критика-хроникера нет никакого отличия по природе и никакого скачка. Вы пишете историю, с некоторого отдаления критикуя искусство. Так же как недавний историк искусства, вы получаете в наследство достояние – точнее, юриспруденцию. Так же как историк авангарда, вы занимаете свою позицию в борьбе – точнее, в процессе. Так же как для историка искусства, искусство является для вас некоей данностью, областью. Так же как для историка авангарда, оно является для вас конфликтом и ставкой. Однако вы с большей ясностью, чем большинство историков искусства, обозначаете и принимаете на себя вашу ответственность судьи. Возможно, это сказывается лишь в некотором оттенке стиля, но этим оттенком вы не позволяете читателю думать, будто история сама повествуется вашими устами или пишется вашим пером: и это не просто угрызение совести или сожаление вроде тех, с которыми некоторые, наиболее честные, историки искусства признают «субъективность» своего выбора и комментариев. Это метод, это деонтология, основанная на вашем знании о том, что, принимая в свой дискурс то или иное произведение, вы принимаете вместе с ним некое «это – искусство», являющееся данностью, но тем не менее не являющееся истиной. Это суждение, которое некогда вошло в юриспруденцию и которое вы вольны отвергнуть при условии, что понимаете и не скрываете от своих читателей то, что оно, это суждение, было вынесено. Юриспруденция не имеет силы закона, но она довлеет; она – не критерий, который, однажды сыграв свою роль, избавляет вас от нового суда, а не более чем идея, которая, имеясь в наличии, направляет ваше мнение, исходя из которого вы судите, или расходится с ним.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?