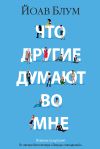Текст книги "Теория Блума"

Автор книги: Тиккун
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Самый несносный гость
Поскольку Блум – это отсутствие каких-либо субстанциальных установок, то в человеке он – самый несносный гость, превратившийся из обычного компаньона в хозяина дома. Пусть трусы прячутся за привычными увёртками: никто не может вот так запросто убрать его под предлогом того, что его безликий силуэт заводит нас слишком далеко, к самому эпицентру катастрофы, ВЕДЬ КАТАСТРОФА – ЭТО ВЫХОД ИЗ КАТАСТРОФЫ. Конечно, Блум – ничто, без Публичности, а значит, и без истины, но это ничто таит в себе чистую силу бытия: и тот факт, что он не в состоянии проявить себя таким образом в рамках Спектакля, никак не отражается на публичной истолкованности[6]6
Термин М. Хайдеггера из работы «Бытие и время».
[Закрыть], основательно переполненной тем, что в каждом человеке нельзя свести к совокупности внешних признаков. Блум воплощает в себе разверзшуюся пропасть, и лишь от одного дерзкого движения зависит, станет ли он тем, на ком всё закончится, или тем, с кого всё начнётся. Но уже сейчас появляется всё больше примет, наводящих на мысль о том, что первый человек – дитя последнего. Весь отчуждённый социум полностью лишил Блума индивидуального наполнения и тем самым заставил его воспринимать собственное «я» так, словно это некий предмет одежды, ни на секунду не позволяя ему забыть о том, что он существует не сам по себе, а как внешний объект, похожий на него лишь снаружи. Как бы ни пытался он купить себе субстанциальность, она всё равно остаётся чем-то несущественным и незначительным, учитывая господствующий вид раскрытия потаённого[7]7
Вид раскрытия потаённого – термин М. Хайдеггера из работы «Вопрос о технике».
[Закрыть]. А значит, Блум определяет новую и безвременную наготу, наготу подлинно человеческую, которая скрывается за каждым качеством и при этом его содержит, которая предшествует любой форме и обусловливает её возможность. Блум – это завуалированное ничто. Вот почему было бы нелепо праздновать его появление в истории как рождение особого типа человека: человек без свойств – это не свойство человека, а наоборот, человек как таковой. Отсутствие идентичности, отвлечённость от сколько-нибудь существенной среды, неимение «природной» устремлённости – всё это не только не включает его в какую-то специфическую категорию, но и характеризует его как воплощение обезличенной человеческой сущности, которая как раз-таки представляет собой утрату сущности, чистую уязвимость и чистую доступность. Субъект без субъективности, личность без личного, индивид без индивидуальности – Блум одним касанием вдребезги разбивает все застарелые химеры традиционной метафизики, все заржавевшие побрякушки трансцендентального «я» и синтетического единства апперцепции[8]8
Единство апперцепции – термин И. Канта из работы «Критика чистого разума».
[Закрыть]. Кто бы что ни говорил о том странном госте, который в нас живёт и которым мы не можем не быть, это посягательство на само Бытие. Тут-то всё и исчезает.
Блум и (есть) его мир
Прежде всего Блум знаменует собой экзистенциальную ситуацию, образ существования и восприятия, и это следует понимать с предельно низкой субъективностью, с какой можно сказать, что кафкианские люди – то же самое, что кафкианский мир. Блум являет нам фигуру, метафизически лишённую отличий, что выражается во всём сущем и формирует его материю. Ведь «тот, кто сам собой ничего не представляет, ничего не находит и снаружи» (Блох, «Дух утопии»), и не потому, что все окружающие предметы волшебным образом исчезли, а потому, что для него просто-напросто больше нет никакого «снаружи». Блум перешагнул ту границу отчуждённости от самого себя, после которой любые различия между его «я» и непосредственным окружающим его контекстом теряют чёткие очертания. Взгляд его – это взгляд человека, который ничего не узнаёт. Под этим взглядом всё ускользает и теряется в пустопорожних волнах объективных связей, где «жизнь проявляется негативным образом, в безразличии, безличности, отсутствии свойств» (Кометти, «Роберт Музиль»). Блум живёт в бесконечном подвешенном состоянии[9]9
Подвешенное состояние – термин Дж. Агамбена из работы «Оставшееся время».
[Закрыть] – так, что даже его собственные чувства ему не принадлежат. Именно поэтому он ещё и тот человек, которого ничто больше не оградит от пошлости мира. Он оказался во власти бескрайней ограниченности, оголил всю поверхность своего существа, и единственное место, где ему удалось найти прибежище – это глухой гул, и гул этот катится вперёд. Такое блуждание ведёт его от Подобного к Подобному по тропам Тождественности, поскольку куда бы они ни шёл, он повсюду носит внутри пустыню, в которой он же и отшельник. И пусть он, как Агриппа Неттесгеймский, клянётся, что он – «вся вселенная», или же утверждает куда более простодушно, как Краван, что он – «все вещи, все люди и все звери»5, везде он видит лишь пустоту, которая наполняет его самого. Но это ничто совершенно реально – настолько, что всё сущее рядом с ним становится призрачным.
Als ob[10]10
Как будто (нем.).
[Закрыть]
Уничтожение «я» также означает уничтожение реальности в том виде, в каком она существовала до сих пор, хотя, быть может, в обоих случаях вернее было бы говорить о подвешенном состоянии. Как не осталось больше никакой гармонической нравственности, которая могла бы обосновать иллюзию «самобытного» «я», точно так же исчезло и всё, что давало веру в однозначность жизни или в формальную позитивную направленность мира. А потому, как бы Блум ни настаивал на собственной «практичности», его «чувство реальности» – это лишь ограниченная разновидность чувства возможности, представляющего собой «способность думать обо всем, что вполне могло бы быть, и не придавать тому, что есть, большую важность, чем тому, чего нет» (Музиль, «Человек без свойств»)6. Блум говорит: «Все мои дела и мысли – лишь Образец моих возможностей. Человек шире собственной жизни и собственных поступков. Он словно создан для больших вероятностей, чем те, о существовании которых ему может быть известно. Г-н Тэст говорит: Мои возможности никогда меня не покидают» (Валери, «Господин Тэст»). Все происходящие с ним ситуации несут в этом своём единообразии бесконечно повторяемую печать необратимого «как будто». «Затерявшись в далёких (а может, и не столь далёких) краях, без имени, без личности, точно клоун» (Мишо, «Клоун»), Блум существует так, как будто его нет, живёт, как будто не живёт, видит мир, как будто сам не стоит в определённой точке пространства и времени, и судит обо всём так, как будто говорит не он. Блум – вещь среди вещей, однако держится он в стороне от всего, с такой же отречённостью, какая присуща его вселенной. Он одинок в любом обществе и обнажён при любых обстоятельствах. Вот где он упокоился: в утомлённом незнании самого себя, собственных желаний и мира, пока жизнь его день за днём перебирает чётки его же отсутствия. Блум разучился и радоваться, и страдать. Всё у него поизносилось, даже несчастье. Он не считает, что жизнь стоит того, чтобы жить, но и на самоубийство ему жалко усилий7. Ни в сомнениях, ни в уверенности опоры он не ищет. Некое ощущение повсеместной театральной бессмысленности превратило его в зрителя, глазеющего на всё вокруг и на самого себя. В таком вечном воскресном существовании интересы Блума безвозвратно выхолощены и лишены предмета, а потому и сам он – человек без интереса «в том смысле, что любой ничего не значит, ощущение себя преходящей вещью больше не были выражением индивидуального идеализма, но массовым явлением» (Ханна Арендт, «Тоталитаризм»)8. Очевидно, человек – это феномен, оставшийся в прошлом. Каждый, кто ценил свои достоинства, от них же и принял смерть.
– Дойдя до этой строчки, любой здравый читатель сделает вывод об органической невозможности какой-либо «теории Блума» и будет прав, если предпочтёт здесь не задерживаться. Особо догадливые отпустят какой-нибудь паралогизм в духе: «Блум – это ничто, а ни о чём рассказать что-либо нельзя, значит, и о Блуме рассказать нечего, ч. т. д.» и наверняка пожалеют, что ради этого оторвались от увлекательнейшего «научного анализа французского интеллектуального поля»9. Тем же, кто, несмотря на явную абсурдность наших высказываний, всё-таки решит продолжить чтение, ни в коем случае не следует забывать о неизбежной зыбкости любых рассуждений о Блуме. Если в откровенном ничто видеть человеческую позитивность, то и полнейшее отсутствие свойств приходится выдавать за свойство, а самую что ни на есть радикальную бессодержательность – за содержание. И если предмет такого рассуждения нельзя разоблачить, то он должен проявиться лишь на миг и затем сразу же исчезнуть et sic in infinitum[11]11
И так до бесконечности (лат.).
[Закрыть].
Краткая хроника бедствия
Хотя Блум издревле заключён в человеке как основополагающая возможность – как сама возможность возможности – и все его отдельные признаки неоднократно, из века в век описывались в трудах учёных мужей и мистиков, он становится главной фигурой исторического процесса лишь к финалу метафизики, то есть в Спектакле.

Тут господство его безраздельно. До такой степени, что вот уже больше ста лет, с момента символистского озарения, он остаётся практически единственным героем во всей литературе: от Сангля Жарри до Плюма Мишо, от самого Пессоа до человека без свойств, от Бартлби до Кафки – и давайте наконец забудем Постороннего-Камю, уступив его безусым юнцам. Его появление уже давно предсказывал молодой Лукач, но только в 1927 году в работе «Бытие и время» Блум действительно превращается под прозрачным рубищем Dasein[12]12
Наличное бытие, здесь-бытие (нем.).
[Закрыть] в центральный несубъект философии – к слову, есть основания полагать, что первая мысль об исключительном задействовании Блумов принадлежит пошлому французскому экзистенциализму, который оказался куда прочнее и долговечнее, чем ожидалось от такого модного поветрия. О пришествии Блума, как и породившего его Спектакля, не раз предупреждали самые прозорливые мыслители своего времени, причём ещё на взлёте капитализма. Наиболее заметные его черты были основательно, точно и многократно описаны ещё задолго до его появления. Так, его одиночество в толпе, ощущение необратимой неопределённости или безучастность, с которой сменяются в нём все прожитые смыслы, – ничто из этого по-настоящему ему не принадлежит. Единственная его собственная черта – это уникальное выражение этих различий в их внутренней связи с рыночным видом раскрытия потаённого. Рождение Блума предполагает рождение некоего мира, мира Спектакля, где метафизика переходит в действенность, устраняя все качественные различия в специфике ценностей, отделяя любой жест от жизни целого, которое должно определять его место и суть, и наконец, представляя каждого человека лишь как воспроизведение общего типажа.
СЛИШКОМ ПОЗДНО!
«Любые виды развлечений станут жизненно необходимыми для поддержания общественного порядка».
(“Le Monde”, вторник, 28 апреля 1998)
Если момент его появления на свет прогремел как стальные грозы10, то само его рождение было чем-то таким же неуловимым, как соединение с потоком толпы, метаморфозой, которую так точно описал Валери: «С чувством горького и странного удовольствия я осознавал простоту статистических выкладок нашего существования. Моя исключительность растворялась в толпе индивидуальностей, и я становился неразличимым и словно размытым»11. В итоге ничего не изменилось, по крайней мере, в мелочах, и тем не менее, теперь всё иначе.
Искоренение
Всякое развитие рыночного общества требует разрушения определённой формы непосредственности, рентабельного разделения слитых воедино элементов, которое устанавливает между ними соотношение. Затем именно этим расколом завладевает товар, опосредует его и извлекает из него выгоду, с каждым днём всё тщательнее разрабатывая утопию того мира, где человек во всём будет подвержен влиянию одного только рынка. Первым стадиям этого процесса Маркс дал великолепное определение, хотя, конечно, он их рассматривает лишь с претенциозной экономической точки зрения: «Превращение всех продуктов и деятельностей в меновые стоимости, – пишет он в “Экономических рукописях”, – предполагает как разложение всех прочных (исторических) отношений личной зависимости в сфере производства, так и всестороннюю зависимость производителей друг от друга. […] Взаимная и всесторонняя зависимость безразличных по отношению друг к другу индивидов образует их общественную связь. Эта общественная связь выражена в меновой стоимости»12. Совершенно нелепо списывать беспрерывное уничтожение всех исторических скреп и всех органических сообществ на конъюнктурный дефект рыночного общества, с которым люди, дескать, в состоянии справиться. Искоренение всего вокруг, дробление любой живой целостности на бесплодные обломки и их автономизация в системе стоимости – вот сама суть товара, альфа и омега его оборота. Такая независимая, крайне заразная для людей логика перерастает в настоящую «болезнь искоренения», вынуждающую тех, кто сам лишился корней, уходить «с головой в деятельность, которая направлена всегда на то, чтобы лишить корней, и часто самыми жестокими методами, тех, кто ещё не лишён их или с кем это произошло лишь частично. […] Лишённый корней – лишает их и других» (Симона Вейль, «Укоренение»)13. В наши дни возвращается сомнительная мода на умение распалить до предела массовую и неуёмную лихорадку «деструктивного характера»14.
Somewhere out of the World[13]13
Где-то за пределами мира (англ.).
[Закрыть]
Появление Блума – это закономерный результат и причина истребления всякого субстанциального этоса, итог вторжения товара во все сферы человеческих взаимоотношений. Стало быть, он сам и есть человек без содержания, человек, который действительно превратился в абстракцию, поскольку его фактически отрезали от окружающей среды и выбросили в мир. От истории Блум так же далёк, как и от природы, в том смысле, что к нему неприменима ни одна из этих категорий. Мы видим в нём неопределённое существо, которое «нигде не чувствует себя как дома»15, точно монада, оторванная от всех сообществ в «мире, порождающем одни лишь атомы» (Гегель). Он – буржуа без буржуазии, пролетарий без пролетариата, мещанин, потерявший своё мещанство. И если индивид – это следствие расщепления общности, то Блум – следствие расщепления индивида, а точнее, вымышленного индивида. Но мы бы неверно истолковали воплощённую в нём человеческую радикальность, если бы представили его в традиционном образе человека, «лишённого корней».
Ведь и правда, муки, с которыми сопряжена нынче любая истинная привязанность, настолько чудовищны, что никто просто больше не может позволить себе тосковать по родной земле. Такую тоску тоже пришлось в себе убить, а иначе не удалось бы выжить. Блум же – скорее человек без корней, человек, чувствующий себя в изгнании как дома, пустивший корни в отсутствии места и воспринимающий искоренение не как ссылку, а как отчизну. Не мир он потерял, а вкус к миру, который остался для него в прошлом.
Утрата опыта
Поскольку Блум – это позитивная действительность, определённая форма существования и чувствования, он привязан к крайней абстракции тех условий существования, которые формирует Спектакль. Самым безумным из конкретных явлений и в то же время самым характерным для спектакулярного этоса остаётся – в рамках нашей планеты – мегаполис. По сути своей Блум – человек мегаполиса, однако это вовсе не значит, что можно с рождения или по собственному выбору избавиться от данного условия, поскольку никакого пространства вне мегаполиса не существует: территории, до которых ещё не добрались его метастазы, находятся в зоне его полярности, то есть все их свойства обусловлены его отсутствием. Основной чертой спектакулярно-мегаполисного этоса становится утрата опыта, и самый явный её симптом выражается в формировании собственно категории «опыта» в узком смысле «полученного опыта» (в сексе, в спорте, в профессиональной или творческой деятельности, в чувствах, в развлечениях и т. д.). Всё в Блуме восходит к этой утрате или согласуется с ней. В Спектакле, как и в мегаполисе, люди на собственном опыте сталкиваются не с конкретными событиями, а лишь с условностями и правилами, со второй натурой, превратившейся в чистый символ, искусственный конструкт. Во главе всего стоит радикальное несоответствие между незначительностью повседневной или так называемой «личной» жизни, в которой ничего не происходит, и трансцендентностью истории, застывшей в «общественной» сфере, к которой ни у кого нет доступа. Иными словами, всё выраженное никогда не проживается, а всё прожитое никогда не выражается. Там, где царит отчуждение Публичности, там, где люди больше не узнают друг в друге строителей общего мира, там-то и царит Блум. Масштаб разразившейся у него внутри катастрофы доказывает, что утрата опыта и утрата общности – на деле одно и то же, только с разных точек зрения. Однако всё это явно уходит в прошлое. Разрыв между формами без жизни в Спектакле и «жизнью без формы» Блума – с присущим ей одноцветным унынием и безмолвным стремлением к небытию – на многих уровнях переходит в отсутствие различий. В конце концов, утрата опыта достигла той всеобщей стадии, где она уже воспринимается как основополагающий опыт, как непосредственный опыт опыта, как явный шаг в сторону Критической Метафизики.
Мегаполисы разобщённости
Мегаполисы отличаются от остальных крупных человеческих образований прежде всего тем, что высочайшая степень близости, если не сказать скученности, совмещается в них с высочайшей степенью отчуждённости. Никогда ещё так много людей не оказывались в одном месте и никогда ещё они не были так разобщены. Крупные города – это избранная родина миметического соперничества, которое в перевёрнутой логике, присущей рыночному виду раскрытия потаённого, побуждает братьев питать друг к другу ненависть, соразмерную их братству. «Фетиш ничтожных различий» – вот настоящая трагикомедия разделения: чем сильнее люди разобщены, тем больше они друг на друга похожи, чем больше они друг на друга похожи, тем сильнее они ненавидят друг друга, а чем сильнее их ненависть, тем сильнее их разобщение. Как и Блум, мегаполис воплощает окончательную утрату общности и в то же время бесконечную возможность её возрождения. Для этого достаточно лишь, чтобы люди признали факт совместного изгнания.
Генеалогия сознания Блума
Бартлби – мелкий конторский служащий. Характерное для Спектакля рассеивание массового интеллектуального труда, при котором владение некоей совокупностью совершенно условных навыков выдаётся за уникальную способность, находится в непосредственной связи с формой сознания, присущей Блуму.

Тем более что за рамками ситуаций, где абстрактные познания преобладают во всех жизненных сферах, то есть за пределами того организованного сна, в который погружён мир, целиком преобразованный в знаковую систему, опыт Блума никогда не доходит до уровня прожитого континуума, допускающего накопление, и даже, наоборот, представляет собой множество непостижимых толчков и невразумительных осколков. Поэтому-то Блум и был вынужден сотворить себе «средство самозащиты против угрожающих его существованию течений и противоречий внешней среды: он реагирует на них не чувством, а преимущественно умом, которому развившееся сознание доставило гегемонию в душевной жизни. Реагирование на явления отведено благодаря этому в наименее чувствительный психический орган, который очень далеко отстоит от глубин человеческого характера» (Зиммель)16. Соответственно, Блум не может стать частью мира изнутри. Он проникает туда, лишь исключив самого себя. Вот почему его характеризует столь уникальное стремление к развлечениям, клише, дежавю и, прежде всего, атрофия памяти, навечно заточающая его в настоящем; поэтому же он так тонко чувствует музыку, ведь только она способна подарить ему абстрактные ощущения. Всё, что Блум переживает, делает и ощущает, остаётся для него чем-то внешним. А когда приходит время смерти, то умирает он как дитя, как человек, который ничего не познал. В первую очередь Блум – это свидетельство того, что потребительские отношения целиком охватили всё существование и всё сущее. В его случае рыночная пропаганда одержала такую радикальную победу, что он фактически не воспринимает свой мир как итог долгого исторического развития: он смотрит на него, как первобытный человек смотрит на лес, то есть как на естественную среду. И если взглянуть на Блума с этой стороны, то многое в нём становится понятным. Ведь Блум и есть первобытный человек, только этот первобытный человек – абстрактный. Так что предварительное заключение вполне можно выразить в формуле: Блум – это вечное отрочество человечества.
Замещение типажа трудящегося фигурой Блума
Последние изменения способов производства на поздней стадии капитализма во многом благоприятствовали появлению Блума. Щедрый вклад в этот процесс внёс ещё период классического наёмного труда, завершившийся на пороге 70-х годов. Действительно, на смену иерархическому и уставному наёмному труду постепенно пришли другие формы социальной принадлежности и, в частности, всевозможные традиционные органические жизненные уклады. Именно тогда и наметился раскол между живым человеком и его ролью в обществе: с того момента вся власть была исключительно функциональной, то есть представляющей анонимность, и любое «я», пытавшееся утвердить свои позиции, утверждало как раз те самые анонимные позиции. И хотя при классическом наёмном труде власть могла существовать лишь без субъекта, а субъект – без власти, всё же, учитывая относительно стабильную занятость и довольно жёсткую иерархию, тогда ещё сохранялась возможность мобилизовать субъективную общность, состоявшую из большого числа индивидов, пусть и не слишком обременённых субъективностью. Начиная с 70-х годов условная гарантия стабильной занятости, позволившая рыночному обществу закрепиться при таком социальном строе, где эта гарантия стабильности считалась основной добродетелью, теряет за неимением традиционного противника всю свою актуальность. Тогда и запускается процесс флексибилизации производства, прекаризации эксплуатируемых сил – процесс, который до сих пор продолжается и ещё не достиг предела. Почти тридцать лет назад индустриализованный мир вступил в стадию самокалечащей инволюции и принялся методично ликвидировать классический наёмный труд, набирая на фоне этой ликвидации обороты. С тех пор у нас на глазах происходит уничтожение общества наёмного труда непосредственно на территории общества наёмного труда, то есть в условиях властно-подчинительных отношений, которые оно задаёт. «Труд перестал выполнять функцию действенного суррогата для объективной этической материи, он не может больше заменять давно уже выхолощенные и распавшиеся традиционные формы нравственности» (Паоло Вирно, «Оппортунизм, цинизм и страх»). Все промежуточные преграды между отдельным индивидом, собственником своей единственной «рабочей силы» и рынком, на котором он должен её продать, снесены, и в итоге каждый индивид в одиночку противостоит сокрушительной силе автономной общественной системы. Ничто теперь не мешает повсеместному распространению так называемых «постфордистских» форм производства, а с ними и прекаризации, флексибилизации, концепции «точно в срок», «проектного менеджмента», мобильности и т. д. Подобная организация труда, продуктивность которой основана на непостоянстве, «автономии» и оппортунизме производителей, способна исключить даже самую возможность отождествления человека с его общественной ролью – иными словами, она максимально эффективно формирует Блумов. Она зародилась на фоне общего враждебного отношения к наёмному труду, которое после 68 года дало о себе знать уже во всех индустриальных странах, и собственно это враждебное отношение она и взяла за основу. И если ключевые её товары (культурная продукция) – это итог деятельности, выходящей за узкие рамки наёмного труда, то общая её результативность зависит от лукавства каждого из участников, то есть от безразличия или даже отвращения, с которым люди занимаются своим делом: сегодняшняя капиталистическая утопия – это утопия общества, в котором вся совокупность доходов связана с универсальным умением «выкручиваться». Как видим, само отчуждение труда задействовано в работе. В этом контексте начинает вырисовываться некая массовая маргинальность, при которой «отстранение» – это (в отличие от того, что твердят ЛЮДИ) вовсе не конъюнктурное деклассирование определённой части населения, а основополагающее отношение каждого человека к своей социальной роли и прежде всего производителя к собственной продукции. «Труд здесь больше не отождествляется с индивидом как фактор, определяющий его особенности» (Маркс)17, Блум воспринимает его как произвольную форму повсеместного общественного гнёта. Безработица – лишь видимый симптом глубинной отчуждённости каждого человека от его собственного существования в мире авторитарных товаров. Соответственно, Блум являет собой следствие количественного и качественного распада общества с системой наёмного труда. Он выступает как человеческий типаж, соответствующий условиям производства в обществе, которое окончательно превратилось в асоциальное и с которым ни один из его членов не ощущает никакой связи. Выпавшая на его долю необходимость всё время подстраиваться под постоянно рушащийся мир также учит его быть изгоем в мире, причастность к которому он тем не менее должен имитировать, поскольку никто к этому миру по-настоящему причастным быть не может. Но пройдя через всю вынужденную ложь, он постепенно обнаруживает в себе человека непричастного, существо, не имеющее никакой принадлежности. И по мере того как завершается кризис индустриального общества, под исполинской мощью Трудящегося начинает проявляться бледная фигура Блума.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?