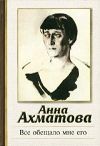Текст книги "Лада, или Радость: Хроника верной и счастливой любви"

Автор книги: Тимур Кибиров
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
14. КАК В СКАЗКЕ
О первенец зимы, блестящей и угрюмой!
Снег первый, наших нив о девственная ткань!
Петр Андреевич Вяземский
По вышеуказанным причинам, то есть по невозможности влезть в чужую шкуру, тем более в собачью, я не могу достоверно вообразить, что ощутила и подумала Лада, впервые в жизни увидав первый снег. Могу только отметить, что она не замерла в изумлении на крыльце при виде преображенного до полной неузнаваемости мира, почти утратившего за ночь все привычные запахи, звуки и краски – кроме белил цинковых и сажи черной. Ничего подобного – выбежала еще быстрее обычного и тут же за калиткой присела и запятнала девственную белизну ярко-желтой струйкой. А потом как понеслась, как пошла нарезывать круги по приречному лугу, оглашая тишину ошалелым лаем и оставляя на мокром и неглубоком снегу чудесные четкие пятилепестковые следы!
Если кто и замер на крыльце в созерцании, так это баба Шура. Да и то поразила ее не столько метаморфоза родного ландшафта, сколько изменения, произошедшие с ее хвостатой подружкой – Лада, скачущая по младенческому снегу, сменила масть, из нежно-палевой она стала откровенно рыжей, прям Лиса Патрикеевна.
И не только Лада поменяла окраску. Березы, например, тоже оказались на фоне настоящего снега совсем не белоснежными, какими представлялись средь майской зелени или сентябрьского злата, теперь их самих можно было уподобить благородному металлу – старинному серебру с чернью.
Да и хвойные деревья опровергали расхожеее утверждение, что они зимой и летом одним цветом. Да не одним, конечно, и даже не двумя. Вот представьте себе, например, одну и ту же елку или, лучше, сосну в знойном июле и, скажем, в феврале. Представили? Ну вот. Об этом я и говорю. Я тоже представил, и очень хорошо и ясно, прямо как живая перед глазами, но – увы – описать эти краски никак не могу по недостатку то ли прозаического опыта, то ли изобразительного таланта.
Сапрыкина, как натура трезвая и практическая, на все эти красочные подробности особого внимания не обратила, пришла к резонному выводу, что лавка сегодня уж точно не приедет по такой дороге, и приступила к будничным хозяйственным хлопотам. (Козу доила? – Да отвяжись ты уже с этой козой, наконец!)
А развеселившийся не хуже собаки Жора с Чебуреком и мешающейся Ладой строили огромную снежную бабу. Снег налипал пласт за пластом на уже и без того огромный шар, обнажая удивительно зеленную, как будто весеннюю траву. Вскоре меж ваятелями разгорелась, однако, жаркая и принципиальная дискуссия, закончившаяся выходом негодующего азиата из творческого коллектива. Жора, отстоявший свое реалистическое видение снежной бабы, налепил ей невероятных размеров сиськи и даже обозначил рябиной непропорционально маленькие, но яркие соски. Более того, он не поленился утыкать маленькими черненькими березовыми веточками лобковый треугольник. Такими же веточками на животе изваяния было начертано название – «Рита». Но оскорбить женскую стыдливость и поругать целомудрие показалось порочному Жорику мало, он решил еще оклеветать невинность и предать священные заветы мужского дружества и стал у подножия своей снеговой Венеры выкладывать надпись: «Слепил Чибурек!». Но нежданный пинок подошедшей сзади Тюремщицы был так меток и яростен, что Жора не удержался на корточках, врезался беспутной головой в живот своего соблазнительного творения и был погребен под обломками этой монументальной порнографии. А когда выбрался, получил еще.
Если б срамной идол был повержен чистой рукой бабы Шуры, а не безжалостной ногой Сапрыкиной, эту сцену можно было бы трактовать как аллегорию, как падение кумира Афродиты Пандемос и триумф Любви Небесной, что, в общем-то, не шло бы вразрез с авторскими намерениями.
Этот веселый первый снег, конечно же, на следующий день растаял, да и второй пролежал недолго, но скоро зима действительно пришла.
Причем в этом году она оказалась такой ядреной, пушистой и румяной, что убежденность поэта в том, что мороз пахнет яблоком, не казалась уже такой загадочной и прихотливой, а традиционное сравнение снежного покрова с саваном выявило свою грубость и неточность – где ж это виданы саваны с люрексом? да еще – если хорошенько приглядеться – таким цыгански разноцветным?
Мороз-воевода, дослужившийся в двадцатом веке до генерала, проинспектировав вверенную ему территорию, остался доволен – лесные тропы были занесены хорошо, ни трещин, ни щелей, ни голой земли замечено не было, лед на Медведке и обоих прудах скован добросовестно, узор на дубах красив, вершины сосен пушисты.
И комната была озарена янтарным блеском низкого, но яркого солнца, и неугомонная, как Александр Сергеевич, Лада будила холодным носом немного разленившуюся зимой Александру Егоровну.
А Жорик, грея красные, задубевшие руки над своей закопченной бочкой, посмеивался, как Кутузов или Денис Давыдов, над чужеземцем: «Ну, бля, колотун! Эт тебе не Чуркестан! Что, Маугли, змерз? Не любо? А нам, русичам, хоть бы хрен! Бобслей – спорт мужественных!»
Все это было чистой воды националистической демагогией потому что Чебурек как раз не очень-то мерз, поскольку стараниями сердобольной Егоровны был упакован в овчинный тулуп Ивана Тимофеевича, в его же треух и валенки, а вот Жора дрожал как цуцик в своем потрепанном демисезонном, как он сам говорил, «полупердончике». Александра Егоровна и Жору бы пожалела и приодела, но, во-первых, вещи ее статных мужчин были ему уж очень велики, а во-вторых, он еще в первую свою зиму в Колдунах с особым цинизмом пропил почти что новенький гогушинский ватник.
Но все это нисколько не уменьшало Жориковой кипучей жизнерадостности и патриотического подъема: «Славный морозец! А в лесу – просто ох…ть можно! Прямо, б…ь, как в сказке. Лепота!»
Тут я вынужден с Жориком согласиться – действительно как в сказке, только он, скорее всего, имел в виду «Морозко», а мне этот слепительный январь напоминал больше «Волшебную зиму в Муми-доле» и, отчасти, «Снежную королеву».
15. ДОЛГИМИ ЗИМНИМИ ВЕЧЕРАМИ
Наша ветхая лачужка
И печальна и темна.
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
Александр Сергеевич Пушкин
Там, снаружи, за роскошными цветами Снежной Королевы на оконных стеклах, за заиндевелыми бревнами старых гогушинских стен недвижно стоял темно-синий, почти что фиолетовый холод, и зимние сумраки-мраки стыли в вековечном безмолвии, когда в нашу ветхую лачужку вошла никому не видимая тень, в смысле печальный загробный дух. Вошел и стал посреди своей когдатошней земной обители.
Но трое, сидящие у уютно потрескивающего телевизора, ничего не заметили – ни малюсенькая старушка с книжкой в руках, ни черный мурчащий кот на ее коленях, ни светленькая собачонка, свернувшаяся у ее ног, не повернули головы и не уставили недоумевающий взгляд на призрачного пришельца. Тихий голос продолжал неторопливое чтение, спокойно дремали зверьки, опровергая широко бытующее мнение об их необыкновенной мистической чуткости. Пожелтевшая от долгого и трудного времени хрупкая страница перевернулась, и Егоровна стала читать мое любимое место из Евангелия от Луки: «И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что был мал ростом; и забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! Сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что Он зашел к грешному человеку…»
Потустороннее видение слушало, кажется, не очень внимательно, но глядело во все глаза – скорбно и ненасытимо, не подавая, впрочем, никакого явного знака своего незримого присутствия. Огонь в печи негромко гудел, напевая в полголоса стародавнюю песнь, почти забытый нами священный гимн, славословие временному уюту, отвоеванному у безжалостной Белой Колдуньи, и героической борьбе нашей жалкой и теплой плоти с надвигающимся окоченением. Старушка спокойно читала себе вслух, как делала это каждый вечер после смерти Ивана Тимофеевича, Барсик еле слышно гудел, Лада смотрела какие-то увлекательные, если судить по движениям ног и неожиданным взлаиваниям, сны.
Призрак придвинулся ближе, почти вплотную к своей не обращающей на него внимания, погруженной в чтение старенькой и маленькой женушке. Но совсем невдомек было Александре Егоровне, что смотрят на нее и слушают ее не только умиляющийся автор и не только прильнувшая к окошкам ледовитая тьма, но и покойный супруг. И только когда глава была дочитана и книга отложена, на какое-то мгновение стало Александре Егоровне странно, сжалось и ёкнуло сердце, и показалось ей, послышалось, что незабвенный голос пропел шепотом в самое ухо: «Верь, другой такой на свете нет наверняка, что так…»
Но не могла себе позволить Александра Егоровна «такие нежности при нашей бедности», не стала она вспоминать ни обильные страстные речи, ни взгляды, так жадно, так робко ловимые, справедливо опасаясь закручиниться и впасть в тяжкий грех уныния и неблагодарности, не только не стала прислушиваться к грустному голосу, но строго и насмешливо приструнила себя, обозвала старой дурой, и, сбросив недовольно мяукнувшего Барсика, принялась расстилать постель…
Странно и даже как-то неловко говорить, но если память о муже до сих пор была для Александры Егоровны свежей и душераздирающей, то о сыне она уже давно вспоминала безо всякой боли, светло и умиленно, очень любила видеть про него сны, все стены завесила его фотографиями – от голого трехмесячного бутуза до бравого дембеля. Почему это было так, я не понимаю, тут, наверное, какая-то недоступная мужскому уму тайна материнского и женского сердца…
Первые четыре абзаца этой главы являются вольным пересказом и переложением на русские нравы стихотворения Уолтера де ла Мара «Winter Dusk» и вызывают у автора большие сомнения – во-первых: не является ли это, при всей снисходительности современной культуры к обильным цитациям, стилизациям и обыгрываниям классических текстов, плагиатом, наглость которого только усугубляется тем, что этот чудесный поэт у нас, к сожалению, недостаточно известен, а во-вторых: получается, что загробная судьба Ивана Тимофеевича сложилась не очень-то благополучно, ведь, насколько я знаю, привидениями, тревожащими покой живых, становятся души неприкаянные и не заслужившие прощения.
Кроме того, в деламаровскую рамку никак не вписывается Чебурек, который в эту зиму почти каждый вечер проводил у Александры Егоровны, привязавшись к моей старушке почти столь же беззаветно, как Лада, и не желая быть ни участником, ни свидетелем ежевечерних Жориковых возлияний.
Похабник Жора из ревности и зависти стал даже намекать на предосудительный характер связи Егоровны и молодого азиатца, изводя старушку насмешливым исполнением старинной песни:
Из тысячи фигурок
Понравился мне турок,
Глаза его блестели как алмаз!
Или закатывал глаза и, копируя артистку Никищихину, вздыхал: «Высокие отношения!»
Злоязыкая Сапрыкина так далеко не заходила, но обвиняла инородца в том, что он стал нахлебником и объедает бедную пенсионерку; но это неправда, Чебурек приходил совсем не для того, просто у Егоровны было тепло, чисто и тихо, а если он иногда и разделял скудную старушечью трапезу, то с лихвой отрабатывал. Поэтому, кстати, и Егоровна редко теперь читала вслух – ей казалось это неделикатным в присутствии не разумеющего по-русски гостя. Чебурек же, даже когда не находил себе полезного занятия по домашнему хозяйству, без дела не сидел и всегда что-нибудь мастерил – вырезал он, например, из липовых чурбачков замечательные шахматные фигурки, но никто из его теперешних односельчан играть в них не умел и не хотел, так что в итоге эти человечки, лошадки и слоники, раскрашенные цветными карандашами, были поделены между Тюремщицей и бабой Шурой и стояли в качестве художественных объектов в сапрыкинском серванте и на гогушинском телевизоре.
Кстати, о телевизоре. Скептический читатель уже наверняка скривил усмешкой ехидные уста, не веря в описанное мною смиренное благолепие бабы-Шуриных вечеров. Это под телевизор-то?! Под Кобзона – Баскова – Лолиту – Тимати – Рому Зверя – Мишу Леонтьева – Петра Толстого?! Под немолчную пальбу криминальных и силовых структур?! Под ржание Петросяна, Мартиросяна и Галустяна?! Я вас умоляю!
Нечего меня умолять! Ваше замечание делает, конечно, честь вашей проницательности и житейской мудрости, но дело-то все в том, что телевизор у Александры Егоровны давным-давно онемел и молчал в тряпочку, да и показывал своим прошловечным кинескопом не очень-то четко.
А благодарить за это мы и Гогушина должны Жорика, чья очередная безобразная и наглая выходка в кои-то веки послужила добру. Как-то с мучительного похмелья изобретательный хулиган и тунеядец взялся, вернее с трудом уговорил недоверчивую, но мягкосердечную хозяйку всего за поллитра не только починить давно уже барахливший ящик, но и переделать посредством нанотехнологий черно-белый старенький «Рубин» в цветной и стереофонический. Хлопнув два раза по «сто пёздесят» в качестве аванса, разворошив внутренность телевизора, получив отрезвляющий удар током, Жора отшвырнул отвертку и стал кричать на Егоровну, обвиняя ее в неправильной эксплуатации и нарушении техники безопасности: «Медицина бессильна! Раньше надо было думать! Искра в баллон ушла!»
«Да он же без звука? Что ж ты наделал, бессовестный?» – попробовала возмутиться баба Шура, но в ответ услышала от заторопившегося восвояси безобразника только: «Оставь меня, старушка. Я в печали!».
Некоторое время Александра Егоровна ходила по вечерам смотреть настоящий цветной японский телевизор к Сапрыкиной. Но ничего, кроме расстройства и даже некоторой обиды, из этого не вышло. Тюремщица как полоумная щелкала пультом с канала на канал, а если где и задерживалась, то на программах и фильмах, которые целомудренная в обоих смыслах этого слова Александра Егоровна вынести никак не могла. Сапрыкина же разражалась страстными и яростными ругательствами по поводу мировой закулисы, которая развращает наш народ, но, кажется, получала тайное удовольствие от этого Содома и Гоморры. А когда Александра Егоровна однажды, пользуясь отсутствием хлопотавшей по хозяйству Тюремщицы, почти уже досматривала индийский фильм «Маленький свидетель», возвратившаяся после дойки козы – ой, простите, нет ведь никакой козы! – в общем, вернувшаяся Маргарита безжалостно переключила телевизор на ток-шоу в самый волнующий и трогательный момент. Не стала Егоровна слушать и смотреть идиотов, всерьез обсуждающих, под руководством душки Малахова, можно ли взрослым дядькам спать с несовершеннолетними школьницами, встала и ушла, и больше уж не приходила, хотя Сапрыкина зазывала. А что сталось с индийским музыкальным сироткой, так она никогда доподлинно и не узнала, хотя сама для себя придумала финал, практически не отличающийся от замысла болливудского сценариста.
Так что телевизор, неизменно по привычке включаемый, никак не мог нарушить благообразие гогушинских вечеров, и дом Александры Егоровны был одним из немногих мест, может быть, даже последним, куда не проникала вся эта свистопляска, замышленная адским Баламутом еще полвека назад, чтобы навсегда покончить с ненавистными и мучительными для бесов «тишиной и мелодией», и где стояла та самая, живая и вожделенная тишина.
Что же касается мелодии, то переставший дичиться Чебурек, возясь со своими щепочками и проволочками, часто под сурдинку бубнил неведомые национальные напевы – монотонные, странные, но в общем-то приятные на слух.
Да и сама Александра Егоровна, как мне кажется, иногда напевала про себя, в глубине души:
Блажен взрастивший на сотках собственных
Сельхозпродукты – белокачанную
Капусту, и репчатый лук, и свеклу,
Картошку, моркошку и топинамбур!
Блажен по осени заготовивший
Огурцов соленых, капустки квашеной,
Блажен перетерший с песком смородину
И наваривший из шпанки варенье!
Блажен, кому достаточно пенсии
На бакалею и гастрономию,
На спички, соль, рафинад и масло
Постное. Даже на карамельки!
Кому слоняться путями грешными
Нет ни малейшей необходимости,
Кому ни к чему обивать пороги
В местном совете нечестивых!
Блажен имущий на зиму валенки
И крышу над головой беззащитною,
Кота от мышей, от воров собаку,
Хотя какой уж из Ладки сторож!
А коль случится какая надобность,
Бутыль самогонки хранится в подполе.
Только б о том не проведал Жора,
А то греха с ним не оберешься!
А если всплакнется над фотографией
Старенькой – что же, ведь было сказано:
Блаженны плачущие – они утешатся,
И снова встретятся. И не расстанутся.
Вот так, по-моему, пело под гудение немого телевизора ветхое старушкино сердечко. А собачка, дремавшая у ее ног, да и надменный Барсик на коленях слушали и, в общих чертах, соглашались. Ну а Николай Чудотворец, он же Санта Клаус, глядящий из своего красного угла, был согласен с Егоровной на все сто процентов. Ну и Чебурек, конечно, тоже, если бы ему кто-нибудь перевел.
И казалось даже, что и черно-белая Эвелина Блёданс в роли трагической бандерши элитного публичного дома, который пытаются прибрать к рукам коррумпированные менты и мафиози, и даже «последние герои» Никита Джигурда и Виктор Ерофеев, склочничающие с Ксенией Собчак из-за бытовых условий на тропическом острове, – ей-богу, казалось, что и они тоже согласны – благо вслух выразить свое мнение они не могли.
16. ВОЛКИ
Когда в селах пустеет,
Смолкнут песни селян,
И седой забелеет
Над болотом туман,
Из лесов, тихомолком,
По полям волк за волком
Отправляются все на добычу
Алексей Константинович Толстой
Тревожное предчувствие, которое, по мысли автора, должно было бы возникнуть у чувствительного читателя из-за неоднократного поминания андерсеновской владычицы мрака и мраза, скоро сбылось. Вестником неминучей беды явился пропадавший где-то почти неделю Жора.
– Ну чо, старухи, кердык вам. И тебе тоже, черный Абдулла! – радостно объявил он жителям затерянной в снеговых просторах деревеньки. – Все! Алее!
– Ты б закусывал бы изредка, – лениво процедила Тюремщица.
А Александра Егоровна из деликатности решила все-таки спросить:
– Случилось что, Жора?
– Случилось! Сидите здесь, ни х… а не знаете, ап., ец-то нечаянно подкрался!
– А ну кончай матюкаться! Проспись иди, рожа пьяная!
– Я-то, Ритулька, просплюсь, а вот вас-то как раз волки-то и схавают!
– Какие волки?
– Ага, какие волки! Нормальные такие волки, вульгарно! В Ильине на почтальоншу напали, курей поворовали, козу задрали, все сидят по домам, боятся!
– Ну ври!
– Вот те и ври! И на Коммуне вчера собаку прямо на цепи обглодали! И что характерно – пес здоровенный, настоящий волкодав! Ну а ты-то, подружка, – он наклонился к Ладе и ласково потрепал ее за ухо, – ты-то им на один зубок!
– Типун тебе на язык твой поганый! – обмерла Егоровна.
– Да слушай ты это брехло!
– Брехло, Ритуньчик, твой папа! Когда вас волки трескать будут, узнаете! Ну, мне тут некогда с вами… Предупрежден – значит, вооружен! Так что хмуриться не надо, Лада! – Жора еще раз потрепал Ладу. – Выживает сильнейший. Естественный отбор, е…ныть! Пошли, Гамсахурдия, не фиг тебе с ними бабиться. Надо оружие готовить!
И к ужасу Егоровны зарычал: «Идет охота на волков, идет охота! На серых хищников…» и т. д. и т. п.
К сожалению, на этот раз Жора не брехал и даже не очень преувеличивал – по округе действительно рыскали жестокие и неуловимые хищники. Я лично не уверен, что это были настоящие волки, вполне вероятно, что ужас на окрестные деревни навела стая бродячих собак, одичавших и вконец потерявших человеческий облик и подобие, – а такие оборотни бывают, как известно, похуже любых волков.
Для этих извергов собачьего рода вообще нет ничего святого – они способны и в самом Переделкине нападать на классиков советской поэзии, что уж говорить о простых сельских тружениках.
Характерно, что даже кандидат биологических наук А. Д. Поярков, неутомимый исследователь и страстный защитник городских бродячих собак, об озверевших на лесных и полевых просторах псах пишет как-то глухо: «Если в городе я бы оставил собак в покое, то в сельских местностях бродячая собака играет другую роль. Роль пока явно не исследованную детально, но все же, по имеющимся данным, скорее отрицательную… – Хотя далее он, конечно, оговаривается: – Я не призываю уничтожать бродячих собак даже в сельской местности, а сначала как следует понять их роль в сообществе и хорошо подумать, прежде чем начать действовать».
Такая мудрая экологическая позиция для Жоры была абсолютно неприемлема. Действовать он начал немедленно. Неожиданно вспомнив своего деда-сибиряка, который «на медведя с рогатиной ходил», он заставил Чебурека сделать ему эту самую рогатину, которую представлял себе, конечно, в виде большой, как ухват, рогатки с заостренными концами. Поклонившись старухам и недоумевающему Чебуреку в пояс, сказавши: «Ну, не поминайте лихом, православные!» и совершенно перепугав Егоровну обращением «святая старица» и предложением «благословить на подвиг ратный», Жора, держа наперевес свое сибирское оружие, отправился в лес. Пробыл он там не очень долго, минут тридцать пять-сорок, но, судя по всему, мгновения эти свистели, как пули у виска, и были исполнены высокого драматизма и былинной героики.
– Двух ранил, одного убил! Самого матерого!
– Ну и где ж твой матерый, чучело?
– Да они ж его тут же и сожрали. Голодные, суки!
После этого тартареновского подвига Жора на охоту больше не ходил, решив посвятить себя охране гражданского населения и патрулированию, рогатину заставлял таскать за собой Чебурека, сам же мотался из конца в конец деревни с гитарой и исполнял мужественные песни Владимира Высоцкого и Александра Розенбаума и каких-то еще малоизвестных, но очень противных авторов «Радио-Шансон».
Но шутки шутками, а когда розовым морозным утром Егоровна обнаружила рядом со вчерашними следами Лады отпечатки огромных и, как ей показалось, многочисленных звериных лап, стало по-настоящему страшно.
С этого момента до кровавой развязки Лада выходила погулять только на несколько минут и всегда на непривычном коротком поводке, который тщетно пыталась перегрызть и обиженно скулила, но напуганной хозяйке было не до собачьих капризов.
В общем, стало в Колдунах нехорошо.
А тут и погода переменилась, завыл ветер, сделалась метель.
И то ли чудилось перепуганным моим персонажам, то ли и вправду с завываниями вьюги сливался волчий, зловещий и торжествующий, вой.
Чтобы в самых общих чертах передать смысл этого песнопения и послания, я позволю себе воспользоваться своим старым, но до сих пор невостребованным текстом.
В самом начале девяностых, лихости которых я по легкомыслию как-то не заметил, мечталось мне стать образцовым, идеальным отцом для моей новорожденной дочери. Среди неосуществившихся педагогических затей значилось и создание домашнего кукольного театра и написание для оного пьес, в подражание отцу маленького Честертона. Первым делом я решил инсценировать в стихах свою любимую «Снежную королеву», предав ей значение универсального мифа, вернее прояснив и подчеркнув это значение. К счастью, я довольно скоро осознал, что детские книги – увы – могу только читать, с благодарностью и завистью, а написать что-нибудь действительно детски ясное, красивое и мудрое не способен. Тем не менее, хор полярных волков, запугивающих Герду в этой ненаписанной мною мистерии, будет здесь, как мне кажется, уместен:
Пусть сильнее взвоет вьюга,
Ой, вьюга, ой, вьюга!
Не уйти тебе, подруга,
От Врага!
Запуржила сила вражья
Все пути!
Ну куда ж тебе, дурашечка,
Уйти!
Не спасет тебя, свинюшка,
Тихий дом!
Дунем-плюнем, на клочочки
Разнесем!
Не аукай, не надейся,
Ни гу-гу,
Ни просвета в зачарованном
Снегу!
Перепутал лево, право,
Верх и низ
Волчий пастырь, бесноватый
Дионис[5]5
Волки здесь выказывают плохое знание классической мифологии. Ликейским (волчьим) звался почему-то как раз Аполлон. Ну, может, древнегреческие волки как-то и связаны со светозарным Фебом, но наши все-таки воплощают скорее темное вакхическое начало. Мои уж точно.
[Закрыть].
Эвое! – мы воем, воем,
Бредим, врем,
Кружим, кружим заколдованным
Кольцом!
Нет, не взвидеть света белого
Уже
Твоей маленькой, удаленькой
Душе!
Спета песенка дурацкая
Твоя!
Слушай, слушай же напев
Небытия!
Бесконечный, безобразный
Волчий вой!
Легион за легионом,
Тьма за тьмой!
Песню древнюю поет
Ночной мороз
Про родимый вольный хаос,
Про хаос.
Исчезает в круговерти
Божья твердь!
Свищет ветер, воют черти,
Пляшет Смерть!
Свищет ветер, воют бездны,
Стонет ад,
Духи злобы поднебесной
Голосят!
Никого уже, девчонка,
Не спасешь!
Смерть и Время воцарились,
Мрак и ложь!
Не упрямься же, не рыпайся,
Уймись,
Королеве нашей
В ножки поклонись!
Покоряйся, отдавайся же
Врагу!
Хорошо ли тебе, девица,
В снегу?
Во сугробах-гробах, детонька,
Нишкни,
Белой гибели на верность
Присягни!
Понятно, что ни моя малолетняя дочка, ни обитатели Колдунов не смогли бы угадать в этой песне всех предполагаемых автором метафизических и историософских глубин и отсылок к классическим текстам, разве что намек на трех поросят, но общий смысл того, о чем пела вьюга и выли волки, был всем предельно ясен и четко сформулирован Жорой: кердык!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.