Текст книги "Охота на зайца"
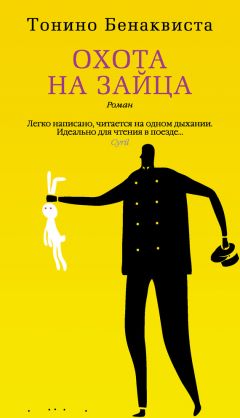
Автор книги: Тонино Бенаквиста
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Но я-то помню.
Я беспокоился из-за любой мелочи ночь напролет, я трижды проверял билеты и паспорта, каждые два часа пересчитывал пассажиров, опасаясь самовольных перемещений из купе в купе и хитрых зайцев. Навязчивый страх потерять какой-нибудь документ вынуждал меня придумывать невероятные тайники, в бельевом баке например, или в шкафчике, или под лежанкой, вплоть до моей личной сумки. Я так трусил не разбудить какого-нибудь пассажира на его станции, что заставлял свой будильник трезвонить каждые полчаса и вовсе не смыкал глаз. Правила гласят: «Не разувайся!» – вот я и не разувался ни при каких обстоятельствах. Добравшись до Рима, я чувствовал такое освобождение, что опрометью бросался в первое же попавшееся кафе выпить стаканчик белого, чтобы только отметить это. Спать там было невозможно, невозможно было даже иметь такое желание, вот я и бродил целыми часами в одиночестве, не слишком удаляясь от вокзала. Сходить к Св. Петру, чтобы посмотреть на Моисея Микеланджело, купить что-нибудь для Кати, съесть мороженое на Пьяцца дель Пополо. Потом возвращался в гостиницу, чтобы исхлестать себя душем и обязательно побриться. В 17:00 возвращение к своему вагону – и новое отправление в бессонную ночь. Поезд приходит в 10:10, домой я попадал к 11:00, Катя еще спала. Традиция требовала, чтобы я приносил рогалики к завтраку. Катя улыбалась мне и не спешила спросить, как все прошло. А я только того и ждал, чтобы вывалить все чохом, задом наперед. Я пересказывал ей это словно роман, словно захватывающий фильм, пытался завладеть ее вниманием, взволновать. Но главное – я пытался передать ей нечто смутное, расплывчатое. То был какой-то непременный ритуал, единственный способ избавиться от тридцати шести часов иной жизни, совершенно, впрочем, неописуемой. Мне хотелось, чтобы она поняла.
– Глупости… Да, понимаю.
Нет, никому не дано понять всю ублюдочность этой работы. Эти кучи пассажиров, которые то улыбаются, то дуются. Я чувствовал себя так, будто меня подставили, будто я в ответе за их кошмары, будто я козел отпущения, заложник их дурного настроения. Мне было всего двадцать два года. Катя слушала меня вполуха, она была слишком далекой от всего этого, слишком заземленной. Она удивлялась, как нагромождение этих пустяков могло довести меня до такого состояния. Какого состояния? Это было что-то вроде расстройства, разлада, когда уже не понимаешь, на твердой ты земле или тебя все еще трясет, в голове буря, способная пустить по ветру все запасы памяти. И еще усталость, усталость от переизбытка событий, какой-то экстаз изнурения, когда веки опускаются сами собой на вытаращенные глаза, кости разогреваются от странных, безболезненных судорог, мышцы расслабляются, зато рукам хочется что-нибудь разбить, сломать. Грязь облепляет тебя всего, почти ощутимая, обтягивающая, как чулок, – испарина, десятки раз высушенная вентиляцией. Не говоря о самом худшем – дыхание, неуловимый привкус во рту, всегда один и тот же, ощущение каких-то металлических миазмов. Это мучит всех проводников, мы обмениваемся рецептами: апельсины, кофе со льдом, кукурузное виски, но ничто не помогает, привкус остается на нёбе, будто некая взвесь, в течение добрых двух дней. Мы знаем, у этого вкуса есть даже собственный звук, он доносится к нам из кондиционеров и водонагревателей, свистит и стрекочет в ушах зловонным, использованным и переиспользованным воздухом, тухлым кислородом. Можно, конечно, открыть окно – засыпаешь, исхлестанный ветром, накачанный им, и просыпаешься, стуча зубами. Тогда опять возвращаешься к кондиционированному воздуху с примесью пыли от одеял, ощущение – будто грязного белья нажевался. Да, именно так, но как об этом скажешь? Кому предложишь столь омерзительный образ?
По счастью, существует сигарета, ею и разряжаешь обстановку. Табак больше не друг или враг, затягиваешься совершенно механически, горячий дым чертовски хорошо сочетается с этим привкусом, они будто созданы друг для друга. Чаще всего окурок дымится сам по себе, приткнувшись в пепельнице, вделанной в подлокотник кресла, и это совершенно не важно, лишь бы тлел, сведенный к роли фимиама. В Париже я к хабарикам даже не прикасаюсь.
Еще не проснувшаяся Катя смотрит на эту помятую фигуру, которой даже в голову не приходит снять с себя галстук, на эту блуждающую, бессмысленно суетливую тень. Я уже не помню, как зажигается газ под кофеваркой, забываю, что имею право разуться, пытаюсь спросить ее, чем она занималась в Париже, но она прекрасно чувствует, что мне на это наплевать. Да и что с ней такого могло произойти? Какие-нибудь пустяки, еще более ничтожные, чем мои. Но мои-то пустяки вне всякой нормы, вне сюжета, вне контекста. Я становлюсь почти злым, я насмехаюсь над ее равновесием, подозреваю, что в какой-то момент она отключилась, сержусь на нее за то, что она пропустила какую-то мелочь. Что я об этом знаю, в конце концов? Я несправедлив, и она дает мне на это право. Я начинаю говорить еще быстрее, увлеченно рассказываю, что какой-то человек ночью в почти пустом поезде описывал мне, как накануне умирала его жена. Как ему необходимо было выговориться, поведать кому-нибудь об этом крохотном водяном пузырьке, из-за которого лопнуло ее легкое, и как она тихо содрогнулась в глубоком выдохе. И я засыпаю в Катиной постели посреди фразы. Она выходит, деликатно притворив дверь. Как делает всякий раз по моем возвращении.
– И что же? Сколько времени вам нужно, чтобы оклематься от этого бардака? Я хочу сказать, от этих глупостей?
– А?
– Ну, в общем… я предполагаю, что ваша работа требует некоторого восстановления сил… Я бы даже сказал, чуточку забвения.
Я стою в коридоре, облокотившись на поручень, еще не до конца очнувшись. Воспоминание застигло меня врасплох – фильм о моем мучительном дебюте. Несколько тысяч пассажиров, которых я повстречал с тех пор, говорили со мной только о своих отпусках да об архитектуре. Произнес ли хоть кто-нибудь слово «забвение»?
– Да, забвения… Раньше мне требовалось не меньше пятнадцати часов сна в собственной постели, чтобы восстановить нормальный ритм и начать ясно видеть. Теперь это происходит в ту же самую секунду, как я ступаю ногой на перрон Лионского вокзала. Едва поезд останавливается, я выпроваживаю всех пассажиров, осматриваю вагон, чтобы проверить, не забыл ли кто чего, затем выхожу. И вот тут…
– Представляю себе…
– Это божественное счастье, дар Небес. Но оно длится всего несколько мгновений, пока не дойду до конца платформы. Впечатление такое, будто я вернулся из экспедиции, которая длилась целые века. Чувствуешь себя грязным и счастливым.
Он смеется и снова хлопает меня по плечу. На сей раз это скорее отеческий жест.
– Отдаю вам должное по крайней мере за одну вещь – за вашу зрелость касательно оценки времени. Я хочу сказать, проходящего времени. Обычно молодежь не придает ему никакого значения.
– Что-то не понимаю.
– Это непросто. Ведь у парня двадцати лет от роду нет в голове песочных часов, для него всегда либо полдень, либо полночь, он что угодно готов сломать, лишь бы получить удовлетворение прямо сейчас, сию же минуту, но он может также терять и часы, и дни ради какой-нибудь подробности или впечатления. Отчасти это нормально, ему ведь кажется, будто впереди целая вечность. Я сам такой был. А вот вы нет. У вас есть понятие о чем-то большем, несвойственное вашему возрасту. Короче, вы, кажется, поняли самое главное – есть только две вещи, которым стоит придавать значение: миг и терпение. Надо уметь жить и тем и другим.
Я сражен. Нокаут. Отродясь такого не слышал. Но запишу все на клочке бумажки, чтобы малость обмозговать сегодня ночью. Впрочем, пора возвращаться.
– Это как посмотреть, – говорю я, делая вид, будто врубился. – В любом случае я этого не забуду, спасибо за науку. В общем, если будут какие-то проблемы, заглядывайте ко мне.
– У меня их не будет. Все, что я хочу, – это спать. Спать…
* * *
Проверяю, все ли готово для таможни. Первыми проходят французы и смотрят только листки деклараций, видимо на тот случай, если пассажир окажется настолько глуп, чтобы там написать: «Пятьсот штук, укрытых от налога». Время от времени они связываются со своими по портативной рации, запрашивая данные о личности, аппарат потрескивает, и они проходят в следующий вагон. Швейцарцы не такие рутинеры, но тоже вполне предсказуемы в своей паранойе по поводу нелегальных иммигрантов. Любому экзотическому субъекту надлежит обладать транзитной визой, и все это ради того, чтобы на скорости сто шестьдесят промчаться за два часа через их маленький рай, ни разу не ступив туда ногой. Это могло бы показаться смешным, если бы не стоило сто двадцать французских франков. Никто из них этого не знает и мало кто имеет; некоторых высаживают на границе даже с паспортом в полном порядке. Однажды я поинтересовался у таможенника, гражданам каких стран требуется виза. Ответ: Азия, Африка, Ближний и Средний Восток, СССР, а также широкий выбор государств Южной Америки. В другой раз меня просто сухо спросили: «Негры есть?» Этот, по крайней мере, обладал достоинством краткости. Из тех, что сразу объявляют масть. И как раз нашел одного сенегальца, с которым мы немного поболтали перед Валлорбом. Студент-юрист из Дакара. Бедняга услыхал:
– Твоя надо виза, твоя сходить.
– Но я совершенно не знал, уверяю вас…
– Твоя сходить, говорю.
Парень сдержался, одарил их улыбкой бваны и пожал мне руку на прощание. Прежде чем перейти в следующий вагон, швейцарец меня спросил все-таки, давно ли мы с этим негром знакомы. И в этом не было ничего показного. Вполне ведь можно развивать в себе способность к абстракции и при этом пронзительно кричать кукушкой.
– Немедленно зайдите ко мне в купе!
Я из-за него даже вздрогнул. Когда ко мне врываются без стука, я и убить могу. Этот тип с двадцать третьего места, тот самый с неправильным билетом.
– Успокойтесь и смените тон. Вы опять из-за своего билета?
– У меня бумажник украли! Вот! А у меня там все было! Деньги, билет, права – все.
Он сам захотел оставить при себе свой дурацкий проездной документ. Отлично сработано. Лучше бы уж доверился мне.
– Это ведь вы обязаны следить тут за порядком или нет? Сами же говорили недавно о ворах.
Это правда, но не на французской части маршрута. Такие штуки случаются только в Италии.
– Я отвечаю только за билеты и паспорта, которые сданы мне на хранение.
– Вот, опять виноватых нету! Я хочу получить обратно мои пять тысяч и мой паспорт! Ну попадись мне этот мерзавец!
Я выхожу в коридор и направляюсь в купе номер два. Загадочный соня, с которым мы недавно толковали, шарит на полках, а американец стоит на четвереньках, засунув голову под диванчик. Похоже, по доброй воле.
– Мы его уже четверть часа ищем! Точно сперли, я же вам говорю!
– Вы выходили из купе со времени отправления?
– Только на десять минут, бутерброд себе купить, а этот месье и вот этот месье были в коридоре, – говорит он, показывая пальцем на своих попутчиков.
– И вы оставили тут свой бумажник?
– Не помню. На какое-то время я снимал пиджак… Не помню.
Американец разгибается:
– Внизу пусто.
Он преспокойно усаживается у окна, видимо решив, что уже достаточно постарался. Соня делает то же самое, расстроенно разведя руками:
– Да я же вам говорю, что его украли, у-кра-ли, не мог я его потерять!
– Э… хм. Кто дает себя обокрасть, тот и потерять способен. Так что все отсюда выходите, а я разбираю купе. Там поглядим.
В несколько поворотов четырехгранного ключа я разбираю купейное оборудование на мелкие части. Пусто.
– Ну что? Не это купе обыскивать надо, а все остальные, весь поезд! Я этого так не оставлю!
Псих с манией величия. Гарпагон, хнычущий по своей кубышке, гордый законным статусом пострадавшего. Странно, его стенания нагоняют на меня сон, но зевать сейчас некогда. Он вот-вот начнет пожирать время моего сна. Хуже всего, что через каких-нибудь двадцать минут припрутся таможенники, а уж я-то знаю, как они способны изгадить обедню.
– Вы ведь должны знать, что делают в таких случаях!
– Ну да… вызывают начальника поезда, чтобы составить акт. Это я знаю, тут нет ничего сложного.
– Что-что составить? Да плевал я на вашу бумажку!.. Мне деньги мои нужны и документы, черт подери!
Вернувшись к себе в кабинку, хватаю микрофон. Кроме объявлений по поводу воришек, я использую эту штуку только в самых торжественных случаях. Или ради мести, как в тот раз, когда один подвыпивший контролер решил пройтись на мой счет. Четверть часа спустя я объявил во всеуслышание: «Дамы и господа, извещаем вас, что в голове поезда имеются пустые места. В голове контролера тоже». Он догадался, что это я, но проверить так и не смог. Сегодня я собираюсь остаться учтивым:
«Начальника поезда просят срочно зайти в девяносто шестой вагон».
Вот уж чему не обрадуются. В 20:30 шеф как раз переваривает обильно спрыснутый ужин в одном из пустых купе, готовясь сойти в Валлорбе и завалиться на тюфяк железнодорожной гостиницы в ожидании пассажирского, который доставит его домой. Если он из Гренобля, это еще туда-сюда, но если парижанин, то ждать ему придется обратного «Галилео», который проходит в 2:59. Проколы, сплошные проколы.
Возвращение к драме второго купе. В 23:30 пассажир, следующий до Венеции, теряет свой бумажник и слетает с катушек. Этот идиот уже обыскал первое и третье купе. Люди в коридоре смотрят с любопытством, для надежности сунув руку в карман.
– Куда он там запропастился, ваш начальник поезда?
– Он придет, но в любом случае ему сходить через четверть часа, его маршрут закончен. Он сдает смену швейцарским контролерам.
Но я уже заранее знаю, что скажет швейцарец со своим невыносимым акцентом: «Кража совершена во Франции? Ну так ничего не могу поде-е-е-е-лать». Логика кафкианская и пограничная. Сегодня только ее и слышу.
Поезд незаметно замедлил ход. Узнаю вдалеке это странное, пестро раскрашенное здание, что-то вроде водонапорной башни, закамуфлированной каким-нибудь фовистом. Меньше километра осталось. Трехзвездочный кривит рожу:
– Так это ты вызывал?
У него из памяти еще не выветрилась наша недавняя стычка, и он небось думает, что я это сделал нарочно. Излагаю факты за тридцать секунд. Представляю, что у него в башке: «И надо же было этому свалиться именно на меня!» Полностью солидарен. Он обшаривает, обнюхивает, ощупывает и постановляет:
– Мне сходить через десять минут. Успею только составить акт о пропаже.
Он достает бланк, и тут крикун взрывается. Но трехзвездочный к дискуссиям не расположен:
– Послушайте, больше я ничего не могу сделать. Сейчас будет таможня. Они там все-таки жандармы, вот пусть и разбираются.
– Уж я с ними поговорю, увидите! Они все тут перероют!
Он все еще не сдается, но я, по крайней мере, тут уже больше ни при чем. Пускай сами выпутываются. Но тут вдруг поднимается американец и обводит глазами обитателей купе. Соня отводит взгляд.
– Может, еще немного поискать? В ресторане, например… – говорит американец.
Никто не отзывается. На этом я возвращаюсь к себе и плотно захлопываю дверь, чтобы отмежеваться от этого бардака. Раскладываю кресло, превращая его в кушетку, и готовлю постельные принадлежности в стиле профи. Сложить одеяло пополам в ширину и обернуть его простыней, как пододеяльником, чтобы получился матрасик, повторить операцию со вторым одеялом и проскользнуть между ними, положив под голову две подушки. Тепло, мягко, а главное, избегаешь подцепить какую-нибудь гадость. В тот единственный раз, когда я видел типов, занятых чисткой одеял, на них были противогазы и они устраивали какой-то странный дождь из опрыскивателей. Надо быть психом, чтобы ложиться прямо под одеяло с голым торсом, как некоторые пассажиры, а я такое частенько наблюдал. К тому же все равно невозможно спать упакованным, будто кусок мяса, если приходится вскакивать по двадцать раз за ночь. Я отстал от своего графика, обычно койку себе я готовлю в Доле. Чаще всего именно там я осознаю, что Париж уже не более чем воспоминание. Чем больше буду спать, тем быстрее окажусь дома, а там уже я не стану ложиться, следующий раз слишком скоро.
Вечерами вроде этого я проклинаю всю железнодорожную систему. Поезд, представление о поезде, фильмы, романы, вся эта священная аура вокруг гусеницы из листового железа, которая делает тук-тук, тук-тук, а затем, когда малость разгонится, тата-там, тата-там. Все это меня раздражает. В сущности, я закоренелый домосед, я люблю, растворив окно, видеть неизменную булочную напротив. А когда я качу по рельсам – это сплошная лотерея, за поднявшимся занавесом может оказаться день, ночь, город, деревня, чистое поле, вокзал. Я могу столкнуться нос к носу с обитателем веронского предместья, которому любопытно, прижавшись к стеклу, поглазеть на спящего парижанина. Вначале это меня забавляло, я буквально обжирался такой непредсказуемостью, но с тех пор бегу от нее как от чумы, как от того типа, что позволил стащить свой бумажник и все уши мне проорал. В этой работе я не нахожу больше никакой поэзии, никакого восторга, вот уже несколько месяцев, как я полюбил упорядоченность и постоянство, это единственно возможная динамика будней. Пускай даже мои парижские приятели сочтут меня старым хрычом.
За два года я постарел лет на десять, тем лучше.
Свет погашен. Через три секунды я смогу различить светящиеся точки будильника. Может, стоило согласиться на Флоренцию? Хоть отдохнул бы от того безумного дня в Париже. Беготня по библиотекам, Бобур, Шайо, Национальный центр кинематографии, срочный сбор кучи сведений о режиссерах для Ларусса, раздел «Кино». Панический звонок с утра: у них, видите ли, не хватает биографии Люка Мулле, а ты поди попробуй его выследи. Если я и в самом деле получу то место, которым они меня соблазняют вот уже три месяца, брошу «Спальные вагоны» с треском, без выходного пособия и без предварительного уведомления.
Стук в дверь. А я уж чуть было полностью не отвлекся от поезда.
Американец? Его едва можно узнать – лицо изменилось, глаза тоже. Особенно глаза. Врывается в мое купе почти силой. А я спросонья позволяю ему помыкать собой.
– Слушайте, это специально, очень специально…
Он пришепетывает, у него выходит «спешиално». Наверняка хочет сказать «важно» или «срочно». А я все повторяю как заведенный: «успокойтесь» да «успокойтесь». Эти слова я вообще говорю чаще всего.
– Тот тип в моем купе совсем спятил из-за своего паспорта… и пяти тысяч франков… Если он скажет полиции, что тогда будет?
Легкое покалывание у меня в животе.
– Ну… э-э… они проверят… не знаю… со мной такое в первый раз… Как-то ночью они весь поезд прочесали вместе с одной девицей, чтобы опознать тех, кто ее изнасиловал. А сегодня не знаю… Не настолько серьезно…
– Паспорта будут проверять?
– Возможно. Вы ведь были в купе, так что немного… э-э… на подозрении.
Я произнес это, едва шевельнув губами, но он прекрасно все понял. Несколько немых ругательств, потом:
– Нельзя.
Молчание.
Вот она, неприятность. Настоящая.
– Чего нельзя-то? Ваш паспорт смотреть?
– Надо быть в Лозанне в 2:50.
– Так вы там и будете, не задержат же они поезд из-за какого-то бумажника!
Он осматривает мою кабинку и шевелит мозгами на полной скорости:
– Можно ведь заплатить тому типу, а? Десять тысяч – чтобы заткнулся.
Заткнулся! Его французский довольно неуклюж, но это он произнес отменно. Десять тысяч… Похоже, решил, что он в Нью-Йорке. Может, там бы это и прошло.
– Не советую.
Он бьет себя кулаком по туловищу и изрыгает какую-то фразу на своем языке – плевок со дна, скрежет ненависти, капкан. Тупик, западня. Dead end[3]3
Тупик (англ.).
[Закрыть]. Распахиваю дверь и выталкиваю его наружу. Он задерживается на секунду и пристально смотрит мне в зрачки:
– Нельзя. Я для этого все сделаю, понимаете?
Мое сердцебиение учащается, я едва успеваю собрать то, что мне осталось от дыхания.
– Уходите отсюда. Get out! You know, I’m working on these fucking trains four thousands five hundreds fucking francs each month, понятно? So get out of here right now. OK?[4]4
Уходите! Знаете, я работаю на этих траханых поездах за четыре тысячи пятьсот траханых франков в месяц… Так что убирайтесь отсюда немедленно. Ясно? (англ.)
[Закрыть]
Он выходит, смотрит в коридор. Выражение его лица снова изменяется, но уже в обратную сторону. Это словно прилив спокойствия. Я тоже неожиданно перевожу дух:
– В вашем положении было бы лучше сказать мне, чем вы рискуете. Может, предпочитаете говорить по-английски?
Он улыбается. Грязненькая такая улыбка, хоть и вполне белозубая. На этот раз в нем нет и тени беспокойства, его голос больше не дрожит. Решение принято, и, думаю, уже никто не сможет его переубедить.
– Тут можно кое-что спрятать… – говорит он, показывая на мое купе.
– Простите? Вы шутите? You’re joking?..
– Получишь двадцать тысяч, если кто-то проедет тут в Швейцарию. Идет? Это четыре месяца работы, no? Всего два часа, и он сойдет в Лозанне.
Это я отлично понимаю. В моей убогой карьере такое случалось всего дважды. Первый раз с одним аргентинцем без визы, который предлагал мне пять тысяч, а я отказался. Сегодня я собираюсь отказаться от вчетверо большего. Четыре месяца пахать, это верно. Я даже представить зрительно не могу эту сумму, я всего лишь перевожу ее в зарплату. Я откажусь, но вовсе не из-за этики. Просто боюсь тюряги.
– Только не объясняйте мне, зачем вам надо перебраться через границу. Выйдите из этого купе. Я не чиновник и не легавый, просто хочу спокойствия. Никаких заморочек. Вы понимаете – заморочек? No trouble.
– Тридцать тысяч. Это не гангстерское дело и не наркотики, ничего плохого…
– Тогда чего же вы боитесь?
– Я? Ничего. Я-то могу въехать в Швейцарию. Но не мой друг.
– А? Вы что, издеваетесь надо мной, какой еще друг? Ваша история того… с душком. It stinks.
Я толкаю его в плечо, наваливаясь на дверь. Из нас двоих он сильнее. Теперь он смотрит на меня как на врага. Как-нибудь ночью в темном переулке такой взгляд означал бы неминуемую смерть.
– You don’t want trouble but looking for it. OK.[5]5
Вы не хотите неприятностей, но сами на них напрашиваетесь (англ.).
[Закрыть]
Он ослабляет нажим, не настаивает больше, словно желая этим сказать, что уже слишком поздно и он как-нибудь обойдется без меня.
Несколько капель пота блестят на моем воротничке, поезд замедляет ход, я приоткрываю окно. Становится прохладнее, зато удесятеряется шум; приходится выбирать. Вспоминаю взгляд того аргентинца после моего отказа, я читал его мысли. У меня было странное ощущение, будто это я убил его демократию – я один – и вынудил его к изгнанию.
Легавые появятся через пять минут.
Мне наверняка надо было согласиться на Флоренцию. В конце концов, не настолько уж это и дальше от Парижа. В 8:30 в пятницу утром. Как все.
Толчок прижал мои колени к стенке, правая рука упала на пол. Если бы я стоял, то врезался бы головой в шкафчик. Поезд застыл в ночи после пятнадцати метров торможения, а это не слишком много, чтобы успеть повернуться, всего восемь секунд от ста двадцати в час до нуля. Аварийная остановка – штука резкая, я не очень-то с ней знаком. За два года лишь четыре раза. Поднимаюсь и выхожу в коридор как можно скорее, даже не обувшись. Шок, удивление, сирена, людские лица, впопыхах напяленные пижамы, контролеры, проверяющие рукоятки стоп-кранов одну за другой, чтобы выключить сигнал тревоги. Сталкиваюсь с трехзвездочным, который ничего мне не говорит – видно, забыл, что я проводник. Дернуть ручку могли где угодно, хоть за десять вагонов от моего собственного. Пассажиры-то меня не забыли, и со всех сторон сыплются вопросы. Какой-то мальчишка плачет, мать растирает ему лоб. В коридоре суматоха. Самое время проявить немного авторитета.
– Возвращайтесь в свои купе, чтобы облегчить работу контролеров!
Ну да, как же… С таким же успехом можно на моторный вагон помочиться. Они решили меня не слышать. Приходится загонять их одного за другим при большой поддержке «пожалуйста» и «прошу вас». Нет, это не паника, это больше похоже на любопытство обыкновенных уличных зевак, ожидающих удара после резкого скрипа колес. Возле первого купе чувствую на лице холодный сквозняк. Однако все окна закрыты. Вижу, как на дальней площадке трехзвездочный снимает фуражку и входит в туалет. Звонок тотчас же замолкает. Дверь в тамбуре открыта. Все понятно: стоп-кран дернули в сортире, а тремя секундами позже тип уже растворился в ночи. Ищи ветра в поле. Высовываю нос наружу: трехзвездочный стоит внизу, у подножки, ничего не видно, разве что красный свет вдалеке, в голове поезда.
– Видишь что-нибудь?
Ни одного постороннего силуэта, ни одного движения, только ветерок шелестит в кустах. Черная дыра.
Он поднимается, гроздь любопытных пассажиров чуть не выталкивает нас наружу. Пустые вопросы. Ночная свежесть высушила мой пот. Он хлопает дверью, что-то крикнув зевакам, и мы трогаемся.
– А ты достань свою схему, билеты и броню, я схожу за коллегой, и соберемся у тебя.
Поголовная проверка. Полный список пассажиров, все посадки, все выходы. И это лишь для того, чтобы ответить на один-единственный вопрос: кто? Возвращаюсь к себе. Вижу, как маленькая дама в ночной рубашке засовывает голову в мое купе. Я его даже еще не закрыл, хотя терпеть не могу, когда суют нос в мои дела.
– Что желает мадам с сорок шестого? Случилось что-нибудь, а, мадам с сорок шестого?
Она прямиком устремляется на свое сорок шестое место, не прося добавки. Заранее знаю, что к бумагам никто не прикасался: у меня привычка засовывать их в один уголок, совершенно незаметный, если не знаешь, что тут к чему. Все на месте. Ложусь в ожидании служивых. Гам в коридоре становится потише.
Я был бы не прочь знать общий итог: детишки, свалившиеся с полок, старички, врезавшиеся в сортирное стекло, – вообще подробный перечень веселеньких травм и увечий.
Кто? Они и в самом деле хотят знать кто? Американец, конечно, и пока я единственный это знаю.
У меня его билет и паспорт. Стучат.
– Ну, что я вам говорил? Я один в купе остался, а эти двое смылись с моим бумажником. Они же в сговоре были, а их никто не обыскал, пока было можно.
Один? Соня тоже исчез? Выходит, это он и есть тот друг… Друг, который не мог перейти границу. Который только о сне и думал. Они даже ни разу между собой не заговорили. Наверное, мне надо быть повежливее с этим крикуном, сказать ему что-нибудь, но что? Он и прав, и не прав, понятия не имею, что сказать полицейским. Чтобы пуститься в бега, бросив паспорт, надо иметь веские причины – какие-нибудь международные махинации, Интерпол и все такое прочее. Не знаю, что и думать…
Жду контролеров, таможню, делаю все, что просят, – и баста, спокойной ночи. «Галилео», ты меня доконал.
* * *
Они записали мое имя, прежде чем уйти, где-то в полпервого, это двадцать минут отставания от графика. Я рассказал о попытке подкупа со стороны американца, чтобы прикрыться в случае чего. Фараоны поиграли со своими рациями, запрашивая центральную, но я так и не понял, числились те двое в розыске или нет. Что вообще можно понять по физиономии таможенника? Ни малейших следов удивления или волнения. Однажды я наблюдал, как один из них вытащил со дна сумки со жратвой носовой платок, набитый бриллиантами. Там еще оказалось маленькое полотно ex voto[6]6
Приношение по обету – картина или табличка с выражением благодарности, вывешиваемая в церкви (лат.).
[Закрыть], украденное три месяца назад из одного аббатства, а таможенник, казалось, думал при этом о чем-то постороннем – о жене, о сыне-оболтусе, прогуливающем уроки, о своей любимой сонате.
Крикун при виде новых фуражек немного успокоился, и это лишний раз доказывает, что контролер Французских железных дорог больше похож на шута горохового, чем на жандарма. В коридоре ни души – ни зевак, ни любопытных, всех как ветром сдуло, будто у каждого в сумке кило кокаина припрятано. Люди опускают глаза, ожидая, пока все не пройдет. Я тоже часто так делаю, но только не сегодня ночью. Я без конца зеваю и выражаю глубочайшую скуку.
Спокойствие вернулось. Американец наверняка себе все, что можно, в кустах отморозил, да и тот, другой, тоже небось не слишком наслаждается желанным комфортом. Ладно, пускай этим полиция занимается. Завтра я угощусь кофейком во «Флориан», а послезавтра буду уже в Париже, рядом со своей брюнеткой[7]7
Намек на известную народную песенку с припевом: «Рядом с моей блондинкой так хорошо мне спать». (Здесь и далее прим. перев.)
[Закрыть]. Но прежде всего этого – спать и еще раз спать, ночью, днем, видеть сны повсюду, все время, сейчас же.
Если уж им так нужны мои показания, они могли бы со мной и в Париже связаться. Все что угодно, только бы убрались отсюда. Появляются швейцарские таможенники и удаляются, ни о чем не спрашивая. Я потягиваюсь вовсю, когда меня застает Ришар:
– У тебя, что ли, сыр-бор?
– Завтра. Все расскажу завтра.
– А со стоп-краном кто постарался?
– Ты что, нос себе расквасил, когда «телик» смотрел? Извини.
– Смейся, смейся. Сначала на аварийную остановку время потеряли, потом еще в Валлорбе двадцать минут. Швейцарцы-то попробуют пятнадцать из них наверстать, а вот зато итальяшки растянут удовольствие часов до двух.
Вполне возможно. Машинист французского или швейцарского локомотива получает премию, если наверстает опоздание, а итальянец, наоборот, – за сверхурочные часы. Вот в чем секрет опоздания итальянских поездов. Однажды я ждал пересадки на вокзале Прато, и мой поезд явился аж с четырьмя часами задержки. Завидев контролера этих апатичных Ferrovie dello Stato[8]8
Государственные железные дороги (ит.).
[Закрыть], легонько потешаюсь:
– Молодцы, FS, как всегда, вовремя! Четыре часа – тут вы все-таки малость перестарались, не находишь?
Но он выдает мне ухмылку, бросающую вызов любой иронии:
– Вот еще! Тот, на который ты сел, – это вчерашний.
Двадцать восемь часов опоздания! Так что я заткнулся в тряпочку.
Ришар вздыхает.
– Ты-то чего в Венецию торопишься? – спрашиваю я.
– У Пепе после десяти больше не обслуживают. К тому же у меня на девять партия в скопу назначена.
– Жуть… уж я-то знаю. Все эта работа чертова… Ладно, иди дрыхни. Я дождусь швейцарских контролеров и тоже падаю.
Он возвращается к себе раздосадованный, заранее оплакивая свою партию в карты. Эрик ко мне так и не заглянул. Могу считать, что у меня одним врагом больше в «Международной компании спальных вагонов и туризма». Там видно будет. Всегда можно склеить осколки.
Бывают редкие моменты душевного спокойствия в этих треклятых поездах, последняя сигарета например. Лежишь, вытянувшись, на мягком ложе из одеял, без ботинок, блуждая взглядом по сумраку гельветического пейзажа. Самая распоследняя сигарета – это блаженство сродни отеческому: малыши уложены спать, завтра я их разбужу рано поутру, и для них это будет так же мучительно, как и для меня, но пока еще краснеет пепел на кончике моей сигареты, поезд мурлычет, и луна вот-вот зальет голубоватым светом потемки моего купе.
Спокойной ночи.
* * *
Я даже не слышал, как они вошли. Они ослепили меня, включив верхний свет, резкий и желтый, ударивший по глазам будто ножом. Я едва успел задремать. И как можно быть швейцарцем, да еще контролером? Это уже чересчур.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































