Текст книги "Женщина с Андроса"
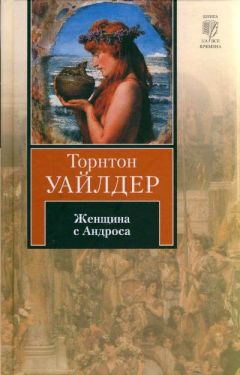
Автор книги: Торнтон Уайлдер
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
«Я жило в одиночестве и умру в одиночестве», – словно стонало оно.
По дороге домой Хризия разразилась страстным внутренним монологом: «Вся беда во мне самой. Я не умею любить по-настоящему. И знаю это. Что ж, Хризия, надо начинать жизнь сначала. Следует целиком посвятить себя пастве. Ты должна растопить лед между ними и тобою, пробить стену. Ты должна заставить себя снова полюбить их. Ты должна вновь ощутить ту радость, что испытывала при первой встрече с каждым из них. Рутина, каждодневное общение – вот что убивает. Но любить людей только при первом знакомстве – это трусость. А ну-ка, Хризия, встряхнись!»
В сотый, должно быть, раз женщина ощутила прилив надежды и мужества. На сей раз она победит. Приближаясь к дому, Хризия вся дрожала от нетерпения. Она действительно превратит жилище в дом.
«Если бы я по-настоящему любила, поняла бы их, – говорила она сама себе. – Жить никогда не научишься или научишься, когда уже слишком поздно, когда все испортишь, да так, что ничего уже не поправить. Но мне предстоит прожить на этой земле пятьдесят лет, и у меня должно все получиться».
Хризия не сразу поняла, что произошло в доме, пока ее не было. Уходя, она даже не заметила, что он пуст. Ее паства рассеялась. Она пребывала в сильной тревоге. Люди метались у ворот, вглядываясь туда, откуда она должна появиться, и единственное, что они сейчас испытывали, так это обиду, каковая являет собою еще одно свидетельство преданности. Хризия не отдавала себе отчета в том, что подобное изъявление любви в форме обиды есть одно из характернейших явлений этого мира. Пока ее не было, людей охватил страх. Их зависимость от нее была настолько велика, что даже краткое ее отсутствие напоминало им о лишениях, от которых теперь они были избавлены, об обстоятельствах, которые были столь ужасны, что сознание стремилось их упразднить, но которые тем не менее виднелись где-то вдалеке, с особой силой заставляя людей ощутить блага нынешнего своего положения и лишь укрепляя их в эгоцентризме. Все эти чувства выплеснулись на Хризию, когда она с трудом переступила порог своего дома. В середине дня она говорила себе, едва не впадая в истерику: «Нет, это невозможно. Я ничего не могу изменить. Ведь они попросту ненавидят меня. К счастью, я мертва. И вовсе не гордость моя задета. Я мирно покоюсь в земле. И все же, все же… как хочется, чтобы кто-нибудь пришел на помощь в таких делах. Если бы только боги хоть изредка спускались к нам, людям. И ничего не надо, лишь бы грела мысль, смутная мысль, что смысл жизни есть».
В застолье Хризия рассчитывала найти отдохновение.
«И это тоже трусость с моей стороны, – говорила она себе, – быть счастливой только с гостями, когда я могу направлять ход беседы, высказывать всякие мысли и быть предметом восхищения».
Но сегодня даже и в такой обстановке ей было не по себе. Гости казались более чужими и более молодыми, чем обычно, а она, в свою очередь, более капризной, чуть ли не раздражительной. Неудивительно, что и в беседе она почти не находила удовольствия.
Один из ее гостей, Никератий, выделявшийся уверенностью в себе, спросил Хризию, какой будет жизнь через две тысячи лет.
– Ну, прежде всего, – живо откликнулась она, – на земле не будет войн.
– Мне не хотелось бы жить в мире без войн, – возразил он. – Это будет эпоха женщин.
Хризия была задета этим оскорблением женского достоинства и не упустила случая бросить вызов столь явному унижению ее пола.
– Скажи, Никератий, ты хотел бы послужить государству?
– Да.
– И ты ценишь мужество?
– Да, Хризия, мужество я ценю.
– В таком случае попробуй родить ребенка.
Никератий нашел это замечание неуместным и покинул дом. Он пропустил следующие два застолья, но затем вернулся и попросил прощения за то, что позволил себе принять расхождение во мнениях за личную обиду. Признание своих ошибок всегда доставляло Хризии огромное удовольствие.
«Прочнее всего те связи, – любила повторять она, – что вырастают из заблуждений и готовности их простить».
Затем разговор перешел на пьесы о Медее и Федре, которые она читала гостям раньше, а также вообще на проявления безумной страсти. Молодые люди в голос заявили, что проблема совсем не так сложна, как кажется, и что таких женщин следует просто подвергнуть бичеванию, как провинившихся рабов, а затем запереть в комнату, посадив на хлеб и воду, пока не смирят гордыню. А потом кто-то из гостей, чуть ли не шепотом, поведал Хризии историю о местной девушке, чье поведение шокировало ее семью и друзей. Какое-то время девушка ни на что не обращала внимания, демонстративно продолжая свои безобразия, а потом поднялась на высокую скалу рядом со своим домом и бросилась в море.
Наступило молчание. Все вопросительно смотрели на Хризию, ожидая толкования столь удивительного исхода.
«Даже не пытайся ничего им объяснять, – подумала она. – Поговори о чем-нибудь другом. Глупость повсеместна и непобедима».
Но выжидательные взгляды все же оказали на нее воздействие. Какое-то время Хризия, задетая до глубины души, словно боролась с собой, потом негромко заговорила:
– Как-то, давным-давно, собралось вместе множество женщин. И пригласили они на свою встречу мужчину, поэта-трагика. Они сказали ему, что хотят отправить послание всему мужскому миру и именно его выбирают в качестве своего посредника и вестника.
«Передай им, – настойчиво заговорили они, – что наше непостоянство – всего лишь видимость. Скажи им, что все дело в том, что мы слишком зависим от своей природы, но в глубине души взываем к их терпению. Мы так же стойки, храбры и мужественны, как они».
Поэт печально улыбнулся и ответил, что мужчины, которым это и так известно, лишь постыдятся выслушивать это вновь, а те, кому неизвестно, ничего не извлекут из одних лишь слов. Тем не менее он согласился передать послание. Поначалу слушатели встретили его молча, затем один за другим расхохотались. И отправили поэта назад, к женщинам, со словами: «Передай им, пусть успокоятся и не забивают свои чудные головки подобными рассуждениями. Скажи им, что слава их не угасает, и пусть не геройствуют, подвергая ее опасности».
Когда поэт передал эти слова женщинам, иные залились краской стыда, другие – гнева, а кое-кто устало вздохнул: «Не стоило отправлять им никаких посланий».
Они вернулись к своим зеркалам и принялись расчесывать волосы. И, расчесывая волосы, они рыдали.
Едва Хризия замолчала, как молодой человек, почти не принимавший до того участия в общем разговоре, внезапно обрушился на нее с упреками в неправедном способе существования. Он был из тех, кто меряет чужую жизнь на свой аршин, стремясь по собственному усмотрению заставить людей играть ту или иную роль. Сейчас он хотел сделать Хризию служанкой или швеей. Гости начали перешептываться, отворачиваясь кто в смущении, кто в гневе, но Хризия смотрела прямо в горящие глаза юноши и восхищалась его прямотой. Была в этом уничижении, накладывающемся на собственную подавленность, даже некоторая гордость. Она и без того была расстроена недавней стычкой с Никератием и теперь решила проявить великодушие. Хризия встала и подошла к молодому фанатику. Взяв его за руку, она грустно улыбнулась и сказала, обращаясь ко всем:
– Из всех форм гениальности у праведности явно самый долгий переходный возраст.
Но не таковы были эти события, чтобы заставить Хризию забыть неизбывные переживания дня.
«Тщета. Пустота. Непостоянство», – повторял ее внутренний голос.
Как раз в тот самый момент, когда Хризия была уже готова подвести общий итог дню, признав, что ей нечего дать жизни, нет ей места на этой земле, взгляд ее упал на Памфилия. Человек застенчивый, он всегда усаживался в самом дальнем углу комнаты. Другие признавали его превосходство, но когда однажды вознамерились выбрать Царем застолья, он, не повышая голоса, но с полной решительностью заявил, что отказывается, и голоса были отданы другому. Хризия часто, как и сейчас, останавливала взгляд на подавшейся вперед фигуре молодого человека, который сосредоточенно ловил каждое ее слово.
«Каков юноша!» – внезапно сказала она себе, и на мгновение сердце успокоилось.
Она собиралась прочитать сегодня «Облака» Аристофана, но передумала. Хризия ощутила потребность насытить сердце и эти впившиеся в нее внимательные глаза чем-то возвышенным и глубоко прочувствованным. Возможно, то, что она называет «возвышенным», на самом деле представляет собой в этом мире лишь красивую оболочку фальши, обман сердца. Но нынче вечером она сделает еще одну попытку, посмотрит, не получится ли после такого пропащего дня зажечь хоть искорку уверенности в себе.
– Так что же все-таки почитать? – спрашивала она, пока отодвигали столы. – Гомера? Например, эпизод, в котором Приам просит Ахилла отдать тело Гектора? Нет… Нет… И «Эдип в Колоне» тоже до них не дойдет. Тогда, может, «Алцеста»? «Алцеста»?
Один гость, из тех, что позастенчивее, видя, что Хризия никак не может на чем-то остановиться, робко предложил почитать «Федра» Платона.
– В эту книгу я уже несколько лет как не заглядывала, друг мой, – возразила Хризия. – Придется импровизировать целыми строфами.
– А не могла бы ты… не могла бы прочитать начало и конец?
– Ладно, попробую, специально для тебя. – Хризия медленно поднялась и расправила подол платья.
Слуги удалились, наступила тишина. Именно такие моменты (если застолье получалось удачным) Хризия больше всего и любила – это молчание, эту напряженность, этот восторг с легким налетом юмора.
«Что делает их в течение каких-то пятнадцати лет, – спрашивала и переспрашивала она себя, – такими испорченными… такими надутыми, или завистливыми, или натужно веселыми?»
Сначала все шло хорошо. Молодые люди с восторгом внимали рассказу о том, как некогда их сверстники собирались на афинских улицах и палестре послушать Сократа. А слушая, не могли не признать, что ничто в мире не ценится так высоко, как красиво выстроенная речь. Далее следовало описание прогулки Сократа и Федра по сельской местности.
«Какое, право, чудесное место для отдыха. Этот платан не просто высок, он могуч и пышен листвою. А этот кактус в самом цвету, и тень от него, и аромат дарят нам здесь особую приятность. А эти изваяния и эти жертвоприношения убеждают, что место это – святилище нимф и кого-нибудь из речных богов… Право, Федр, ты прекрасный проводник».
Тут Хризия перешла к финалу:
«Однако пора возвращаться, жара прошла.
Сократ. А не следовало бы, перед тем как идти, вознести молитву богам этого места?
Федр. Ты прав, Сократ.
Сократ. О, возлюбленный Пан и вы, иные боги, что освящают это место, даруйте мне красоту внутреннего мира, и пусть все, чем я обладаю вовне, придет в согласие с тем, что находится внутри. Да научусь я считать богатыми только тех, кто мудр. И да удовлетворюсь я таким количеством денег, что не превосходит потребностей творить добро. Как ты считаешь, Федр, следует ли нам добавить к сказанному что-нибудь еще? По мне так этой молитвы достаточно.
Федр. И пусть та же молитва и мне сослужит свою службу, ибо такими вещами друзья делятся».
До этого места все шло хорошо. Но тут Хризия, безмятежная, счастливая покойница, увидев слезы на глазах Памфилия, остановилась и, глядя в эти глаза, разрыдалась – так рыдает тот, кто, предавшись соблазнам безрассудства и своеволия, возвращается в любимые края и к старым привязанностям. Правда, безусловная правда, трагическая правда заключается в том, что мир любви, достоинства и мудрости – это и есть истинный мир. И тем сокрушительнее выглядит ее поражение. Но она не одинока: подобно ей, он, Памфилий, тоже был свидетелем продолжительной и проигранной войны, и она любила его так, словно любит впервые, и так, словно полюбить уже больше не дано. Это непреложно, это заповедано навсегда.
Хризия быстро взяла себя в руки и успокоительно обратилась к гостям, в тревоге склонившимся к ней:
– Садитесь, друзья мои. Со мной все в порядке. – Она улыбнулась. – А сейчас я почитаю вам «Облака» Аристофана.
Но прошло еще некоторое время, перед тем как в зале зазвучал смех как заслуженная дань божественному таланту автора «Облаков».
* * *
Бринос поднялся с рассветом, и уже через несколько часов утренние труды были окончены. Через несколько дней после описанных событий Памфилий, сделав на складе то, что велел отец, и не чувствуя настроения заниматься спортивными упражнениями, отправился на прогулку. Стояла ранняя весна. Сильный ветер гнал по небу облака, море покрылось белыми барашками. Порывы ветра трепали одежду и волосы Памфилия. Даже чаек порою внезапно срывало с места, и, распластав крылья, нахохленные, они с сердитыми криками взмывали в фиолетово-голубое небо. Памфилий был человеком серьезным и основательным, и никакое опьянение ветром и солнцем не могло прогнать тревогу, с какой мысли его сейчас обратились к Хризии и Филумене, а также к четырем членам его семьи. Он бродил посреди скал и ящериц и диких карликовых маслин, когда внимание его неожиданно оказалось привлечено к тому, что происходило на склоне холма, слева от него. Несколько городских мальчишек преследовали юную девушку. Та отступала вверх, пробираясь заброшенным садом и пренебрежительно отругиваясь от обидчиков. У тех злоба превратилась в ярость. Они разразились потоком брани и принялись швырять в девушку камнями, правда, мимо. Памфилий подошел к ним и жестом велел убираться. Девушка с пылающим лицом, прислонившись к дереву, недоверчиво следила за его приближением. Какое-то время они молча смотрели друг на друга. Наконец Памфилий проговорил:
– Ну и что все это значит?
– Это просто деревенские олухи, вот и все. Никого, кроме земляков со своего несчастного Бриноса, они в жизни не видели. – И от злости и обиды девушка безудержно и горько разрыдалась.
Памфилий дал ей выплакаться, а потом поинтересовался, куда она шла.
– Никуда. Просто вышла прогуляться, а они преследовали меня от самого города. У меня нет никакого дела. Мне некуда идти… Я ничего им не сделала. Просто вышла погулять, а они стали обзываться. Все никак не хотели отстать. Я тоже начала обзывать их по-всякому. Тогда они принялись швырять в меня чем попало.
– Мне казалось, я всех знаю на острове, – задумчиво проговорил Памфилий, – но тебя вижу впервые. Ты давно на Бриносе?
– Почти год, – ответила она и добавила невнятно: – Только я почти не выхожу из дома… и вообще…
– Не выходишь из дома?
– Ну да. – Девушка потеребила платье и грустно посмотрела на море.
– Тебе стоило бы познакомиться с кем-нибудь из местных, вместе бы и гуляли.
Она повернулась и посмотрела ему прямо в лицо:
– Я никого здесь не знаю. Я… я все время сижу дома. Мне не разрешают выходить на улицу, разве что вечером, когда я гуляю… ну, с Мизией. – Девушку продолжало трясти от рыданий, но она уже приводила себя в порядок: приглаживала волосы, поправляла платье. – Не понимаю, зачем им понадобилось швыряться камнями…
Памфилий молча и печально смотрел на нее. Наконец он встряхнулся и проговорил:
– Видишь тот большой валун? Почему бы тебе не присесть?
Девушка последовала за ним, все еще приглаживая волосы и вытирая глаза и щеки.
– У меня есть сестра примерно твоего возраста, – продолжал Памфилий. – Ты могла бы завязать знакомство с ней. Гуляли бы вдвоем, вот и перестала бы быть у нас чужой. Ее зовут Арго. Уверен, вы понравитесь друг дружке. Сестра сейчас шьет матери большую накидку и рада будет твоей помощи. И она бы, в свою очередь, могла помочь тебе. Ты умеешь шить?
– Да.
– Вот и прекрасно, – улыбнулся Памфилий.
И в эту минуту Глицерия поняла, что полюбила его – навсегда.
– Я, должно быть, знаком с твоим отцом? – вновь заговорил Памфилий.
– У меня нет отца. – Девушка робко посмотрела на него. – Я сестра женщины с Андроса.
– Ах, вот оно что, – протянул пораженный Памфилий. – Я хорошо знаю твою сестру.
– Да, – кивнула Глицерия. Ее ясные повлажневшие глаза обежали морскую рябь, скользящих в небе птиц. – Она не хочет, чтобы кто-нибудь знал, что я здесь. Целыми днями я либо сижу на чердаке, либо работаю во дворе. Только вечерами мне разрешают погулять с Мизией. Даже сейчас мне следовало быть дома, я просто нарушила обещание никуда не выходить. Она ушла на рынок, а я… Мне хотелось увидеть, как выглядят остров и море днем. И еще я хотела высмотреть вдали Андрос, мою родину. Но мальчишки погнались за мной, принялись швыряться камнями, и теперь мне уж никогда не выбраться на волю.
Тут она разрыдалась еще сильнее, Памфилий же только и повторял: «Н-да» и «Вот оно что». Наконец он спросил девушку, как ее зовут.
– Глицерия. Хризия давно ушла из дома. Я осталась жить там с братом, но он умер, и я осталась одна. Отправиться мне было некуда, и однажды она вернулась и взяла меня с собой. Вот и все.
– А больше братьев и сестер у тебя нет?
– Нет.
– А кто такая Мизия?
– Она не гречанка. Родом из Александрии. Хризия подобрала ее. Все эти люди в доме… она просто подобрала их кого где. Она постоянно кого-нибудь подбирает. Мизия была рабыней в ткацком хозяйстве. Бывает, она рассказывает мне о тех временах.
Памфилий по-прежнему пристально смотрел на девушку. Она тоже, отведя свой неуловимый, ни на мгновение не застывающий на месте взгляд от моря, нацелилась на него своими огромными жадными глазами, ярко выделяющимися на бледном лице. Даже столь продолжительный взгляд уже не смущал ни его, ни ее.
– Хочешь, я попрошу Хризию позволить тебе гулять по острову днем? – предложил Памфилий.
– Если ей этого не хочется, не надо переубеждать ее. Хризия знает, что правильно, что неправильно. – Девушка отвернулась и негромко, с печалью в голосе проговорила: – Но что будет со мной? Неужели я навсегда останусь взаперти? Мне уже пятнадцать. В мире полно чудес, много замечательных людей, вдруг я ничего этого не увижу? Я знаю, не следовало мне нарушать обещание, но годами жить, ни с кем не знакомясь, и только слышать, как люди изо дня в день проходят мимо дома, и смотреть им вслед… Ты считаешь, я неправильно поступила?
– Нет.
– Я никого не знаю. Никого не знаю.
– Ну… ну, ты познакомишься с моей сестрой. А это будет только начало, – сказал Памфилий, задумчиво и восхищенно прикасаясь к кончикам ее пальцев.
– Да.
– Все всегда начинается заново. Я твой друг. И сестра моя станет тебе подругой. А вскоре у тебя появится много-много друзей. Вот увидишь.
– Но что со мною будет через пять лет? И через десять? – прорыдала девушка, дико озираясь вокруг. – Не знаю. Я боюсь. Я несчастна. Все в мире счастливы, кроме меня.
Сплетенье рук как первый знак любви, которому уже не повториться в своей простоте, кажется взаимодействием двух воль, союзом, направленным против непонятного мира. Его ладонь соскользнула с волос девушки на плечо, она повернулась к нему, слегка приоткрыв губы, не сводя смущенного взгляда, и вдруг обняла его за шею. Срываясь с ее губ, в уши ему хлынул поток почти невразумительной речи:
– Да. Да. Да. Я не могу оставаться здесь вечно. Мне не следует никого знать. Мне не следует никого видеть.
– Она разрешит тебе видеть меня, – сказал он.
– Нет, – возразила Глицерия. – Но я сама приду. Я не должна просить у нее разрешения. Все равно не позволит. Она всегда знает, как лучше. А мальчишки пусть швыряются камнями. Если ты рядом, мне все равно. Как… как тебя зовут?
– Мое имя – Памфилий, Глицерия.
– А можно мне… можно тебя так называть?
Нет, не при этом свидании, и не при следующем, но на третий раз Природа перевела на свой язык то ласковое рукопожатие, которое поначалу было знаком союза воль, сострадания и восхищения.
Все эти события происходили ранней весной. А как-то поздним летом, в полдень, Хризия незаметно выскользнула из дома и поднялась на возвышающийся прямо за ним холм. Ей вдруг безумно захотелось побыть одной и подумать. Она смотрела на сверкающую поверхность моря. Ветер в тот день дул несильный, и, подгоняемые им, на берег одна за другой набегали волны, замирая с протяжным шепотом в песке либо несмело поднимаясь пенным шлейфом на скалы. Вдали резвилась, играя в свои бесконечные игры, большая стая дельфинов. Кое-где на водной глади образовывались удивительные бледно-голубые лужайки и дорожки. А где-то совсем далеко угадывались лиловые очертания ее любимого Андроса, от которого она глаз отвести не могла.
Убедившись, что никого вокруг нет, никто за ней не следует, Хризия немного побродила на вершине холма, а затем направилась вниз по противоположному склону, в сторону своих любимых убежищ – скального выступа, нависающего над морем, и расположенной рядом с ним, скрытой от глаз пещеры. Уже почти дойдя до места, она ускорила шаг, почти побежала, и на бегу ласково шептала: «Мы вот-вот будем там, смотри, мы уже совсем рядом». Наконец, перебравшись через гряду валунов, вышла на сухую горячую песчаную косу, амфитеатром спускающуюся к морю, начала было расплетать волосы, но тут же резко остановила себя.
«Нет-нет. Надо подумать. Хорошо бы здесь вздремнуть. Но сначала надо подумать. Я скоро вернусь», – бормотала она на ходу, обращаясь к амфитеатру.
Хризия возвратилась к валунам и присела, упершись подбородком в ладони и устремив взгляд в сторону горизонта. Она застыла в ожидании мыслей.
Прежде всего следовало бы подумать о своем новом недуге. Несколько раз она просыпалась от мучительного трепыхания в левой стороне груди. Оно не унималось, становилось все сильнее, и в конце концов начинало казаться, что в сердце ей вгоняют острый кол. После этого весь день не оставляло ощущение, будто в этом месте давит какая-то тяжесть. «Наверное… скорее всего в следующий раз я от этого умру, – сказала она себе, и при этой мысли на нее накатило предчувствие. – Да, наверное, я умру от этого, – весело повторила она и с интересом принялась наблюдать за раками, копошащимися в лужице у ее ног. Она сорвала несколько травинок и повела ими прямо перед глазами-бусинами этих возмущенных существ. – Ничто, ничто не может заставить меня бросить свою паству. Но если я умру, они снова окажутся во власти обстоятельств, как и я. Глицерия, что будет с тобой? Апраксия, Мизия?.. Бывают времена, когда нам кажется, что все кончено. Но проходит пять лет, и мы спим и едим совсем в другом месте (шутка: разве сердце может столько выдержать?)».
– Ну что же, – произнесла она, обращаясь к боли, трепетавшей где-то внутри ее, – только приходи скорее. – Она наклонилась и снова стала дразнить раков. – Я прожила тридцать пять лет. Это много.
«Незнакомец, здесь лежит Хризия, дочь Архия с Андроса: овца, отбившаяся от стада, проживает в один день много лет и умирает в преклонном возрасте на закате».
Хризия засмеялась над иллюзорным уютом жалости к себе и, скинув сандалии, опустила ступни в воду. Она на мгновение отвлеклась, спрашивая себя, что есть в доме на ужин ее подопечным, но, вспомнив, что на полке остались рыба и немного салата, вернулась к своим мыслям. Потом еще раз повторила свою эпитафию, на сей раз напев ее как мелодию и в насмешку самой себе усилив ее ложную сентиментальность: «О Андрос, о Посейдон, как же я счастлива. Я не имею права быть такой счастливой…»
Глядя на гладкие спины дельфинов, все еще резвящихся в отдалении, она понимала, что уходит от другой проблемы.
«Я счастлива оттого, что люблю этого Памфилия – Памфилия озабоченного, Памфилия несмышленого. Ну почему ему никто не скажет, что страдание – вовсе не такая уж необходимость. – У нее вырвался легкий раздраженный смешок – укор бестолковому, неисправимому возлюбленному. – Ему кажется, что ничего у него не получается. Ему все время кажется, что он все делает не так. О боги Олимпа, пусть он хоть ненадолго освободится от жалости к тем, кто страдает. Пусть научится иначе смотреть на жизнь. Это что-то новое в подлунном мире – забота о сирых и недужных. Стоит предаться ей, и конца не будет – только безумие. Это путь в никуда. И вообще это дело кого-нибудь из богов. – Тут она обнаружила, что плачет. Но и утерев слезы, продолжала думать о нем: – Такие люди даже не отдают себе отчета в своей праведности. Они колотят себя по лбу из-за того, что ничего у них не получается, но мы-то, остальные, бываем счастливы, всего лишь вспоминая их облик. Памфилий, ты один из вестников будущего. Когда-нибудь мужчины будут похожи на тебя. Так не надо печалиться…»
Эти мысли отнимали слишком много сил. Она встала и, вернувшись к амфитеатру, легла на песок. Продекламировав негромко несколько фрагментов из текстов эврипидовых хоров, Хризия заснула. Она всю жизнь прожила на островах, и ни это жаркое равнодушное солнце, ни теплое равнодушное море, на поверхности которого играли его лучи, не были ей враждебны. Вот уже два часа, как однообразие солнца и моря обволакивало ее, не нарушая покоя дремлющего сознания. Как некогда сероглазая Афина стояла на страже, охраняя Улисса – она опиралась на копье, и большое ее сердце внимало протяжным божественным мыслям, что являли собою ее достояние, – так сейчас, прямо сейчас, время и место готовы были сойтись воедино и поделиться с нею своею силою.
– В один прекрасный день, – проговорила она проснувшись, – мы поймем, почему страдаем. Я буду под землею, среди теней, и чья-нибудь волшебная рука, какой-нибудь Алцест прикоснется ко мне и откроет смысл всего этого. И я буду часами тихо смеяться, как сейчас… как сейчас.
Она встала и собралась двинуться вверх по склону, когда, уже поворачиваясь, почувствовала, что ее тянет совершить какой-нибудь ритуал, чтобы отметить этот миг. Она распрямилась и протянула руки к садящемуся солнцу:
– Если ты все еще способно слышать молитвы из уст смертных, если наши порывы хоть сколько-нибудь задевают тебя, внемли мне. Придай Памфилию уверенность – пусть даже такую, какой ты одарило меня, при всем моем непостоянстве, – уверенность в том, что он прав. И вот еще что! (О Аполлон, говорю это не из тщеславия или гордыни – может, это просто слабость с моей стороны, может, есть в этом что-то ребяческое, может, это сводит на нет всю молитву…) Если это только возможно, пусть придет день, когда мысль обо мне или о том, что я когда-либо говорила, согреет его. И…
Руки ее опустились. Мир казался пустым. Солнце зашло. Море и небо внезапно отдалились, и Хризия осталась одна, со слезами на глазах и тревогой в сердце. Она сжала губы, отвернулась и прошептала:
– Видно, нет никакого бога. Надо все делать самим. Мы должны сами влачиться по жизни насколько хватит сил.
* * *
Напрасно Хризия позволила членам своей паствы привыкнуть к своему постоянному присутствию. В результате сейчас, когда она спала, их все больше раздражало ее затянувшееся отсутствие. По двое, по трое они подходили к двери с выражением наполовину надменным, наполовину встревоженным.
– Когда вернется, не вздумайте с нею заговаривать, – властно бросила Апраксия, долговязая хромоножка, которую Хризия подобрала избитой и брошенной умирать на окраине Александрии. – Сделайте вид, будто не замечаете ее.
– …На целый день ушла и никому ни слова не сказала.
– …А я так вам скажу: не хочу жить в доме, где меня ни в грош не ставят.
– …Даже меньше того.
Но тут случилось нечто такое, что заставило всех перестать ворчать. В стаде появилась новая овечка.
Благодаря посредничеству Симона деньги, предназначенные Хризией для недужного моряка, дошли до цели. Но опекунам Филоклия давно надоело присматривать за ним, да и деньги поступали нерегулярно. Так что они решили истратить полученную сумму на отправку его на Бринос. Для этого надо было выждать, пока в состоянии больного наступит просвет. Когда такой момент наконец наступил, они поспешно собрали его вещи, причесали и отвели на берег, где нашли курсирующее между Цикладами судно, капитан которого с готовностью согласился доставить его до места. И получилось так, что Филоклий оказался на Бриносе как раз в тот день, когда Хризия отправилась погулять в одиночестве. Мальчишке, прислуживавшему в одной из таверн, было велено отвести его в дом, и вот впавший в детство моряк оказался среди пансионеров-заговорщиков.
Десять лет назад Филоклий считался лучшим навигатором на Средиземноморье, первым по умению, опыту и известности. Он много раз был на Сицилии и в Карфагене, водил суда мимо Геркулесовых столпов, заходил в Финикию. Он месяцами плавал на западе в пустынных водных просторах в надежде открыть новые острова и вынужден был поворачивать назад, сталкиваясь с очевидными проявлениями гнева богов. Это сейчас мужчины либо моряки, либо торговцы, либо фермеры, а в великую эпоху они были прежде всего греками или афинянами, и жители островов причисляли Филоклия к этому роду, видя в нем титана былых времен.
Он был уже мужчиной средних лет, когда Хризия, оказавшись пассажиркой на его судне, направлявшемся в Египет, встретилась с ним впервые, и ее сразу поразило, что в нынешнем мире болтунов, в мире, где все размахивают руками, встречаются столь сдержанные на язык и в манерах люди. Кожа у него задубела на морских ветрах, ноги у него были всегда широко расставлены, словно влиты в колеблющуюся палубу. Он выглядел слишком крупным для повседневной жизни; даже глаза у него были необычными, словно не привыкли они к коротким расстояниям, будучи слишком натренированными видом звездных россыпей между облаками и очертаний мысов, проступающих сквозь пелену дождя.
Его закалили ветер, соль и лишения, а мироощущение, нельзя сказать что жизнерадостное, но глубокое, сформировалось под воздействием вынужденной аскезы и долгих морских походов.
Он был одним из тех, кого Хризия любила больше всех в жизни, и именно ей удалось открыть его тайну, заключающуюся в том, что вовсе не страсть к приключениям или жажда наживы влекли его в море. Он изживал время и искал, чем занять себя, чтобы уйти от жизни, потерявшей для него свой вкус со смертью дочери.
Оба они, и Хризия, и Филоклий, видели в глазах друг друга то, что их объединяет: в собственных глазах они были мертвы. Они жили в шаге от того «я», что придает человеку цельность, того «я», что представляет собою смесь уверенности в себе, алчности, тщеславия и легко уязвимой гордости.
Три года назад Филоклию пришлось командовать судами одного из греческих городов во время войны. Он был взят в плен, изувечен, и некогда могучий мужчина превратился в робкое дитя.
Паства с любопытством оглядывала вновь прибывшего, которого столь бесцеремонно затолкали в общий круг. Его расспрашивали, откровенно потешаясь над ответами, и потом посадили на скамейку на самом солнцепеке, где он мог бормотать сколько его душе угодно.
Вскоре после заката, с трудом передвигая ноги, во двор вошла Хризия. Она смущенно улыбалась и поправляла прическу.
– Извините, право, извините меня, дорогие мои. Прилегла на песок и заснула. Мне очень неловко. Извините за опоздание. – (Мужчины и женщины, насмешливо подняв брови, продолжали заниматься каждый своим делом.) – Апраксия, что-то случилось? – (С чисто александрийским высокомерием Апраксия откашлялась и принялась сосредоточенно отыскивать у себя под ногами какую-то нитку.) – Ладно, надо приготовить сегодня на ужин что-нибудь особенное.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































