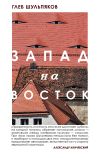Читать книгу "Чтение. Письмо. Эссе о литературе"

Автор книги: Уистен Оден
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Уистен Хью Оден
Чтение. Письмо. Эссе о литературе
© Издательство Ольги Морозовой, 2016
© Г. Шульпяков, составление, вступительная статья, перевод, 2016
© А. Курт, Б. Дубин, Н. Усова, перевод, примечания, 2016
© Д. Черногаев, оформление, 2016
* * *

“Хвала известняку”
Кристофер Ишервуд, университетский друг Одена, вспоминал об их встрече после долгих лет:
“Он нисколько не изменился, по-прежнему рано встает, пишет только при электрическом свете, без конца курит, отчего в доме всякий раз пропадают спички, выпивает в день по шестнадцати чашек чая, а ночью, замерзая, тащит на себя все, что попадется под руку, чтобы согреться”.
Это “холоднокровие” преследовало Одена с детства, причем буквально – кожа была тонкой – и с этой точки зрения жизнь поэта можно уподобить жажде согреться: чаем, любовью, путешествиями, фронтом, вином. Поэтической речью, наконец. В детстве сложился и тот пейзаж, который позже откликнется в его стихах: заброшенные угольные штольни, шахты и выработанные пещеры старой Англии, которую он видел, путешествуя по провинции с отцом. И если ранние стихи его подражательны и напоминают поэзию Фроста, то пейзаж в них, этот театральный задник – оденовские.
Чуть позже, в 20-е годы, прибавятся образы полуразрушенных фабрик. Это было время экономического кризиса, в поэзии царил Элиот, которым Оден увлекался по моде своего времени и даже отсылал стихи на отзыв. В это время он учится в Оксфорде, возглавляет “банду”, которую позже назовут “оксфордской школой поэтов”. Он пишет по три стихотворения в неделю, а вечерами бродит вокруг индустриальных развалин. На нем ирландский макинтош, в кармане пистолет на случай, если жизнь – пустяк, в черновиках – смесь заводского пейзажа с мифологическими персонажами в духе Элиота:
Возвращайся, коль можешь, скорее в родную страну
по размытым дорогам, где спят поезда, и ко дну
опускается ил – паутиной зарос дымоход,
и трамвая на сломанных линиях вряд ли кто ждет.
Там в котельных сквозняк, остывает там ночью вода;
на поваленных вышках без тока висят провода,
сорняки пробивают дорогу к реке сквозь гранит.
Бросишь камень и слышишь, как плещет внизу и шумит[1]1
Здесь и далее перевод стихотворений Г. Шульпякова.
[Закрыть].
* * *
Поэзию Одена принято называть сложной, чему есть объяснение: Оден был последним “идеологичным” поэтом своего времени, то есть мыслил стихами о том, что оправдывает или хотя бы объясняет человека и общество, которое он создал. Отсюда назидательность, часто режущая слух русскому читателю. Оден ищет идейную опору человеческому “я” в “век тревоги”: сперва в психоанализе, потом в марксизме, потом в христианской этике. Но логика поэзии приводит его к другому финалу, и этот финал – единственно универсальный – это язык, поэтическая речь сама по себе. Рассуждая об Одене-обличителе, богослове, лирике или драматурге, следует не забывать об этом. Отдаваясь идее, то есть, полагая ее единственно верной, Оден каждый раз создавал адекватную этой идее поэтическую форму. Быть может, высший смысл его поэзии заключается именно в адекватности как таковой, нежели в “узком” содержании, которое со временем неизбежно ветшает, как ветшает любая идея, когда ее время уходит. У Одена нет своего “поэтического лейтмотива” или “темы всей жизни”. В каждую эпоху он разный, мы узнаем его по языку, синтаксическому почерку, интонации.
Из Оксфорда Оден вышел с обширным опытом однополой любви, сдержанным отзывом Элиота о его стихах и книжечкой, отпечатанной в домашних условиях членом его “банды”, в будущем знаменитым поэтом Стивеном Спендером. Выйдя из университета, Оден путешествует. Его выбор – Германия. Оден увлечен психоанализом, к тому же сексуальные нравы в Берлине более раскрепощенные, чем в Англии: в двадцатых годах Берлин переживает сексуальную революцию. Оден трактует христианство в духе времени: Бог Отец олицетворяет инстинкт самосохранения, Бог Сын – инстинкт смерти, Святой Дух – либидо. Написанное Оденом в тот период так или иначе варьирует эту тему. Позже он увлекается марксизмом. Крах очередной идеологии не первый раз сопровождается бегством. Его путешествия в тридцатых годах – Исландия, Испания, Китай. Это не только поэтическая журналистика, но и проекция его душевных переживаний. Нас, однако, интересует наиболее ценный “поэтический выход” подобных странствий. В этом смысле можно выделить Исландию, гипотетическую родину предков Одена. На “северном острове”, куда он отправляется в творческую командировку на деньги издательства “Фабер и Фабер”, он пытается посмотреть на кризисную Европу со стороны и пишет огромное и великолепное “Письмо лорду Байрону” (1937) – пишет чосеровским пятисложником, который позволяет ему (как когда-то Байрону) рассуждать о кризисе современного общества.
К концу тридцатых он уже блестяще владел разными стихотворными формами. Мог написать туманную драму с аллегорическими персонажами и прозрачнейшее “Письмо лорду Байрону”. Всякий раз принимая ту или иную доктрину, он переживает ее слишком бурно, благодаря чему у него вырабатывается иммунитет против той или иной формы поэтической косности. Нужно переболеть идеей, чтобы избавиться от нее. Еще вчера он писал, что “поэзия – это формовка частных сфер из общественного хаоса”, а сегодня отправляется защищать республиканскую Испанию, желая участвовать в событиях своего времени.
Военная неразбериха в испанской республике, размытость и конъюнктурность ее идеологии, а также меркантильное отношение к Одену со стороны социалистов очень скоро снижают его политический пафос. Однако его поэтическая слава растет особенно быстро после выхода в свет поэмы “Испания”, написанной в жанре поэтической журналистики. “Фабер и Фабер” выпускает его книги, их рецензируют, цитируют, он становится известным, и даже Джойс упоминает имя Одена в “Поминках по Финнегану”, поскольку теперь он “примета времени”. Наконец, Одена удостаивают самой буржуазной награды в Англии: Георг VI вручает ему королевскую золотую медаль за достижения в поэзии, и Оден к неудовольствию социалистов принимает ее. В перспективе уже маячит карьера литературного мэтра, который мог бы занять место Элиота, но в эту решающую минуту Оден неожиданно говорит: “Англия как семья: ты ее очень любишь, но жить вместе не можешь”. Он едет в Китай писать о японо-китайской войне.
Он ничего не нашел, не открыл. Возвращаться не с чем.
Путешествие в мертвую точку было смертельной ошибкой.
Здесь, на мертвом острове, ждал, что боль в сердце утихнет.
Подхватил лихорадку. Оказался слабее, чем думал.
* * *
В географическом смысле первая строчка этого фрагмента не совсем достоверна: возвращаясь из Китая через Атлантику, Оден побывал в Нью-Йорке. Можно сказать, что, подобно знаменитому мореплавателю, путешествуя на Восток, он открыл Америку. Впоследствии, когда Оден переехал в Америку окончательно, многие писали о его измене республиканским убеждениям, об измене отечеству накануне страшной войны. Но современный человек не определяется единственным мотивом; тут был не только страх перед надвигающейся угрозой, но и интуитивное желание обновить поэтический язык, исчерпавший себя за десять лет поэтической деятельности, а теперь еще и оскверненный германской и антифашистской пропагандой. Поиск своего языка привел Одена на другой материк. Америка стала для него новым единством времени, места и действия. Оден и Ишервуд сошли на американский берег в день падения испанской республики, в чем при желании можно усмотреть символический смысл, о котором и пишет Оден в знаменитом программном стихотворении “1 сентября 1939 года”. Главную мысль стихотворения можно счесть банальной, но время показывает, что мы и сегодня вынуждены жить с этой банальностью, не можем “разрешить” ее, справиться с ней. Эта мысль – о фатальной неспособности демократии противостоять диктатуре сумасшедшего маньяка. Массы покорно следуют за ним в историческую пропасть. Добрая воля бессильна перед могуществом зла, а индивидуум – перед государственной машиной. Последняя строчка этого стихотворения: “Мы должны любить друг друга или умереть” (позже Оден поменял союз на “и”). В силу очевидности этого призыва перед лицом надвигающейся катастрофы стихотворение стало невероятно популярным. Правда, несколько лет спустя Оден отказался от него, заявив о “неизбежной нечестности содержания”. Нечестность заключалась в том, что содержание больше не соответствовало новому американскому Одену. Еще один период жизни закончился, еще одна война Добра со Злом была проиграна. Отступая перед Злом, Оден по-прежнему остается сторонником действия. В своих эссе он неоднократно повторяет: главное – это любовь к Богу и ближнему. Следуя этой заповеди, накануне войны он фиктивно женится на Эрике Манн, дочери Томаса Манна, чтобы помочь ей выбраться из нацистской Германии.

Оден в школьные годы.
В Америке Оден все чаще пишет о своих религиозных взглядах (рождественская оратория “В настоящий момент”, 1944) и об эстетических принципах (“Море и зеркало”, комментарий к “Буре” Шекспира, 1944). Оба этих огромных сочинения с точки зрения формы великолепны. После Д. Г. Лоуренса, Маркса, Кьеркегора, Элиота, Йейтса и Харди его кумиром становится тринадцатитомный словарь английского языка. Теперь, о чем бы Оден ни писал, его главным героем будет самый универсальный авторитет – поэтический язык.
* * *
Я закончил работу и молча сижу у окна.
Мои мысли подобны баранам – бегут кто куда
(в основном до уборной). А в сетке из ребер, как семга,
сердце лупит хвостом, и бежит за окошком поземка.
В Америке Оден погружен в рутину, он преподает и пишет отзывы, предисловия, критику. В 1963 году выходит однотомник избранной эссеистики “Рука красильщика”, лучшее из прозаического наследия поэта, книга, ставшая классикой жанра. В критической прозе Оден продолжает говорить о том же: о взаимосвязи темы и формы; о том, как поэтический материал сопротивляется идеям и даже сам навязывает их, как поэтическое видение мира определяет судьбу поэта и его книг, о тех, кто лучше всех это подтверждает. Фрост, По, Шекспир, Кавафис, Йейтс, Кафка – говоря о них, Оден демонстрирует самую замечательную смесь проницательности и бесстрастия, подтверждая слова Вордсворта о том, что непосредственное чувство слишком навязчиво, поглощено собой, а плодотворно лишь то, которое отстоялось. Отстраненность взгляда – особенность оденовской эссеистики. Он утверждает, что настоящее стихотворение “рождается” по вдохновению в не меньшей степени, чем из мастерства ремесленника. Оденовское предложение в этой прозе растянуто и уравновешено придаточными конструкциями. Спорить с Оденом в этих эссе бессмысленно. Оден уже решил для себя все.
Одна из особенностей эссеистики Одена, которую мы хотели бы показать в этой книге, – умение найти в пространстве темы точку опоры, с помощью которой можно неожиданно развернуть повествование. Например, “Отелло” он разбирает с точки зрения Яго, Йейтса подвергает судебному разбирательству, разговор о Фросте предваряет рассуждение о Просперо и Ариэле – двух ключевых для Одена героев Шекспира: первый олицетворяет структуру и ремесленный замысел, второй – ветреное вдохновение и непостоянство. Не менее важная пара в его пантеоне – Тристан и Дон Жуан (покорность судьбе или/и противление злу). Существенным для понимания мысли Одена, однако, является не мотив их действия или бездействия, а то, что мир остается недобрым везде и всюду, будь то Англия или Америка, хотя и подарившая Одену массу лингвистических открытий, но так и не решившая проблему его любовного одиночества. Таково настроение Одена в Америке вообще и в провинции, где он преподавал, в частности. Для его стиля той поры характерна элементарность прозаической мысли в сочетании с виртуозностью поэтического изложения. Язык объединяет времена и стили. Принцип коллажа, лежащий в основе поэтики Одена, напоминает живопись Пикассо и музыку Стравинского. Хрестоматийное стихотворение “Памяти У. Б. Йейтса” говорит о том, что поэзия способна пережить время и историю, но, увы, не способна изменить их хода. В этом стихотворении Оден, переживший войны и эмиграцию, вновь повторяет, что поэзия ничего не меняет в истории (Ирландии, в частности). Учитывая то, что в свое время идеологическая поэзия Йейтса существенно повлияла на Одена, текст можно рассматривать как эпитафию собственной юности, его социальным и идейным исканиям.
В дикции Одена “американского периода” принято отмечать горацианские интонации. Чем разнообразнее техника поэта, тем теснее его контакт со Временем. Оден по-прежнему живет в Америке, но лето проводит в Европе. Он купил небольшой дом на острове Иския в Неаполитанском заливе, о котором впоследствии напишет Бродский:
Когда-то здесь клокотал вулкан.
Потом – грудь клевал себе пеликан.
Неподалеку Вергилий жил,
и У. Х. Оден вино глушил.
В поэзии Одена снова появляется образ полых геологических пород. В стихотворении “Хвала известняку” он сравнивает святых отцов с гранитом, тиранов – с песком и галькой, но предпочтение отдает самому переменчивому персонажу, влюбленному и доверчивому человеку, чьей идеальной метафорой становится именно известняк, ибо время, вода и люди делают с ним все, что пожелают.
С конца пятидесятых Оден живет в Европе большую часть года, бывая в США наездами. У него дом в австрийской провинции, в Лондоне он гостит у Спендеров. Теперь он профессор Оксфорда. Когда он появляется на улицах этого городка в поношенном костюме, темной мятой рубашке и черных очках, его часто принимают за слепого джазмена или попрошайку. Его знаменитое пьянство общеизвестно: он не расстается с минибаром в форме саквояжа. Но это скорее дань его любимому персонажу Фальстафу. Наконец он переезжает в Европу окончательно. В нью-йоркском аэропорту, куда он, преследуемый вечным страхом опоздать, приезжает за три часа до рейса, к нему подходит незнакомый человек. “Простите, вы – Оден?” – спрашивает он и, получив утвердительный ответ, говорит: “Это была огромная честь для нас – то, что вы жили в нашей стране. Бог вам в помощь”.
* * *
Время, мы знаем, тебя не щадит, и разлука
наша печальна; я видел, как это бывает.
Помни: когда le bon Dieu скажет: “Брось его!”, тут же
ради Него и меня – уходи и не слушай
всех моих “нет-нет-нет-нет”.
Просто молча смывайся.
Строка Одена становилась все длиннее и монотоннее; язык и возраст уподобляли его поэзию Времени, а маятник, как известно, движется одинаково в любой точке мира. Таков и Оден. Его “универсальность” не позволяет нам отнести поэта к той или иной группе или течению. В его поэзии, как в музыке Стравинского, “много музык”. Как в зеркале, каждый видит в нем “своего Одена”, свой пейзаж – любовный, политический, христианский, фрейдистский.
Оден-идеолог менялся вместе со временем. Теперь, когда новый “век тревоги” набирает обороты, это отчетливо видно. Он не оправдывал своих увлечений, он даже пытался переписать, переделать их постфактум. Но как перепишешь прошлое и себя в нем? Наверное, главное для “поэта во времени” – соответствовать самому себе в этом времени. Прежде всего, Оден честен с самим собой. Он всегда был strictly authentic или, если позволителен каламбур, strictly audentic. Его поэзию трудно переводить на другие языки. Тут нужен не просто переводчик, а истинный виртуоз стиха. Идеальный образ для Одена, на мой взгляд, – все тот же известняк. Вглядываясь в эту страну пор и пещер, протоков и трещин, мы вспоминаем лицо Одена, изрезанное морщинами, и повторяем: “Хвала известняку!”
Глеб Шульпяков
Чтение
Книга – это зеркало: если в нее заглянет осел, вряд ли в ответ из нее выглянет апостол.
Георг Лихтенберг
Плодотворно только такое чтение, когда мы читаем что-то с определенной целью. Может быть, с целью обрести силу. Или из ненависти к автору.
Поль Валери
Интересы писателя и читателей всегда разные, и, если они совпали, это счастливая случайность.
Многие читатели убеждены в том, что к писателю можно подойти с двойной меркой: при желании они могут быть ему неверны, он им – никогда.
Читать – значит переводить, поскольку опыт у всех людей разный. Плохой читатель, как плохой переводчик: он буквально воспринимает то, что нужно перифразировать, и перифразирует там, где нужна буквальная точность. При чтении важна не столько образованность как таковая, (ценная сама по себе), сколько природное чутье; большие ученые нередко оказывались плохими переводчиками.
Мы часто можем почерпнуть из книги больше, чем хотел автор, но только в том случае, если, повзрослев, знаем, что стремимся к этому.
Как читатели мы похожи на мальчишек, которые подрисовывают усы девицам с рекламных разворотов.
Признак того, что книга обладает литературными достоинствами, – возможность разночтений. Напротив, если кто-то читает порнографию не для того, чтобы прийти в возбуждение, а с любой другой целью, скажем, чтобы узнать сексуальные причуды автора и их подоплеку, то невыносимое однообразие свидетельствует о ее бездарности.
Литературное произведение предполагает несколько прочтений, которые можно расположить в определенной иерархии: одно прочтение объективно “правильней” остальных, другое – сомнительно, третье – объективно неверно и, наконец, четвертое – нелепо, подобно чтению рассказа с конца. Вот почему читатель, оказавшись на необитаемом острове, предпочел бы хороший толковый словарь любому литературному шедевру: по отношению к читателям словарь абсолютно пассивен, и каждый вправе читать его по-своему.
Мы не можем читать неизвестного автора так, как читаем маститых. В книге нового автора мы ищем только достоинства или недостатки и, даже если видим и то, и другое, не замечаем их соотношения. Имея дело с известным автором (если мы вообще способны его воспринимать), мы точно знаем, что не можем наслаждаться его мастерством, не мирясь при этом с досадными промахами. Более того, мы воспринимаем его не только эстетически. Помимо литературных достоинств, его новая книга представляет для нас историческую ценность как творение человека, который нам давно интересен. Он уже не просто поэт или прозаик – он часть нашей биографии.
Поэт не может читать другого поэта, а прозаик – прозаика, не сравнивая их произведений со своими. “Он – мой Бог!”, “Мой прадед!”, “Мой враг!”, “Мой кровный брат!”, “Мой слабоумный брат!”, – говорит он себе.
Пошлость в литературе предпочтительнее ничтожности, как портвейн бакалейщика предпочтительнее дистиллированной воды.
Хороший вкус скорее означает разборчивость, нежели отсев. Поэтому его обладатель, вынужденный отсеивать, делает это скорее с сожалением, чем с радостью.
Удовольствие не всегда безошибочный критерий для критика, но все же наименее ошибочный из всех.
Ребенок читает ради удовольствия, но его удовольствие неразборчиво: он не отличает эстетического наслаждения от радости познания или своих фантазий. В юности мы начинаем понимать, что виды удовольствия бывают разными и не все можно испытывать одновременно, но в юности нам нужна помощь, чтобы во всем этом как следует разобраться. Как и в еде, юность ищет наставника в литературе, которому можно довериться. Юность ест и читает то, что советует авторитет, поэтому иногда ей приходится обманывать себя, притворяться, что она любит оливки и “Войну и мир” больше, чем в действительности. Между двадцатью и сорока годами мы познаем себя, то есть узнаем разницу между случайными ограничениями, которые мы обязаны перерасти, и необходимыми ограничениями нашей природы, которые нельзя переступать безнаказанно. Лишь немногие, познавая себя, не совершают ошибок и не пытаются занять не предназначенное им место. Именно в этот промежуток писателя легче всего может ввести в заблуждение другой писатель или идеология. Когда человек между двадцатью и сорока годами говорит об искусстве:
“Я знаю, что мне нравится”, это значит: “У меня нет собственного вкуса, я разделяю вкусы, принятые в моей культурной среде”; между двадцатью и сорока годами, если человек, действительно, обладает вкусом, он в нем не уверен. После сорока, если мы не утратили нашей подлинной сути, удовольствие вновь становится тем, чем было для нас в детстве, – верным критерием высокого качества книги.
Наслаждение, которое нам дарит произведение искусства, не нужно смешивать с другими удовольствиями, просто они наши, а не чьи-то еще. Все наши суждения, эстетические или нравственные, какими бы объективными они нам ни казались, в какой-то степени рациональное проявление, а в какой-то – обуздание наших субъективных желаний. Если человек пишет стихи и прозу, мечта о Рае – его личное дело, но, как только он ступает на стезю литературной критики, честность требует от него нарисовать свой Эдем, чтобы читатели могли оценить его суждения. Поэтому сейчас я отвечу на составленные мной вопросы, чтобы предоставить сведения, которые я сам хотел бы иметь, читая других критиков.
РАЙ
Пейзаж
Известняковые горы наподобие Пеннин, скалы вулканического происхождения и хотя бы один потухший вулкан. Скалистое морское побережье.
Климат
Английский.
Этнический состав населения
Сильно смешанный, как в Соединенных Штатах, с небольшим преобладанием нордической расы.
Язык
Состоит из смешения нескольких, как английский, с сильно развитой системой склонений.
Система мер и весов
Неупорядоченная и сложная. Десятичная система исключается.
Религия
Католичество облегченного средиземноморского образца. Множество местных святых.
Размер столицы
Идеальное число Платона 5040[2]2
Точное число граждан в идеальном государстве Платона – 5040. (Примеч. перев.)
[Закрыть].
Форма правления
Абсолютная монархия; монарх избирается большинством на пожизненное правление.
Источники естественной энергии
Ветер, вода, торф, уголь. Никакой нефти.
Экономическая деятельность
Добыча свинца, угля, химическое производство, мельницы, скотоводство, товарообмен, приусадебное хозяйство.
Транспорт
Лошади, экипажи, речные баржи, воздушные шары. Никаких автомобилей и самолетов.
Архитектура
Государственная – барокко. Церковная – романский или византийский стиль. Гражданская – английский или американский колониальный стиль xviii века.
Домашняя мебель и утварь
Викторианская, кроме кухни и ванных комнат, оборудованных по последнему слову современной техники.
Официальная форма одежды
Парижская мода 1830–1840 годов.
Источники информации
Сплетни. Техническая и образовательная периодика. Газеты исключаются.
Общественные статуи
Знаменитые покойники.
Общественная жизнь
Церковные шествия, духовые оркестры, опера, классический балет. Кино, радио и телевидение отсутствуют.
Если бы я решился записать имена поэтов и прозаиков, которым я действительно благодарен, без чьих произведений моя жизнь была бы беднее, их перечень занял бы несколько страниц.
Но, когда я пытаюсь вспомнить критиков, которым я не менее признателен, я насчитываю лишь тридцать четыре имени. Из них двенадцать – немцы и только двое – французы. Можно ли это считать моим сознательным пристрастием? Да, можно.
Если хороших литературных критиков, в самом деле, меньше, чем хороших поэтов и прозаиков, то по причине нашего природного эгоизма. Поэт, как и прозаик, учится смиренному отношению к предмету своего творчества, то есть к жизни. Критик должен смиренно относиться к авторам, то есть к таким же, как он, людям. Подобного рода самоуничижение дается куда труднее. Значительно легче объявить: “Жизнь сложнее, чем то, что я могу о ней сказать”, нежели признаться: “Произведение г-на N сложнее, чем то, что я могу сказать о нем”.
Многие люди настолько умны, что не пишут книги, не имея к тому призвания, но вместе с тем не становятся критиками.
Писатель бывает глупым, но не настолько, как думают о нем иные критики. Я имею в виду тех, кто, ругая произведение или отрывок, не подозревают о том, что автор давно предвидел каждое их слово.
В чем задача критика? Как я понимаю, он способен оказать мне следующие услуги:
1. Познакомить меня с неизвестным автором или книгой.
2. Убедить меня в том, что я недооценил автора или книгу, поскольку ознакомился с ними недостаточно внимательно.
3. Показать взаимосвязь между данной книгой и произведениями других времен и культур, которую я мог не заметить, так как многого не знаю и никогда не узнаю.
4. Предложить свое “прочтение”, которое поможет мне лучше понять произведение.
5. Осветить некоторые стороны того, что мы называем “мастерством”.
6. Рассмотреть отношение искусства к жизни, науке, экономике, этике, религии и т. д.
Первые три пункта предполагают наличие знаний. Но образованный человек вовсе не тот, кто обладает обширными познаниями: его опыт должен представлять ценность для остальных людей. Вряд ли мы назовем образованным того, кто знает наизусть телефонную книгу Манхэттена, поскольку не можем представить себе ситуацию, в которой к такому человеку пришли бы ученики. Если образованность состоит лишь в большей или меньшей осведомленности, она временна; любой обозреватель в данный момент образованнее, чем его читатель, ибо он читал книгу, которую обозревает, а читатель – нет. Хотя знания, которыми обладает образованный человек, самоценны, он сам не всегда вполне осознает их ценность: зачастую ученик, которому он передает свои знания, разбирается в них лучше учителя. В общем, когда мы читаем образованного критика, больше пользы приносят выбранные им цитаты, чем его комментарии.
Что касается трех последних пунктов, то здесь требуется не высшее знание, а высочайшая интуиция. Критик продемонстрирует высочайшую интуицию, если вопросы, которые он затрагивает, важны и современны, даже если мы не согласны с его ответами на них. На самом деле, лишь немногие читатели могли согласиться с выводами Толстого, которые мы находим в его книге “Что такое искусство?”, но каждый, кто ее прочел, уже не пройдет мимо вопросов, которые поднимает автор.
Единственное, о чем бы я настоятельно просил любого критика, – не говорить мне, что мне следует одобрять, а что порицать. Я не возражаю, когда критик перечисляет любимых и нелюбимых авторов; полезно, в самом деле, узнать, какую литературу он любит или не любит, если я сам ее читал; учитывая разницу во вкусах, можно узнать кое-что и о книгах, которые прочесть не успел. Но он не смеет навязывать мне свои вкусы. Только я несу ответственность за выбор чтения – за меня этого никто не сделает.
Критические замечания самого автора нужно принимать с большой долей иронии. Как правило, они свидетельствуют о его спорах с самим собой: что он собирается делать, а от чего – уклониться. Более того, в отличие от ученого, писатель мало интересуется тем, что делают его коллеги. Поэт, которому за тридцать, еще может быть жадным читателем, но вряд ли он читает современников.
Лишь немногие из нас могут похвастаться тем, что ни разу не обругали незнакомого автора или книгу, зато мы никогда не хвалили того, что не прочли сами.
Заповедь “Не будь побежден злом, но побеждай зло добром” во многих сферах жизни невозможно исполнить буквально, но в искусстве – это общее правило. Плохое искусство неискоренимо, но слабость конкретного произведения имеет преходящий характер: в конце концов, ему на смену придет что-то другое. Поэтому нет нужды нападать на них, ведь все они канут в Лету. Маколей написал эссе о Роберте Монтгомери, и мы по сей день живем с иллюзией, что Монтгомери – великий поэт. Единственное достойное занятие для критика – умолчать о том, что он считает плохим и изо всех сил поддержать то, что считает хорошим, особенно если хорошая вещь недооценена или неизвестна.
Есть книги, незаслуженно забытые, но нет ни одной, которую бы мы незаслуженно помнили.
Некоторые критики считают своим нравственным долгом разоблачать плохих писателей, полагая, что они могут заразить остальных. В самом деле, авторитет может легко ввести в заблуждение начинающего автора, но скорее его прельстит хороший писатель, нежели откровенно плохой. Чем сильнее и оригинальнее талант, тем он опасней для менее одаренных художников, которые пытаются найти себя. С другой стороны, произведения слабые часто возбуждали воображение и способствовали появлению хороших книг.
Невозможно привить человеку вкус, твердя, что его привычка есть водянистую, переваренную капусту отвратительна, – нужно попросту дать ему попробовать хорошо приготовленные овощи. Впрочем, некоторые люди скорее откликнутся на следующий довод: “Только пошляки любят переваренную капусту – умные люди едят капусту, приготовленную по китайскому рецепту”. Но результат будет непродолжительным.
Когда обозреватель, чье мнение я ценю, плохо отзывается о книге, я чувствую облегчение, потому что, очутившись среди новых книг, приятно думать: “Ну вот, по крайней мере, на эту книгу можно не обращать внимания”. Впрочем, если бы он промолчал, эффект был бы тот же.
Нападки на плохую книгу не только пустая трата времени; они портят характер. Если я считаю книгу действительно плохой, то, единственная польза, которую я могу извлечь, сочиняя рецензию на нее, относится ко мне самому и состоит в проявлении моего ума, остроумия и злости, на которые я способен. Невозможно писать о плохой книге, не представляя себя в выгодном свете.
Есть только одно зло, связанное с литературой, о котором нельзя умалчивать – порча языка. Писатель не изобретает новый язык – он питается тем, который унаследовал, и если язык оскверняется, это неизбежно сказывается на писателе. Но критик, который борется с этим злом, должен, прежде всего, изобличать его первоисточник, который находится не в художественном произведении, а исходит от обывателей, журналистов, политиков и прочих – тех, кто неправильно обращается с языком. Более того, он должен сам в совершенстве владеть тем, за что ратует. Кто из английских или американских критиков владеет родным языком так, как Карл Краус – немецким?

Слева направо: Уистен, его отец и брат Джон в загородном доме в Озерном краю. 1920-е гг.
Нельзя во всем винить критиков. Большинство из них предпочли бы писать только о тех книгах, которые стоит прочесть; но если бы штатный обозреватель большого субботнего выпуска придерживался своих вкусов, через два раза на третий его колонка была бы пуста. Опять же любой добросовестный критик, писавший о поэтическом сборнике в небольшом газетном пространстве, знает, что самое лучшее при этом – привести цитаты без комментария; но поступи он так, издатель возмутится и скажет, что тот не отрабатывает свой гонорар.
Кроме того, обозреватели имеют дурную привычку приклеивать ярлыки и группировать авторов. Сначала они делили авторов на античных – древнегреческих и латинских, и новых – постклассических. Потом на периоды: эпоха Августа, викторианская и т. д., теперь их делят на десятилетия: писатели 30-х, 40-х годов, и т. д. Очень скоро они, видимо, будут маркировать писателей как автомобили – по годам. Нелепа даже классификация по десятилетиям: как будто писатель в тридцать пять лет перестает писать.