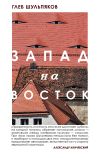Читать книгу "Чтение. Письмо. Эссе о литературе"

Автор книги: Уистен Оден
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Многие злоупотребляют словом “современник”. Я считаю своими современниками всех, кто живет вместе со мной на земле, будь то младенцы или столетние старцы.
Любознательные люди иногда спрашивают писателей и поэтов: “Для кого вы пишете?” Вопрос, конечно, глупый, и я дам на него глупый ответ. Время от времени мне попадается книга, словно специально для меня написанная. Как ревнивый любовник, я не хочу, чтобы кто-нибудь еще узнал о ней. Иметь миллион таких читателей, не подозревающих о существовании друг друга, которые читают твои книги со страстью и никогда их не обсуждают, – заветная мечта каждого автора.
Письмо
Цель автора – написать однажды и веско: “Он сказал”.
Г. Д. Торо
Искусство устной или письменной литературы заключается в том, чтобы язык воплотил то, на что он только указывает.
Альфред Уайтхед
Те, чей успех в жизни зависит не от профессии, которая удовлетворяет узкую и постоянную общественную потребность (подобно профессии фермера или хирурга), или от профессиональных навыков, но лишь от “вдохновения”, от счастливой игры идей, живут только своим умом, не обращая внимания на уничижительный оттенок данной фразы. У каждого самобытного гения, будь то художник или ученый, всегда есть оборотная сторона, как у картежника или медиума.
Литературные собрания, фуршеты и тому подобное не более чем светский кошмар, поскольку у писателей нет общецеховых проблем. Юристы или врачи могут обмениваться рассказами о любопытных случаях из практики, то есть о том, что находится в сфере их профессиональных интересов, но не связано с ними лично. Что касается писателей, то у них нет безличных “профессиональных интересов”. Вместо делового разговора они могут читать вслух свои произведения – нелегкое занятие, на которое нынче способны лишь молодые литераторы с крепкими нервами.
Ни один поэт или прозаик не желает быть первым среди предшественников, но почти каждый хочет быть первым среди современников – более того, они думают, что это вполне возможно.
Теоретически каждый автор хорошей книги должен оставаться неизвестным, ведь мы восхищаемся не им, а его творением. На практике, однако, это вряд ли возможно. И все же слава, которую стяжал писатель, не столь фатальна, как может показаться. Подобно тому, как добродетельный человек, сделав доброе дело, забывает о нем, великий писатель забывает о своем произведении, поставив точку в конце и начиная обдумывать следующее. Если он возвращается к написанному, то замечает в нем скорее недостатки, чем достоинства. Известность делает человека тщеславным, но не гордым.
Писателей можно обвинять во всех видах тщеславия, но славы общественного деятеля они не ищут. “Мы пришли в мир, чтобы помочь остальным. Зачем остальные на этой земле, нам неизвестно”.
Когда состоявшийся писатель анализирует причины своего успеха, он, как правило, недооценивает свой талант и переоценивает свое умение его реализовать.
Конечно, лучше, чтобы писатель был богатым, чем бедным, но ни один настоящий писатель не заботится о популярности. Он нуждается в признании, чтобы убедиться в том, что его взгляд на жизнь правильный, что он не обманывает себя, но убедить его могут лишь те, чье мнение он ценит. Признание всего человечества было бы необходимо ему только в одном случае: если бы все человечество в равной мере было наделено умом и богатым воображением.
Когда явный болван говорит мне, что ему понравилось одно из моих стихотворений, у меня возникает ощущение, будто я обшарил его карманы.
У писателей и особенно поэтов складываются необычные отношения с публикой, так как их инструмент – язык – совсем не то, что краски художника или ноты композитора; язык – общая собственность лингвистической группы, к которой они принадлежат. Поэтому люди часто сознаются, что не понимают живопись или музыку, но лишь малая часть из тех, кто окончил среднюю школу и научился читать вывески, признают, что не разбираются в родном языке. Карл Краус говорил: “Публика не понимает немецкого, но я не могу объяснить ей этого при помощи газетных штампов”.
Как должен быть счастлив математик: его могут оценить только коллеги; уровень здесь настолько высок, что никто не присвоит себе репутацию, которой не заслуживает. Бухгалтеру не придет в голову посылать в газету жалобы о несостоятельности современной науки и вспоминать о старых добрых временах, когда математики оклеивали бумагой комнату неправильной формы, чтобы узнать ее объем, и решали задачи с протекающими бассейнами.
Когда говорят, что произведение написано “по вдохновению”, это означает лишь то, что оно оказалось лучше, чем ожидал сам автор или читатель.
С другой стороны, все произведения искусства созданы “по вдохновению” – в том смысле, что художник не может создать их одним усилием воли и должен ждать той минуты, когда идея произведения “придет” к нему. Среди творений, которые оказались неудачными из-за ложной или неправильной идеи, лежащей в их основе, гораздо больше тех, которые “заказал” себе сам автор, чем заказанных его покровителями.
Степень волнения, которое испытывает писатель во время работы, гарантирует качество результата в той же мере, в какой волнение верующих свидетельствует о степени их набожности. Иными словами – почти ничего не гарантирует.
Оракул претендовал на то, что мог предсказать будущее, но не стремился устраивать из прорицаний поэтические чтения.
Если бы стихи писались только “по вдохновению”, то есть без сознательного участия автора, поэзия превратилась бы в скучное и неприятное занятие, и заниматься им можно было бы только ради большого вознаграждения или престижа. Как видно из найденных рукописей, распространенное мнение, будто “Кубла Хан” – вдохновенное видение Кольриджа, – небылица.
Поэту, сочиняющему стихотворение, всегда кажется, что в этом процессе участвуют двое: он и Муза, за которой он ухаживает, или Ангел, с которым он борется. В первом случае участие поэта почти равноценно обычному ухаживанию. Муза, как Беатриче из комедии “Много шума из ничего”, – своенравная девица, безразличная и к подобострастному поклоннику, и к развязному грубияну. Ей по душе рыцарство и хорошие манеры; она презирает тех, кто ей не ровня, и испытывает жестокое удовольствие, нашептывая им всякий вздор и ложь, а бедный автор послушно записывает его как “вдохновенную” правду.
“Когда я писал хор в соль миноре, я по ошибке обмакнул перо в склянку с лекарством, вместо чернильницы. И посадил кляксу. Когда же промокнул ее песком (промокательной бумаги тогда еще не изобрели), то увидел, что она засохла в форме мажорного ключа, – и тут мне пришло в голову сменить соль минор на соль мажор. Поэтому эффектом мажорного в хоре я обязан кляксе”.
(Из частного письма Джоаккино Россини)
Подобное благоусмотрение, проводящее грань между случайностью и Провидением, достойно именоваться “вдохновением”.
Чтобы свести количество ошибок к минимуму, внутренний цензор, которому поэт вверяет свое творение, должен быть целой цензурной коллегией. Туда должны входить невинное дитя, деятельная домохозяйка, логик, монах, непочтительный шут и даже, возможно, ненавидимый всеми и отвечающий им взаимностью грубый солдафон и сквернослов, считающий поэзию чепухой.
В течение многих веков на творческой “кухне” появилось не так много усовершенствований: алкоголь, табак, кофе, бензедрин и т. д., но они настолько примитивны, что все время подводят и могут причинить вред повару. Литературное творчество в двадцатом веке нашей эры мало отличается от творчества двадцатого века до нашей эры: почти все надо по-прежнему делать своими руками.
Большинству людей нравится собственный почерк, как нравится исходящий от них неприятный запах. Но как бы сильно я не любил печатную машинку, я признаю, что машинопись позволяет поэту быть более самокритичным. Отпечатанный текст настолько безличен и непригляден, что, когда я печатаю свое стихотворение на машинке, я нахожу недочеты, пропущенные мною в рукописи. Кроме того, когда речь идет о чужом стихотворении, лучший способ проверить его качество – переписать от руки. Физический процесс письма утомителен и автоматически указывает на малейшие промахи; рука постоянно ищет повод остановиться.
“Большинство художников искренни в творчестве, а их искусство плохо, хотя некоторые неискренние (искренне неискренние) произведения бывают очень хороши”. (Стравинский). Искренность похожа на сон. Естественно предположить, что человек должен быть искренним и не грешить двоемыслием. Большинство писателей тем не менее страдают приступами неискренности, как многие люди страдают бессонницей. Лучшие средства в обоих случаях легко доступны: при бессоннице нужно сменить диету, при неискренности – человеческое окружение.
Против вычурности стиля чаще всего выступают преподаватели литературы. Но вместо того, чтобы выражать неудовольствие, им следует снисходительно улыбаться. Шекспир потешался над напыщенным стилем в “Бесплодных усилиях любви” и в “Гамлете”, но именно ему был многим обязан и прекрасно это знал. Нет ничего более бессмысленного, чем попытка Спенсера, Харви и других быть добродетельными гуманистами и писать английские стихи классическими размерами, но если бы не их глупость, самые прекрасные песни Кэмпиона и хоры в “Самсоне-борце” Джона Мильтона не были бы написаны. В литературе, как и в жизни, аффектация, если она оправдана страстью, – одна из форм самодисциплины, благодаря которой человечество спасает себя своими руками.
Манерность (как у Гонгоры или Генри Джеймса) подобна экстравагантному наряду: лишь немногие писатели умеют достойно носить его, но редкие исключения из правила бывают очаровательными.
Когда критик хвалит книгу за “искренность”, тут же понимаешь, что она неискренна и плохо написана. Искренность в правильном значении слова, то есть подлинность, достоверность, должна быть первейшей задачей всех писателей. Ни один из них не может правильно оценить, насколько хороша его книга, но про себя каждый понимает, возможно, не сразу, но довольно скоро, подлинно ли его сочинение или это подделка.
Самый болезненный для поэта опыт – когда стихотворение, которое он сам считал подделкой, получает всеобщее признание и попадает в антологии. Оно может быть и не самым худшим, насколько он может судить, но дело не в этом: лучше бы он этого стихотворения вообще не писал.
Произведение молодого писателя (“Вертер” – лучший пример) может стать чем-то вроде прививки. Он одержим некоторыми чувствами и мыслями, и чутье подсказывает ему, что он должен от них освободиться, прежде чем обнаружит свои подлинные интересы и симпатии, и единственный способ освободиться от них – покориться им. После этого у писателя появится иммунитет на всю жизнь. Обычно этим недугом страдает целое поколение, и именно здесь кроется главная опасность (как было с Гете): современники, упивающиеся своими эмоциями, восторженно встречают то, что автор писал для того, чтобы избавиться от этих чувств. Какое-то время они будут считать его своим кумиром и глашатаем. Пройдет время. Излечившись, писатель обратится к своим подлинным интересам, и тогда его встретят криком “Предатель!”.
Ум человека должен выбирать,
Что совершенствовать – жизнь или произведения.
Уильям Батлер Йейтс
Ошибочное утверждение: и то, и другое невозможно. Единственное, что можно пожелать писателю, у которого, как у всех людей, есть слабости и недостатки, не забывать о них и постараться не допускать их в работе. Есть определенные предметы, которых писатель не должен касаться из-за изъянов в его характере и таланте.

Из серии студийных съемок в Оксфорде. 1928 г.
Поэту трудно не лгать в стихах, потому что факты и убеждения в поэзии перестают быть истинными и ложными и становятся соблазнительными возможностями. Чтобы наслаждаться стихами, читателю не обязательно разделять убеждения, которые в них выражены. Зная об этом, поэт вправе использовать чуждые ему идеи и убеждения, если они интересны в качестве поэтических возможностей. Поэт не обязан в них верить, но они непременно должны глубоко волновать его чувства, а это возможо лишь в том случае, если он относится к этим идеям серьезней, чем просто к поэтическим средствам.
Призывы к общественному сознанию, политическим или религиозным убеждениям опасней для писательской честности, чем корысть. С моральной точки зрения лучше, если поэта осудит коммивояжер, чем епископ.
Некоторые писатели часто путают подлинность, которая должна быть их творческой целью, с оригинальностью, до которой им не должно быть дела. Некоторые люди настолько жаждут быть единственными и любимыми, что испытывают чувства окружающих вызывающим поведением; все, что говорит или делает такой человек, должно вызывать восхищение у остальных не потому, что это восхитительно само по себе, а потому, что это его замечание, его поступок. Не этим ли объясняется многое в авангардном искусстве?
Рабство настолько нестерпимо, что рабу трудно не поддаться самообману: он убеждает себя в том, что подчиняется приказам хозяина по своей воле, а не по принуждению. Рабы собственных привычек часто страдают от подобных заблуждений, как и писатели, впавшие в зависимость от слишком “индивидуального” стиля.
“Дайте-ка вспомнить: сегодня утром, когда я встала, я это была или не я? Кажется, уже совсем не я! Но если это так, то кто же я в таком случае? ‹…› Во всяком случае, я не Ада! – сказала она решительно. – У нее волосы вьются, а у меня нет! И уж конечно я не Мейбл. Я столько всего знаю, а она совсем ничего! И вообще она это она, а я это я! Как все непонятно! А ну-ка проверю, помню я то, что знала, или нет. ‹…› И глаза у нее снова наполнились слезами. – Значит, я все-таки Мейбл! Придется мне жить в этом старом домишке. И игрушек у меня совсем не будет! Зато уроки надо будет учить без конца. Ну что ж, решено: если я Мейбл, останусь здесь навсегда”[3]3
Перевод Н. Демуровой.
[Закрыть].(“Алиса в Стране чудес”)
В основном все писатели – за исключением великих, которые выходят за рамки всяких классификаций, – делятся на тех, кто похож на Алису, и на тех, кто напоминает Мейбл. Например:

“Ортодоксия, – сказал епископ, похожий на Алису, – это сдержанность”.
Если забыть, что термины “классический” и “романтический” всего лишь исторические ярлыки, то окажется, что они определяют принципы двух партий: Аристократической и Демократической, которые существовали всегда и в одной из которых так или иначе состоит каждый писатель, даже если он отрицает свою партийность или не подчиняется партийному кнуту.
Аристократический принцип подхода к содержанию
Поэты не должны рассматривать ни один предмет, который не может усвоить поэзия. Это защищает поэзию от назидательности и журналистского стиля.
Демократический принцип подхода к содержанию
Поэты не должны отвергать ни одну тему, которую способна усвоить поэзия. Это спасает ее от ограниченных или избитых представлений о “поэтичности”.
Аристократический принцип изложения
Ни одна незначительная сторона предмета изображения не должна быть выражена в стихотворении. Это защищает поэзию от грубой неопределенности.
Демократический принцип изложения
В стихотворении должны быть выражены все существенные стороны предмета изображения. Это защищает поэзию от декадентской банальности.
Начиная новое произведение, писатель делает первый шаг, но он будет ложным, если писатель забудет, что это должен быть шаг вперед. Когда писатель умирает, мы видим, что все его произведения вместе взятые образуют единое творение.
Не нужно много таланта, чтобы увидеть то, что у нас под носом; куда сложнее держать нос по ветру.
Великий писатель не может видеть сквозь стены. Но в отличие от нас он этих стен не возводит.
Только незначительный талант может быть истинным джентльменом; большой талант всегда больше, чем невоспитанный человек. Поэтому так важны второстепенные писатели: они учат хорошим манерам. Созданные ими изысканные безделки могут заставить мастера устыдиться самого себя.
Поэт – отец своих стихов. Их мать – словесность. Из стихов можно составлять списки, как из лошадей на скачках – от Л до П.
Поэт должен ухаживать не только за Музой, но и за госпожой Филологией, и для новичка это важнее. Как правило, талантливый новичок не столько хочет сказать что-то свое, сколько интересуется игрой слов. В таких случаях его творчество напоминает изречение старой дамы, приведенное Форстером: “Откуда мне знать, о чем я думаю, если я не вижу этого на бумаге?” И только после того, как он покорит госпожу Филологию, он может полностью посвятить себя своей Музе.
Ритм, размеры, строфы и т. д. – лишь слуги поэта. Если он достаточно привлекателен, чтобы заслужить их привязанность, и в меру строг, чтобы снискать уважение, в результате может появиться счастливое и опрятное хозяйство. Если он деспотичен, слуги просят об увольнении; если не заставил себя уважать – превращаются в наглых и бесчестных пьяниц и нерях.
Поэт, пишущий свободным стихом, подобен Робинзону Крузо на необитаемом острове: он должен делать все сам: стряпать, стирать и штопать. В исключительных случаях эта холостяцкая независимость дает нечто оригинальное и впечатляющее, но чаще результат бывает убогим: грязные простыни на неубранной постели, неметеный пол и валяющиеся повсюду пустые бутылки.
Есть поэты, например, Киплинг, чей подход к языку напоминает отношение сержанта, увлеченного муштрой: слова у него обучены стоять навытяжку и производить сложные маневры, потеряв при этом способность самостоятельно мыслить. Есть и другие, скажем, Суинберн, который напоминает Свенгали: по их гипнотической воле разыгрывается невероятное словесное представление; слова здесь уже не новобранцы, а слабоумные дети на школьном дворе.
После вавилонского проклятия поэзия стала самым провинциальным из искусств, но сегодня, когда вся мировая культура тяготеет к единообразию, проклятие многим представляется благословением, в поэзии, – говорят они, – не может быть “интернационального стиля”.
“Мой стиль – продажная девка, которую я должен превратить в девственницу” (Карл Краус). Слава и позор поэзии в том, что язык не ее частная собственность, что поэт не может изобретать слова, и что слова – продукты не природы, а общества, которое использует их для своих бесчисленных целей. В современном обществе, где язык постоянно засоряется и сведен до нечленораздельной речи, у поэта может испортиться слух. Эта опасность не грозит художнику и музыканту, чьи средства выражения – их личная собственность. С другой стороны, поэт более, чем они, защищен от противоположной опасности – крайней субъективности. Как бы ни было эзотерично стихотворение, слова, которыми оно написано, есть в любом словаре, что еще раз свидетельствует о существовании других людей. Даже язык “Поминок по Финнегану” не был изобретен ех nihilo; сугубо личный мир слов невозможен.
Различие между стихами и прозой очевидно, но все попытки определить эту разницу – пустая трата времени. Определение Фроста: поэзия – непереводимый элемент языка – на первый взгляд убедительно, но при ближайшем рассмотрении не работает. Прежде всего, даже в самой утонченной поэзии есть элементы, которые можно перевести на другой язык. Звучание слов, их ритмические соотношения, все значения и ассоциации значений, которые зависят от звука, – такие, как рифмы или игра слов, – конечно, непереводимы, но поэзия в отличие от музыки не только чистый звук. Каждый элемент стихотворения, не основанный на словесном опыте, до некоторой степени переводим на другой язык: например, образы, сравнения и метафоры, родившиеся из чувственного опыта. Более того, если исходить из положения, что уникальность каждого – общечеловеческое свойство, то неповторимое мироощущение любого поэта способно перенести “операцию” перевода. Если взять стихи Гете и Гельдерлина и перевести их буквально, всякий читатель поймет, что они написаны разными авторами. Если речь не становится чистой музыкой, не суждено ей стать и алгеброй. И самый “прозаический” язык – язык информации и науки – несет в себе личный элемент, поскольку он создан личностью. Ne pas se pencher au dehors звучит иначе, чем Nichthinauslehenen. Чисто поэтический язык невозможно выучить. Чисто прозаический – учить не стоит.
Валери разделял поэзию и прозу по принципу “бесполезный – полезный”, “игра – труд” и приводил в качестве аналогии разницу между танцем и простой прогулкой. Но и это не совсем верно. Человек может ходить каждое утро к пригородной станции и получать удовольствие от движения как такового; тот факт, что передвижение необходимо ему, чтобы попасть на поезд, не исключает возможности игры. И наоборот, танец не всегда игра, поскольку даже из него можно извлечь пользу, особенно когда нужно давить виноград.
Если исходить из того, что французские поэты, отстаивая абсолютную музыкальность стиха, впали в куда худшую ересь, чем англичане, в какой-то мере их оправдывает то, что в традиционном французском стихе акустические эффекты всегда играли бо́льшую, чем в английской поэзии, роль. Англоязычные народы постоянно следили за тем, чтобы разница между поэтической и разговорной речью была не столь велика, и, как только английские поэты увеличивали эту дистанцию, тут же происходила стилистическая революция и они сближались. В английской поэзии, даже в самых выспренних шекспировских пассажах, всегда можно было различить отголоски разговорной речи. Хороший актер должен (сейчас, увы, редко кто умеет) читать Шекспира так, чтобы его драмы воспринимались как стихи, а не проза, но если стихи будут звучать, словно они написаны на чужом языке, он выставит себя в смешном виде.
Французская – устная или письменная – поэзия славилась контрастом между поэтической и обыденной речью; во французской драме стихи и проза – два разных языка. Валери приводит рассказ современников о том, с какой силой читала Рашель: она могла декламировать в двух октавах от фа в малой октаве до фа во второй; с другой стороны, актриса, которая попытается проделать с Шекспиром то же, что Рашель с Расином, будет справедливо освистана.
Можно успешно читать друг другу Шекспира, не вслушиваясь в строки, и иногда сценическое представление кажется нам неудачным именно потому, что едва ли не каждый человек, хоть немного знакомый с английской поэзией, читает Шекспира лучше, чем актер или актриса со сцены. Но если подобным образом читать Расина (даже самим французам), то чтение это будет смахивать на чтение партитуры, когда человек не умеет ни играть, ни петь; невозможно получить адекватное представление о “Федре”, не увидев ее на сцене, так же как о “Тристане и Изольде”, не услышав партии Изольды в исполнении Лейдер или Флагстад.
(Господин Сен-Жон Перс как-то сказал мне, что бытовой французский язык монотоннее английского, а в английском звуковой диапазон намного шире.)
Должен признаться, что классическая французская трагедия поражает меня: она напоминает оперу для лишенных слуха людей. Когда я читаю “Ипполита”, при всей разнице я вижу сходство между Еврипидом и Шекспиром, а мир Расина, как и мир оперы, – другая планета. У Еврипида Афродита равно близка миру людей и миру животных, а Венеру Расина не просто не интересует природа, ей вообще нет дела до низших видов. Невозможно себе представить, чтобы кто-то из героев Расина чихал или принимал ванну, – в его мире нет ни погоды, ни природы. Поэтому страсти, поглощающие его героев, существуют только на сцене и выражаются в великолепных жестах и дикции актрис и актеров, облекших их в плоть и кровь. То же самое происходит в опере, и ни один актер театра не может соперничать в выразительности звука с великим оперным голосом в сопровождении оркестра.
“Когда люди говорят со мной о погоде, мне всегда кажется, что они подразумевают что-то другое” (Оскар Уайльд). Единственный вид устной речи, приближающийся к поэтическому идеалу символизма, – вежливый застольный разговор на банальные темы, в котором значение слов полностью зависит от интонации говорящего.
Благодаря ее мнемонической силе, поэзия выше прозы как средство назидания. Те, кто осуждают назидательность, тем более должны не любить назидательную прозу. Стихи, как говорится в рекламе алказельцера, “наполовину отбивают неприятный вкус” морализаторства. Поэзия умеет не хуже прозы внятно излагать идеи: в умелых руках форма стихотворения может соответствовать его логике и усиливать ее. В пику тем, кто унаследовал романтическое представление о поэзии, можно сказать, что опасность поэтической логики (“Опыт о человеке” Поупа – тому пример) в том, что стихи делают любую идею слишком ясной и отчетливой, более картезианской, чем она есть на самом деле.
С другой стороны, поэзия не подходит для полемики, для доказательства своей, особой истины или убеждения, поскольку ее формальная природа не может не выражать некоторого скепсиса по отношению к собственным выводам.
Тридцать дней в сентябре,
в апреле, июне, ноябре –
звучит убедительно, потому что никто не сомневается в истинности этих слов. Если бы кто-то вздумал яростно опровергать данное утверждение, стихотворные строки не переубедят его: строго говоря, не будет никакой разницы между ними и следующим двустишием:
Тридцать дней в сентябре,
августе и декабре.
Поэзия противоположна магии. Если у нее и есть вняшняя цель, то она состоит в том, чтобы, говоря правду, отрезвлять людей и свобождать их от иллюзий.
“Непризнанные законодатели мира”. – Определение скорее относится к тайной полиции, нежели к поэтам.

Сесил Битон фотографировал Одена трижды. В первый раз – в 1930 году. Через год Оден начал преподавать в Ларчфилдской Академии, Хеленсборо.
Подлинный катарсис достигается не через искусство, а с помощью религиозных обрядов и таинств. Есть и другие средства, как правило, пагубные: бой быков, футбол, плохие фильмы, войны и молодежные слеты, на которых десять тысяч девушек изображают национальный флаг.
Человечество – как и всегда – настолько несчастно и порочно, что если кто-то скажет поэту: “Бога ради, перестань петь и займись чем-нибудь полезным: вскипяти воду, принеси бинты”, найдет ли он достойную причину для отказа? Но, слава Богу, никто так пока не говорит. Неумелая медсестра твердит поэту: “Ты здесь, чтобы спеть больному песню, которая заставит его поверить в то, что я, и только я, способна его вылечить. Если ты не можешь или не хочешь, я отниму у тебя паспорт и сошлю тебя в рудники”. А в это время несчастный больной в бреду уже кричит поэту:
“Спой, спой мне песню, которая навеет сладкие сны вместо ночных кошмаров. Если тебе это удастся, я подарю тебе фешенебельную квартиру на крыше нью-йоркского небоскреба или ранчо в Аризоне!”
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!