Текст книги "Пражское кладбище"
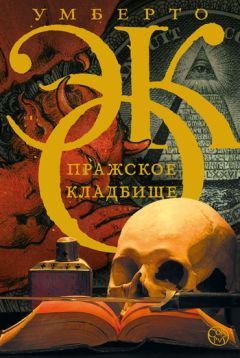
Автор книги: Умберто Эко
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Можно сколько угодно доказывать, что «Протоколы» – подделка. Плохо именно то, что любое опровержение работает на рекламу темы. Так устроена массовая информация. Пусть упоминают ругательно, обличают с пеной у рта – лишь бы упоминали. Гитлер писал в «Майн кампф»: «“Франкфуртер цайтунг” постоянно плачется перед публикой, что “Протоколы” якобы представляют собой подделку; это как раз и является самым надежным доказательством их подлинности». Что еще можно добавить? Полемика против – не прием.
Печатать эту бредятину, ясно, не надо бы. Жаль, однако, что российская государственная цензура наградила титулом правомочного этот лживый и погубивший много жизней текст. В России в январе 2006 года члены Общественной палаты и правозащитники выступили за внесение в законодательство поправок, предполагающих создание списка запрещенной к распространению в России экстремистской литературы, в который были бы включены и «Протоколы». Но по состоянию на январь 2011 года «Протоколы» не включены в Федеральный список экстремистских материалов.
Как же можно переагитировать широкие массы, что сионских мудрецов на свете нет? Да еще в эпоху интернета, когда все, что высказано, становится свято, а высказываться имеет право любой, и писучесть этого «любого» пропорциональна его неграмотности?
Только средствами художественной литературы. Не крича, а высмеивая, реконструируя, развлекая. Задействуя специальные приемы работы с опасными веществами. Без драматизма. Без боязни оказаться понятым превратно.
Эко доверяет своим читателям. Перед ними нет необходимости вопить и бить в набат. Эко привык действовать средствами сильнейшего на свете оружия, которое «металлов тверже» – средствами литературного слова.
Пускай моральное предостережение, заключенное в оболочку романа-фельетона, у Умберто Эко и не широковещательно, не крикливо, но тем громче оно «выстреливает» на причудливом фоне, казалось бы, легкомысленных мелочей, интриг, рецептов, анекдотов и бытовых штрихов. Этому автору подвластны и игристое французское острословие, и британский невозмутимый юмор (вспомним шуточки Вильгельма Баскервильского). Предостережение звучит пусть негромко, ну а смысл сообщения – оглушителен. Так «выстреливает» бесстрастная реплика английского дворецкого, когда в Лондоне потоп и бешеной водой выбивает двери холла: «Темза, сэр».
Елена Костюкович
Пражское кладбище
Поскольку и отступления важны, и даже они основное в историческом романе, мы включили повешение ста мирных жителей на площади, сожжение живыми двоих монахов, прохождение кометы. Каждое такое отступление неоценимо, оно замечательно отвлекает читающего от смысла.
Карло Тенка, «Дом псов»
1. Прохожий, в то серое мартовское утро
Прохожий, в то серое мартовское утро 1897 года переходящий на свой страх и риск площадь Мобер, или Моб, как зовется это место у разного жулья, – в Средневековье это было сердце университетского Парижа, где кишели школяры с факультета свободных искусств, что на Соломенной улице, а потом место казни вольнодумцев, например Этьена Доле, – оказался бы в одном из считанных уцелевших, не снесенных бароном Оссманом средневековых кварталов, в гуще зловонных переулков, пересекаемых рекою Бьеврой, которая тогда еще не была убрана в подземную трубу и бурлила, извиваясь и рыча, на сливе в близко протекавшую Сену. Около площади Мобер, незадолго до того изуродованной бульваром Сен-Жермен, сохраняются старые переулки: Мэтра Альбера, Святого Северина, Галандова улица, Дровяная (Бушри), Святого Юлиана Странноприимца (Сен-Жюльен-Ле-Повр). Переплетаясь, они тянутся до самой улицы Квашни (Юшетт). Все эти улочки в те поры были истыканы сквалыжными притонами. Хозяева их были обыкновенно из Оверни, азартной алчности, и просили за первую ночь по меньшей мере франк, за прочие по сорока сантимов плюс еще двадцать сантимов, если постоялец требовал простыню.
Поверни путник на улицу, впоследствии получившую имя Фредерика Сотона, а тогда, когда происходили события, звавшуюся улицей д’Амбуаз, приблизительно на ее середине, меж борделем, замаскированным под пивную, и таверной, предлагавшей с гадчайшим вином закуску стоимостью в два су (плата уже и тогда посильная для студентов соседней Сорбонны), путник попал бы в закоулочек или тупичок, по нашим сведениям переименованный в 1865 году в Моберов, а в предшествовавшие времена носивший имя Амбуазова тупика и приютивший в себе кабак «тапи-франк», то есть из таких самых разничтожных, что ни на есть отпетых питейных заведений, где хозяйствует какой-нибудь уголовщик, а сходятся там бандиты и ворье. Место это печально известно среди прочего тем, что в восемнадцатом веке там варили свои зелия три знаменитые отравительницы, сами же и задохнувшиеся от смертоносных испарений собственного производства.
В торце тупика неприметное оконце лавки старьевщика объявляло слеповатыми буквами о торговле «хотя подержанными, но пристойными мебелями». При этом стекла, густо и мутно перемазанные изнутри чем-то пыльным, не позволяли видеть ни товары, ни внутренность магазина, поскольку были по двадцати сантиметров в деревянном частом, будто тюремная решетка, переплете. Возле окна располагалась и дверь, постоянно запертая, а рядом со шнурком звонка висела записка, гласившая, что хозяин на минуточку вышел.
Если же – редкий случай – дверь была бы не затворена, вошедший смог бы в неясном освещении разглядеть внутренность трущобы. На немногих и шатких этажерках и на таких же валких столах громоздилось множество безделушек вроде бы и привлекательных, но при внимательном рассмотрении непригодных для порядочного коммерческого оборота, даже если на них указывались бы столь же трепаные цены: фигурные изложницы для поленьев, способные обезобразить любой на свете камин, ходики с облупленной синею эмалью, подушки, в незапамятное время ярко вышитые, цветочницы с ангелками из керамики в трещинах, перекошенные тумбы неопределенного мебельного стиля, ржавая железная записочница, шкатулки, украшенные выжиганием, отвратительные перламутровые веера с китайцами, ожерелье под янтарь, белые валяные шлепанцы с яркими пряжками, украшенными «ирландскими брильянтами» – то есть горными хрусталями, выщербленный Наполеон в виде бюста, коллекция насекомых под расколотым стеклом, фрукты пестрого мрамора, еле различимые сквозь утратившие прозрачность колпаки, кокосы, старые альбомы с непритязательными акварельками (сплошные цветочки), несколько обрамленных дагеротипов (это было время, когда в дагеротипах не было ничего антикварного). Так что ежели посетитель сдуру и польстился бы на эти мизерные рукоделия, из которых любое – последний ломбардный заклад нищенствующего семейства, и приценился бы, подойдя к подозрительнейшей наружности старьевщику, то услышал бы в ответ такую сумму, от которой всякое желание продолжать торги начисто улетучилось бы даже и у самого закоснелого ловца антикварных монструозностей.
Все-таки ежели бы, не удовлетворившись, посетитель, в силу невесть откуда взявшегося права, двинулся через вторую дверь на лестницу, то есть захотел бы пойти на верхний этаж, – тогда раздрызганные винтовые ступени, обычные в подобных парижских домах, фасад у которых не шире собственного дверного проема, скоса лепящегося к тесно приближенным порталам соседских дверей, привели бы его в гостиную, украшавшуюся уже не пошлой кустарщиной, как в нижней лавке, а обстановкой совершенно другого сорта: о трех ногах, и с орлиными головами на этих ногах, ампирным столиком; консолью на крылатом сфинксе; шкафом семнадцатого века; стеллажом красного дерева, приютившим сотню книг в замечательном сафьяне; секретером, называемым «американским», под роликовой крышкой и с кучей ящичков. Перейди он из этой гостиной в спальню, его взору открылась бы прероскошная кровать под балдахином. Рядом на простых стеллажах размещались сервиз севрского фарфора, турецкий кальян, алебастровая чаша, хрустальная ваза. На дальней стене виднелись живописные панно на мифологические сюжеты. Это были два больших холста с изображениями муз истории и комедии. Добавим, что по стенам там и тут был развешан марокканский текстиль и какие-то еще арабские одеяния из кашемира, рядом с пилигримской походной флягой. Еще там стоял старинный умывальник, нагруженный туалетными принадлежностями заботливой выделки. В общем, причудливый интерьер, полный редких и недешевых предметов, что, быть может, не свидетельствовало о продуманном и тонком вкусе собирателя, но, несомненно, выдавало его тягу к бравированию роскошью.
Возвратившись в гостиную, посетитель увидел бы перед окном, через которое мог поступать только самый незначительный свет, потому что света было очень мало вообще в этом переулке, пишущего за столом в халате пожилого человека. То, что удалось бы разглядеть через плечо, мы и читаем сейчас. Время от времени Рассказчик будет сжато пересказывать куски дневника, чтобы Читатель не соскучивался.
Не ждите, что Рассказчик эффектно опознает сейчас же в пишущем известного… Рассказ только начат, и никого известного в нем еще не было. Рассказчику совершенно неведомо, кто этот непонятный текстописатель, и Рассказчик сам интересуется это узнать, как и вы, почтенная публика. Поэтому теперь всем нам предстоит доискиваться и разгадывать скрытые смыслы тех знаков, которые перо повествующего при нас накладывает на бумагу.
2. Кто я?
24 марта 1897 г.
Вовсе и не тянет меня начинать эти страницы, душу на них оголять по велению – проклятие! нет – по подсказке! окаянного немецкого еврея (австрийского вообще-то, но ведь это все равно). Меня – то есть кого? Кто это – «я»? Думаю, ответить можно, перечислив, что и кого любит человек. Так кого люблю «я»? Никаких людей любимых я бы назвать не мог. Люблю поесть. Это да. При одном упоминании «Серебряной башни» («Ля Тур д’Аржан») я весь дрожу. Если это любовь – то вот. Кого я ненавижу? Евреев, ответил бы с ходу. Но моя готовность раболепно потакать австрийскому доктору (а хоть бы и немецкому!) доказывает, что, в сущности говоря, я ничего не имею против растрепроклятых евреев. О евреях я знаю только то, чему научил меня дедушка. Евреи – народ до мозга костей безбожный. Евреи думают, что добро проявляет себя не на том, а на этом свете. Поэтому они желают этот наш белый свет захватить. Все мое отрочество омрачил этот жупел, евреи. Дедушка описывал прозорливые иудейские очи, лицемерием несказанным доводящие людей до посинения. Описывал их нечистые ухмылки, их раззявленные гиеньи пасти, зубы торчком, взоры тяжелые, развратные и скотские, носогубные складки подвижные, усугубляемые ядовитостью, и носы, крючковатые, наподобие клювов южных птиц… Что ж до глаз – о, их глаза! Лихорадочно вращаются в орбитах у евреев их зрачки цвета горелых гренков, знак заболевания печени, где накопилась вся их желчь за восемнадцать столетий. Вокруг зрачков – размякшая кожа нижних век, испещряемая тысячью морщин каждый год, и уже в двадцать лет иудей выглядит потасканным, почти старик. При ухмылке его напухшие веки прижмуриваются, оставляя еле проницаемую щель, и это примета лукавства, как расценивают некоторые, или же гримаса похоти, как утверждал мой дед. Когда я подрос и стал понимать больше, дед добавил еще одну подробность. Евреи, сказал он, мало того что спесивы, как испанцы, неотесаны, как хорваты, алчны, как левантинцы, неблагодарны, как мальтийцы, наглы, как цыгане, немыты, как англичане, сальны, как калмыки, надуты, как пруссаки, и злоязыки, как уроженцы Асти, они еще и прелюбострастники по причине безудержного приапизма, причиненного обрезанием, в чем великое несоответствие между их плюгавыми фигурами и громадностью пещерного тела внутри срамного их недокалеченного выроста.
Мне эти евреи вечно снились по ночам.
Благословение случаю, что я не сподобился наяву знакомиться с ними. Исключая однажды, в юности, ту потаскушку в туринском гетто. Но меж нами и двух-то слов, считай, сказано не было. Второй еврей в моей жизни – вот этот самый лекаришка, не то австрийский, не то немецкий. Я, откровенно говоря, не ощущаю разницы.

Немцев же я видал и даже делал с ними дела. Они – самая низкая ступень человеческого развития. Немец в среднем выделяет вдвое больше кала, чем француз. Гиперактивность его кишечной функции вредит работе мозга. Тем и объясняется их физиологическая второсортность. Во времена варварских орд пути германских полчищ, как правило, обрастали несоразмерными кучами фекалий. Да и в последующие столетия путник-француз понимал, что перешел за эльзасскую границу, чуть только он встречал из ряда вон выходящие габариты оставленных около дороги экскрементов. Мало того: немцам как нации свойствен повышенный бромгидроз (смердячий пот). Доказано, что немецкая урина содержит не менее двадцати процентов азота, в то время как у других народностей содержание азота в моче не превышает пятнадцати.
У немцев постоянно засоряется желудок из-за безудержного употребления пива и тех типичных свиных колбас, которые они поглощают. Поглядел я на них в свою мюнхенскую поездку. На протабаченные, как английский портовый склад, эти их кабаки… Ни дать ни взять пышные храмы, где вместо ладана сало и шпик. Туда они ходят парами, немецкие херры с их самками, и трясут на высоте пивными кружками (скорее, кадками), которые сгодились бы для водопоя слоновьих стад. И эти пары тварей трясут и чокаются, и снюхиваются, как псы при случке, нос к носу над пеной, лакая с ликованием, и грязно и похабно надсаживаются гортанным хохотом в своем допотопном горлобесии. На щеках и на лицах их бликует масляный пот. Так лучились оливковым маслом тела атлетов в античных цирках.
Это они себе заливают в глотки «Гейст». Вообще-то это слово значит спиритус, спиритуальность, а также духовность. Но в ихнем случае – дух пьяный и поганый, смолоду отупляющий немцев. Чем и объясняется, отчего по ту сторону Рейна никогда не бывало истинного искусства. Разве что несколько картинок с изображением непривлекательных людей и кое-какие стишата смертельной нудности. А уж их музыка! О чем там говорить? Не о трескучем же и замогильном Вагнере, забившем памороки нашим нынешним французам? Мне сказывали, что и у хваленого их Баха творения вовсе лишены гармонии, холодны, как зимние ночи. А уж симфонии, с которыми они носятся, сочиненные Бетховеном, прошу вас, увольте: что касается безвкусия, так это просто апофеоз.
Злоупотребление пивом лишает немцев способности хотя бы в малейшей мере почувствовать свою вульгарность. Наивысшее выражение их вульгарности – что они не стесняются собственной немецкости. Хвалятся чревоугодником Лютером, безнравственным монахом (он призывал жениться на монахинях?), и радуются, что он испаскудил Священное Писание, переведя его на немецкий язык. Кто-то сказал о них, только кто это был – не помню, что немцы дурят себя двумя главными европейскими наркотиками – алкоголем и христианством.
Тщеславятся своей глубиной. А вся-то глубина-то, что язык их мутен, не имеет ясности, как французский, и не выражает того, что полагалось бы сказать. И поэтому ни один германец сам не знает, что он хотел сказать и что сказал. Эта вязкость, по их мнению, – глубина. С немцами, как с женщинами, нельзя дойти до дна. К сожалению, их маловыразительный язык, в котором глаголы, пока читаешь, нервно выискиваешь глазами, потому что они никогда не бывают там, где им следовало бы быть, мне пришлось выучить по требованию деда в раннем отрочестве. Нечему удивляться. Дед все, что мог, обезьянничал с австрийцев. До чего я ненавидел этот паскудный язык, а с ним и иезуита, приходившего учить меня, немилосердно наказывая указкой по пальцам.
После того как Гобино написал о неравенстве человеческих рас, принято считать, что ругают инородцев те, кто провозглашает превосходство собственного племени. Мне такие предрассудки не сродни. С тех пор как я окончательно стал французом (наполовину быв им от рождения, по матери), я осознал, до чего мои новые соотечественники ленивы, кляузны, злопамятны, завистливы, самонадеянны до убежденности, будто всякий, кто не француз, – дикарь, и не способны выносить замечания. Но я и понял, каким образом охмурить француза, чтоб он признал недостатки французской нации. Достаточно при нем сказать, к примеру: «поляки знамениты таким-то безобразием», и, поскольку француз никогда не поступится первенством, он моментально возразит: «ну нет, у нас во Франции много хуже». А дальше как уж понесет своих родных французов, покуда не опамятуется и не скумекает, что это его таким манером одурачили.
Француз не поможет ближнему, даже когда ему это выгодно. Кто неучтивей французского трактирщика! Он с виду ненавидит посетителей (и на деле тоже) и желает, чтоб они провалились сквозь землю (на деле не вполне так, ибо француз еще и ужасно меркантилен). Ils grognent toujours. Они брюзжат. Попробуйте спросить о чем-то – выпучат губы: sais pas, moi, препохабно, будто газы выпустят.
Французы злы. Они убивают шутя. Они единственные, кто несколько лет подряд для потехи рубили головы друг другу. Счастье французов, что Наполеон поворотил их злобу на иноплеменников и всех погнал уничтожать Европу.
Они кичатся государством и хвалят его мощь, но сами заняты сотрясением устоев государства. Никто не перещеголяет французов в искусстве строительства баррикад по поводу и без повода, сплошь и рядом не зная зачем. Они выходят на улицы по призыву какой ни попадя наихудшей канальи. Француз не очень понимает, чего ему надо. Он знает только одно: то, что есть в наличии, не по нем. Чтоб выразить протест, француз поет.

Французы думают, что все на свете разговаривают по-французски. С десяток лет назад произошла история с одним таким Люка. Большого таланта был человек, три тысячи документов подделать сумел, и все на настоящей старой бумаге. Пройдоха выстригал чистые форзацы томов в Национальной библиотеке. Он навострился воспроизводить почерки, хотя и хуже, чем умею это делать я. И продал таких бумаг огромное количество за невообразимые цены этому недоумку Шалю… Серьезный математик, говорят, и член Академии наук, но, как мы видим, совершеннейший тютя. Не только Шаль, но и другие высокоученые академики приняли за чистую монету письма знаменитых личностей, Калигулы, Клеопатры и Цезаря, написанные по-французски! Равно как и переписку на французском языке между Паскалем, Ньютоном и Галилеем! А между тем даже школьникам известно, что в старину образованные люди переписывались на латыни. Ученые мужи, академические старцы не ведают, что у других народов в заводе были и иные языки, помимо их ненаглядного французского! Но из поддельных писем Паскаля вытекало, будто он открыл всемирное тяготение за двадцать лет до Ньютона: ну, и этого с походом хватило, чтобы обмишулить сорбоннцев, отуманенных патриотической спесью.
Возможно, невежество развивается в них от скупости. Скупость – национальная чума, которую они зовут добродетелью и уточняют: «не скупость, а бережливость». Только во Франции могли посвятить целую комедию скупому. И не будем забывать также о папаше Гранде.
Скаредностью дышат их пыльные квартиры, где никогда не меняют обои, а тазики наследуются от прабабок. Корыстность и мелочность французов видна и по их деревянным закрученным лестницам с непрочными ступенями – во что бы то ни стало экономится пространство. Ежели привьют, как, случается, прививают черенок к дереву, к французам еврея (предположим, немецкого еврея), то получится именно то, что мы сейчас имеем в наличии. Получится Третья республика.
Я, конечно, сам стал французом. Но стал я им только из-за того, что итальянцем оставаться было нестерпимо. Пьемонтец по рождению, я явственно чувствовал, что я – карикатура на галла, но еще ограниченней, чем галлы. Пьемонтцы! От всякой новости пьемонтцы столбенеют. От неожиданностей цепенеют. Чтоб затащить их в Сицилийское королевство (тех немногих пьемонтцев, которые были в гарибальдийском войске), понадобились двое лигурийцев: энтузиаст Гарибальди и зануда Мадзини.
А уж то, что я выяснил в тот раз, когда меня послали в Палермо! Когда это было? Восстановить бы…
Только фанфарон Дюма любил италийские народы. Наверное, потому, что они превозносили его. Не то что французы. Французы прежде всего видели в нем мулата, а уж во вторую очередь – писателя. Нравился же Дюма неаполитанцам и сицилийцам, которые сами помеси, и не по оплошности гулящих родительниц, а по своей истории. Все они выродки от неверных оттоманцев, от немытых арабов и от вырожденцев-остроготов, унаследовавшие самое худшее от разношерстных прародителей: от сарацин нерадивость, от свевов свирепость, от греков безалаберность и крючкотворство. Впрочем, достаточно разок взглянуть на неаполитанских босяков, как они прилюдно напихиваются макаронами, вталкивая их грязными пальцами в хайло и обмазываясь прокисшим помидорным соусом. Я сам, по-моему, этого не видел, но мне рассказывали.
Итальянцы коварны, лживы, подлы, они предатели, предпочитают кинжалы честным дуэлям, предпочитают яды лекарствам, ускользчивы в переговорах и верны только одному принципу – принципу двурушничества, чему пример – бурбонские военачальники и как они повели себя при первом же появлении босяков из войска Гарибальди под командой пьемонтских генералов.
Все оттого, что итальянские военные сделаны из того же теста, что итальянские священники, – а именно священники, только они одни, и управляли Италией с тех пор, как этого дегенерата, последнего римского императора, оприходовали (сам подставил задницу) лихие варвары за то, что он дозволил христианству подорвать боевитость гордой нации.
Священники… Когда я соприкоснулся с ними? А в дедовом доме, думаю. Как сквозь туман, вспоминаю их скошенные взоры, испорченные зубы, нечистое дыхание и влажные от пота ладони, которыми они норовили погладить меня по головке. Вот гадость. Эти бездельники относятся к таким же опасным классам, как бродяги и воры. Тот, кто хочет стать священником или монахом, просто не хочет работать. Работать попам не приходится уж в самую силу их количества. Будь их, ну скажем, по одному на тысячу голов паствы, они бы не рассиживались по суткам за жирными каплунами. Среди самых никудышных из попов правительство отбирает глупейших и рукополагает их в епископы.
Святоши повсюду. Рождаешься – они тебя крестят. Идешь учиться – учат, если родители были ханжами и заслали тебя в религиозный интернат. И они же занимаются твоим причастием, катехизисом, конфирмацией. Священник в день свадьбы тебя учит, что ты должен делать с новобрачной в постели, а наутро требует исповеди, сколько же раз ты это сделал, чтоб самому повозбуждаться под прикрытием занавеси за решеткой. Попы стращают плотью, плотью, плотью, а сами неприкрыто, каждоденно встают с кровосмесительного ложа, и, даже руки не помыв, идут себе кушать и пить своего Господа и, соответственно, потом идут себе Господом мочиться и испражняться.
Поминутно бубнят, будто царствие их – не от мира сего, и, однако, силятся наложить лапу на все, чем только можно поживиться. На свете не будет достигнуто совершенство, покуда последняя церковь не рухнет на голову последнего попа и мир не освободится от поповского семени.
От коммунистов пошло выражение «религия – опиум народов». Это правильно, поскольку религия сдерживает искушения подданных. Кабы не религия, было бы вдвое больше народу на баррикадах. А так во время Коммуны восставшим явно недостало людей, и всех удалось перехлопать без проволочек. После того как я узнал от австрияка-врача о пользе одного колумбийского снадобья, я подумал: религия – это и кокаин народов, потому что религия подстрекает народы к военным действиям, к резне, истреблению неверных, она подстрекает и христиан, и мусульман, и прочих идолопоклонников. Тех негров из Африки, которые прежде ограничивались междоусобными кровопролитиями, миссионеры обратили в христианство и понабрали себе из негров-христиан колониальных солдат, идеальных для геройской смерти на передовой и для изнасилования белых женщин при взятии городов. Никогда люди с таким энтузиазмом и полнотою не творят зло, как когда они его творят во имя религии.
Хуже остальных, ясно, иезуиты. Вроде бы я им когда-то устроил веселую жизнь… А может, это они мне подгадили, не удается припомнить… Или, кто знает, это могли быть кровные братья иезуитов, масоны. Масоны то же самое, что иезуиты, только бестолковее. У иезуитов по крайней мере только одна богословская теория, и они умеют ею пользоваться, а масоны таскаются со множеством теорий, но без царя в голове. О масонах мне рассказывал покойный дедушка. Купно с евреями они отрубили голову королю. И пробудили к жизни карбонариев, то есть совсем дураковатых масонов, попадавших в старое время под расстрел, а в новое время – на гильотину за то, что не умели бомбу собрать по-человечески. Потом они становились социалистами, коммунистами и коммунарами. Всех их ставить к стенке. Правильно делал Тьер.
Масоны и иезуиты… Иезуиты – масоны в юбках.
Ненавижу юбки за то немногое, что мне о них известно. Я много лет проненавидел кабаки с девицами (brasseries à femmes), куда сходятся презренные личности самого пакостного разбора. Они опасней явных борделей. Открытию борделей, как правило, противостоят жители соседних домов. А кабаки могут открываться где угодно: туда ведь ходят закусить и выпить. Но закусывают на первом этаже, а на втором и третьем греховодничают. У каждого кабака свой образец. Красотки наряжены на особый фасон. У нас в пивной разносят выпивку немецкие кельнерши, а рядом с Дворцом правосудия девки одеты в мантии, как адвокаты. По одним только названиям все понятно. «У Вертихвосток»! «У Марокканок»! «Четырнадцать ягодиц», неподалеку от Сорбонны! Почти всегда содержатели кабаков – немцы. Вот так и подрывают французскую мораль. Меж пятым и шестым арондисманами подобных притонов не менее шестидесяти. А вообще по Парижу их наберется сотни с две. И вхожи туда зеленые юноши, они идут сперва из любопытства, а после по привычке, пока не схватят трепака, если не худшую какую-нибудь гадость. Злачные места соседствуют с учебными заведениями, стыдоба! После занятий ученики толпятся около дверей и смотрят на милашек. Я лично тоже прихожу. Но я-то прихожу пропустить рюмочку. И смотрю через дверь на этих молокососов около двери, которые с улицы, через дверь, заглядывают туда, где сижу я. Не только молокососы. Там можно набираться сведений и о привычках, и о сношениях всяких взрослых. А сведения могут пригодиться, и пригождаются, каждое в свой черед.

Еще интересно подглядывать, что у них за сутенеры за столами. Одни – мужья, из тех, что кормятся за счет жениных красот. Прилично одетые, они сидят, курят и перекидываются в картишки. Хозяин и девчонки зовут их «рогачи». А в Латинском квартале на подобных ролях в основном студенты-недоучки. Постоянно трясутся, как бы их не обдурили при расчетах, и хватаются за ножи. Самые спокойные – разбойники и убийцы. Они заходят ненадолго, потому что заняты своими убийствами и разбоями. А когда заходят, то понятно, что девчонки шутки шутить с ними не станут, если не хотят назавтра бултыхаться в грязноватой водичке в Бьевре.
Есть и моральные уроды. Заманивают извращенцев и извращенок для тошнотного разврата, зазывают их у Пале-Рояля или на Елисейских полях условными знаками. А их дружки, переодевшись полицейскими, готовятся нагрянуть в номер в самую сладкую минуту и пригрозить бесштанному клиенту немедленным арестом. На что, естественно, тот вытащит в ответ пачечку ассигнаций.
Я захожу в лупанарии с опаской, понимая, что это риск. Когда клиент по виду денежный, содержатель кивает. Одна из распутниц подсаживается и постепенно подзывает к столу остальных товарок, и вместе пьют и жрут самые дорогие яства (однако, бережась от опьянения, заказывают себе наливки анисовые, смородинные – подкрашенную водичку, которую клиент оплатит нешуточными деньгами). Стараются растормошить клиента и на карточные игры. Конечно, перемигиваются… Ты в проигрыше… И тогда требуют платить за всех кто там ни на есть – за девок, трактирщика и трактирщицу. Стараешься уклониться – так уговаривают играть не на деньги, а в раздевалочку. На каждую проигранную ставку девчонка снимет что-нибудь из одежды. И с каждым спущенным кружевцом оголяются мерзостные молочные телеса, наливные груди и темные подмышки, пряный пот от которых разит мне прямо в душу.
Я ни разу не ходил на верхний этаж. Кто-то мне говорил: женщины – замена одинокого рукоблудия, только с ними нужно больше фантазии. Возвращаюсь к себе и вижу женщин по ночам. Я же тоже не железный. Они сами меня раздразнивают.
В книге доктора Тиссо я читал: женщины вредны даже на расстоянии. Неизвестно, одно ли и то же – жизненные ликворы и семенной сок. Но бесспорно, что у этих двух текучих сред наблюдается подобие. И после долгих ночных поллюций не единственно силы слабеют, но и тело худеет, бледнеет лицо, рассыпается память, туманится зрение, охрипает голос, во сне витают тревожащие видения, ощущается боль в глазах, на лице проступают красные пятна. Люди начинают харкать сгустками, мучиться сердцебиениями, удушьем, обмороками, у иных появляется понос или зловонные извержения. В результате, как правило, слепота.
Допускаю, что все это преувеличено. По молодому возрасту у меня наблюдались угри, но, наверное, это вообще свойственно отрочеству, а может, дело в том, что все подростки балуются одними и теми же способами, и злоупотребляют, и предаются этому день и ночь. Так вот, я умею дозировать радости. Сны у меня тревожны только после питейного заведения. И мне не случается, как другим, ощущать подъем от одного лишь силуэта идущей женщины на улице. Мой труд отвлекает меня от порока.
Но зачем философствовать, если цель – восстанавливать события? Оттого, что, надо думать, мои цели – не только выяснить, чем я занимался до вчерашнего дня, но и определить, что у меня на душе. Конечно, если в принципе душа существует. Есть ведь мнение, что существенно только то, что имеет выход на внешнее действие. Не согласен! Коль скоро я кого-нибудь ненавижу и коль скоро я в себе эту вражду вынашиваю, значит, дьявольщина, я вынашиваю вражду внутри в себе! То есть кое-что внутри у меня есть. Как сказал философ, как это? Odi ergo sum.
Вот только что было посещение. Позвонили в двери снизу. Ужаснувшись, не явился ли кто-то глупый до такого невероятия, чтобы хотеть у меня что-нибудь купить, я открыл. Нет, этот был опытный, он сразу сказал, что его посылает Тиссо. Отчего-то я использую именно этот пароль. Ему требовалось собственноручное завещание от имени некоего Бонфуа в пользу Гийо (а Гийо, держу пари, это он сам). Принес бумагу, которой пользуется или же пользовался Бонфуа, принес, конечно, образчик почерка. Я пригласил Гийо подняться ко мне в кабинет, подобрал перышко и подходящие чернила и без черновика сообразил ему документ. Вне всякой критики. Этот Гийо, по всему судя, знал мой тариф, он отсчитал правильную сумму, соответствующую количеству наследства.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































