Текст книги "Лавиния"
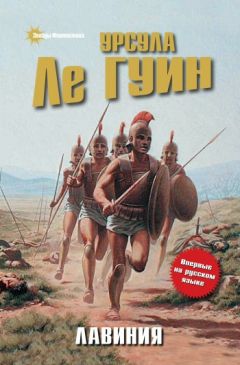
Автор книги: Урсула Ле Гуин
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Я теперь и не знаю, когда смогу снова сюда вернуться, – сказала я.
– И я этого не знаю, Лавиния.
Он смотрел на меня в темноте, и я была уверена: он улыбается.
– Ах ты, моя милая, – сказал он по-прежнему очень тихо. – Моя незавершенная, моя незаконченная, моя недосказанная. Мое дитя, которого у меня никогда не было. Приди сюда еще хоть раз!
– Я обязательно приду, – пообещала я.
* * *
Мой голос отнюдь не на стороне женщин-феминисток, как вы, возможно, подумали. И отнюдь не обида и возмущение побуждают меня писать историю моей жизни. Гнев, пожалуй, да, но только отчасти. И это не просто гнев. Я страстно жажду справедливости, но не знаю, в чем она заключается. Очень тяжело, когда тебя предают. Но куда тяжелее знать, что ты сама сделала предательство неизбежным.
Так кто же на самом деле был моей настоящей любовью, герой или поэт? И не важно, кто из них любил меня сильнее; и тот, и другой любили меня очень недолго. Зато сильно. Да, очень сильно. Но я хочу понять, кого из них я сама любила сильнее. И не могу ответить на этот вопрос. Один был мне мужем, прекрасным мужчиной, чья плоть, соединившись с моей плотью, дала мне возможность зачать и родить сына; именно мой муж сделал меня настоящей женщиной, он был моей гордостью, моей славой. Второй же был всего лишь тенью, шепотом во мраке, сном или виденьем девственницы, однако именно он-то меня и создал, стал автором всего моего бытия. Разве я могу выбирать? Обоих я потеряла слишком скоро. Я знала их лишь чуточку лучше, чем они меня. И я хорошо помню, помню всегда, что сама я – всего лишь условность.
Как, разумеется, и они оба. И вполне могло случиться, что маленький Публий Вергилий Марон умер бы лет шести или семи от роду, так и не успев стать поэтом, и прах его покоился бы под маленькой могильной плитой в Мантуе; а вместе с ним, разумеется, должна была бы умереть и слава его героя, и на италийском берегу не осталось бы даже мифа об Энее – может быть, лишь имя его, одно из тысяч других имен таких же воинов. Все мы условности. И негодовать, обижаться нам просто глупо и невеликодушно. Да и гнев тут ни к чему. Я – всего лишь солнечный зайчик на поверхности моря, отблеск вечерней звезды. Я живу, испытывая благоговейный трепет. Даже если меня никогда и не было на свете, я все же есть – безмолвное крыло на ветру, бестелесный голос в лесу Альбунеи. Я говорю с вами, но сказать могу лишь одно: идите, идите вперед.
* * *
Когда на следующий день мы с Маруной вернулись домой, то на женской половине все сразу же бросились рассказывать нам, что Турн прислал к моему отцу гонца, а царица Амата желает незамедлительно меня видеть.
Привычный страх перед матерью заставил меня внутренне съежиться при этом известии. Впрочем, она давно уже перестала кричать на меня и старалась не унижать, как это часто бывало прежде. Я даже устыдилась собственной трусости. И, едва успев смыть с ног дорожную пыль и переодеться, сразу же прошла в ее покои. Она, похоже, искренне мне обрадовалась, тут же отослала прочь всех своих служанок и, поцеловав меня в лоб, взяла за руки и усадила рядом с собой. Подобная демонстрация любви могла бы показаться нарочитой, даже фальшивой, но Амата, в общем, не имела склонности к притворству. Скорее она была рабой собственных чувств и настроений, так что вряд ли оказалась бы способна сыграть роль, которая ей не подходит, которой она не чувствует. Нет, она действительно рада была меня видеть, и это, разумеется, тут же нашло отклик в моем сердце. Я так давно мечтала получить ее одобрение, мне так сильно хотелось почувствовать, что моя прекрасная и несчастная мать хоть немного любит меня, что даже самое слабое проявление доброты с ее стороны делало меня совершенно не способной ей сопротивляться. Я с готовностью села с нею рядом.
Она погладила меня по голове. Рука ее немного дрожала, и я поняла, что она чрезвычайно возбуждена. Ее большие темные глаза были, казалось, полны света.
– Царь Турн прислал гонца, Лавиния!
– Да, так мне и наши женщины сказали.
– И по всем правилам попросил твоей руки!
Она так жадно и внимательно следила за мной, она сидела так близко от меня, что я не выдержала – умолкла и опустила глаза, чувствуя, что начинаю краснеть. Я вся горела; лицо мое пылало; мне вновь казалось, что я угодила в ловушку, что я совершенно беспомощна, беззащитна…
Мое испуганное молчание ничуть не удивило мать. Она взяла меня за руку и не выпускала ее, продолжая с воодушевлением говорить:
– Это чрезвычайно великодушное предложение! У царя Турна душа вообще широкая. Именно поэтому он обратился к твоему отцу не только от своего имени, но и от имени всех прочих молодых правителей и воинов, которые приезжали свататься к тебе, – Мессапа, Авентина, Уфенса и Клавса Сабинянина. Турн предлагает, чтобы во избежание споров и напрасного кровопролития между всеми этими достаточно могущественными союзниками Латина и его подданными он выбрал мужа для своей дочери, то есть для тебя, и тем самым положил конец их соперничеству. Все они согласны принять выбор твоего отца. Так что он вскоре пошлет за тобой и сообщит о своем решении.
Я смогла лишь молча кивнуть.
– Но принять подобное решение ему будет нелегко, – сказала Амата, и голос ее зазвучал спокойнее и мягче, поскольку она уже покончила с изложением послания Турна. – Ведь он так к тебе привязан, и ему совсем не хочется тебя отпускать. Однако он был весьма обеспокоен тем соперничеством, о котором говорит и Турн. Он прямо-таки ночами не спал, опасаясь, что эти молодые воины начнут драться друг с другом из-за тебя или попытаются воздействовать силой на него, заставляя сделать выбор. И то, и другое было бы весьма плохо для Лация. Ты же знаешь, как твой отец гордится тем миром, который ему до сих пор удавалось сохранить. И он всем сердцем стремится и дальше жить со всеми в мире. Он ведь уже стар, ему не до сражений. И, если честно, больше всего ему сейчас нужен сильный молодой зять, способный его защитить. Как ты думаешь, кто из твоих женихов более всего подходит на эту роль?
Я молча покачала головой. В горле у меня пересохло, и я не способна была выговорить ни слова.
– А ведь отец спросит тебя об этом, Лавиния. И ты должна быть готова дать ответ. Ты ведь прекрасно знаешь: Латин никогда не выдаст тебя замуж за человека, который тебе не нравится! С другой стороны, тебе давно пора замуж. Тут уж ничего не поделаешь. Придется тебе выбирать. Но выбор действительно за тобой. Неволить тебя отец ни за что не станет.
– Я знаю.
Амата встала, походила по комнате, затем взяла со столика крошечный горшочек с розовым маслом, умастила мне запястья и сказала с улыбкой:
– Это ведь довольно приятно, когда из-за тебя спорят сразу несколько женихов, и все вполне достойные молодые люди. Уж я-то знаю! И так жаль все это прекращать… Но ничего. Сватовство вечно длиться не может, и как бы трудно ни было выбрать кого-то одного, выбор, когда его все же приходится сделать, обычно происходит как бы сам собой. И среди всех прочих претендентов лишь один оказывается не только вполне приемлемым, но и единственно возможным, предназначенным тебе самой судьбой.
Амата снова улыбнулась, она прямо-таки сияла, и я невольно подумала: как же она похожа на девушку, говорящую о своем суженом!
Однако я по-прежнему молчала, и она, выждав минуту, снова заговорила:
– Ну что ж, дорогая, тебе вовсе не обязательно сообщать о своем выборе прямо сейчас. Но отцу тебе это сказать все же придется. Или придется позволить нам выбирать вместо тебя.
Я кивнула.
– Ты хочешь, чтобы мы с отцом сделали это?
Она даже не попыталась скрыть, как сильно этого хочется ей самой. Но говорить я по-прежнему не могла и ей не ответила.
– Неужели ты так боишься? – Она сказала это почти с нежностью, и снова села со мною рядом, и крепко меня обняла, и прижала к себе, чего не делала, наверное, с тех пор, как мне было лет шесть. Но я точно окаменела и не оттаяла даже в ее объятьях; сидела, как истукан, и молчала. – Ах, Лавиния, он будет добр к тебе, он будет хорошим мужем! Он такой чудесный… такой красивый! Тебе совершенно нечего бояться. И ты сможешь часто приезжать к нам с ним вместе. Да и я с удовольствием буду ездить к вам в Ардею – он неоднократно повторял, что был бы очень этому рад. Это ведь мой родной город, там я провела детство. Там очень красиво. Впрочем, ты сама увидишь. И тебе там будет почти так же хорошо, как здесь. Он станет заботиться о тебе, как заботится о тебе сейчас твой отец. Ты будешь счастлива там. Так что тебе совершенно нечего бояться. И потом, я, разумеется, поеду с тобой.
Я довольно резко высвободилась из ее объятий и встала, чувствуя, что мне совершенно необходимо уйти от нее подальше.
– Хорошо, мама, я, конечно же, поговорю с отцом, как только он пришлет за мной, – сказала я и поспешила прочь. В ушах у меня стоял звон, а нервный румянец и жар сменились сильнейшим ознобом.
Пробегая по галерее, я увидела в центральном дворе у лаврового дерева целую толпу людей и попыталась проскользнуть мимо них незамеченной, но меня, разумеется, тут же заметили – сперва Вестина, а потом Тита – и закричали:
– Лавиния, иди-ка сюда! Посмотри, что тут такое! – Они потащили меня к лавру, и оказалось, что там действительно кто-то сидит среди ветвей. Это было похоже то ли на толстое животное с темной шерстью, то ли на огромный мешок, шевелившийся, как живой, то ли на облако тяжелого темного дыма, случайно зацепившееся за ветки. И от этой странной штуки исходил дребезжащий монотонный гул. Все кричали, показывали туда пальцами, и я вдруг догадалась: это же пчелы, огромный пчелиный рой!
Пришел мой отец. Суровый, седовласый, держась очень прямо, он спокойно пересек двор, приблизился к дереву, взглянул на темное облако, клубившееся на вершине и все время менявшее форму, затем перевел взгляд на облака, уже начинавшие розоветь в закатных лучах, и спросил:
– Это что, наши пчелы?
Ему ответили, что нет, этот рой прилетел сюда поверху, перелетев через крышу, «точно огромный клуб дыма».
– Скажи Касту, – велел Латин сопровождавшему его домашнему рабу, – что у нас на лавре собирается ночевать рой пчел. Вечером Каст легко сможет его отсюда перенести. – Мальчишка стрелой полетел разыскивать нашего пчеловода Каста.
– Это знамение, хозяин, знамение! – выкрикнула мать Маруны. – Пчелы ведь не просто так сюда прилетели: они сели на верхушку того дерева, что как бы венчает наш Лаврент! О чем говорит это знамение, хозяин?
– А откуда они прилетели?
– С юго-запада.
Все примолкли, ожидая, что скажет Латин. Молчал он недолго.
– Это значит, что с той стороны к нам в регию вскоре прибудут гости, чужеземцы, – сказал он. – Возможно, они приплывут по морю.
Будучи отцом семейства, хозяином нашего дома, нашего города и нашей страны, Латин привык читать различные знамения. Он не пользовался для этого никакими таинственными средствами и особыми приготовлениями, как это делают предсказатели-этруски. Увидев тот или иной знак, он старался его понять, а потом, не колеблясь, с суровой простотой разъяснял его людям.
Вот и сейчас его ответ всех удовлетворил. Многие так и остались во дворе, обсуждая случившееся, стряхивая с волос отдельных, ленивых и каких-то отяжелевших пчел и поджидая, когда придет Каст, соберет рой и переправит его в наши ульи.
Тут Латин заметил меня и сказал:
– Пойдем-ка со мной, дочка.
Я послушно последовала за ним. Войдя в свои покои, он остановился у небольшого столика и посмотрел на меня. В распахнутых дверях ярко светилось вечернее небо.
– Твоя мать говорила с тобой, Лавиния?
– Да.
– Значит, ты знаешь, что твои женихи договорились друг с другом и попросили меня выбрать тебе мужа из их числа?
– Да.
– Вот и хорошо, – сказал он и улыбнулся вымученной улыбкой. – В таком случае, может быть, ты сама скажешь, кого мне выбрать?
– Нет.
Я не пыталась дерзить, но мой решительный и краткий ответ явно задел его. Он с минуту внимательно на меня смотрел, потом спросил:
– Но ведь среди них наверняка есть один, которого ты предпочитаешь остальным?
– Нет, отец.
– Значит, это не Турн?
Я только головой помотала.
– А твоя мать говорила, что ты любишь Турна.
– Нет, не люблю.
И снова его неприятно поразил мой резкий ответ, однако он сдержался и, проявляя терпение, мягко спросил:
– Ты совершенно в этом уверена, детка? По словам твоей матери, ты влюблена в него еще с тех пор, как он впервые попытался за тобой ухаживать. Она, кстати, предупреждала меня, что ты из скромности, возможно, и не захочешь в этом признаться. И, по-моему, подобная скромность вполне естественна для невинной девушки. Впрочем, сейчас нам вовсе и не обязательно продолжать этот разговор. Ты уж только как-нибудь дай мне понять, что не возражаешь, если я приму его как твоего жениха.
– Нет!
Отец озадаченно посмотрел на меня; он явно не знал, как ему поступить.
– Но если не Турн, то кто же из них? – нерешительно спросил он.
– Никто.
– Ты хочешь, чтобы я отказал им всем?
– А ты это можешь? Правда можешь?
Латин с мрачным видом прошелся по комнате, задумчиво поглаживая подбородок и опустив широкие мускулистые плечи. В тот день он, похоже, еще не брился: на подбородке у него торчала седая щетина. Наконец он снова остановился передо мной и сказал:
– Да, я могу отказать им. В конце концов, я пока что правитель Лация. Но почему ты просишь об этом?
– Я знаю, что предложение, сделанное тебе Турном, таит в себе и некую угрозу.
– Да, пожалуй. Но об этом тебе не стоит тревожиться. Мне важно знать одно: чего хочешь ты сама, Лавиния? Каковы твои намерения? Ведь тебе уже восемнадцать. Не можешь же ты без конца оставаться здесь в качестве девственницы-весталки.
– Я уж скорей стану весталкой, чем выйду за кого-то из этих людей!
Мы называем весталкой женщину, которая сама принимает решение никогда не выходить замуж или же ее никто не берет замуж и она остается в семье своего отца, заботясь о том, чтобы в очаге Весты всегда горел огонь.
Отец вздохнул; на меня он не смотрел; он смотрел на свою руку, лежавшую на столе, большую, покрытую шрамами. По-моему, он с трудом сопротивлялся подобному искушению – возможности навсегда оставить меня при себе. Наконец он снова заговорил:
– Если бы я не был царем… если бы у меня были еще дочери… если бы не умерли твои братья… Да, тогда ты могла бы сделать и такой выбор. Но раз уж так сложилось и ты моя единственная дочь, тебе все же придется выйти замуж, Лавиния. В тебе одной теперь заключена моя власть и могущество нашего рода, и мы не можем делать вид, будто это не так.
– Подождем еще годик!
– Но и через год выбор будет примерно таким же.
На это мне нечего было ответить.
– Турн и впрямь лучший из них, дочка. Мессап всегда будет у Турна под ногтем. Авентин в своей львиной шкуре – парень, конечно, хороший, но не слишком умный. А прожить всю оставшуюся жизнь где-то в горах у Уфенса ты попросту не сможешь, да и мне самому совсем не хочется отсылать тебя к этим хитрым и ненадежным сабинянам. В этой компании Турн, пожалуй, действительно лучше всех. Возможно, во всем Лации не найдется лучшего жениха. Да и как правитель он неплох; и враги его опасаются – он прекрасный воин; к тому же он богат и хорош собой. Насколько я знаю, все женщины считают его красавцем. И он наш родственник. И, по словам твоей матери, безумно в тебя влюблен. – Отец с надеждой посмотрел на меня, но я не ответила на его взгляд. – Она постоянно рассказывает, какие хвалы он поет тебе. Она считает, что Турн настроен чрезвычайно решительно и, если я отдам тебя за кого-то другого, он всеми силами постарается воспрепятствовать этому решению, несмотря на заключенное соглашение. И, возможно, она права: Турн – парень весьма честолюбивый и самоуверенный. Впрочем, у него, пожалуй, есть на это основания. И потом, мать твоя внушила ему определенную надежду. Мне кажется, если ты выберешь кого-то другого, то и она взбунтуется. – Он явно пытался пошутить, но шутки не получилось; и он прекрасно это понимал. Взгляд у него стал жалким. – Лавиния, твоя мать все это принимает очень близко к сердцу. Ее чрезвычайно волнует твое будущее благополучие, а также благополучие нашей страны, – неуверенно прибавил он.
Мне нечего было ему возразить, но и ответа у меня тоже не было.
– Дай мне пять дней, отец, – попросила я, чувствуя, как тихо и хрипло звучит мой голос.
– И тогда ты назовешь своего избранника?
– Да.
Он обнял меня своими крупными руками и поцеловал в лоб. Я чувствовала тепло его тела, вдыхала знакомый, родной запах, чуть резковатый, но успокаивающий – летом так пахнет нагретая земля на холмах предгорий.
– Ты – свет моих очей, – шепнул он мне, и я не выдержала: расплакалась. Быстро поцеловав ему руку, я в слезах убежала на женскую половину. Все по-прежнему торчали во дворе, хотя уже наступили сумерки: смотрели, как Каст заговаривает пчелиный рой, собирая его в большой гудящий темный шар над фонтаном. Этот похожий на странную тень шар, раскачиваясь, то раздувался, то съеживался, а Каст все бормотал свои заклинания, готовя сетку, чтобы взять сонных пчел в плен.
* * *
Пять дней – мне казалось, это так много! Я, как могла, сторонилась всех в доме и однажды даже убежала в поместье Тирра. Сильвию я отыскала в молочной и упросила пойти со мной. Мне хотелось поговорить с ней о том выборе, который я должна буду сделать; впрочем, она уже, разумеется, обо всем и так знала. В царском дворце редко удается хоть что-нибудь сохранить в тайне. Все знали также, что брата Сильвии Альмо даже не включили в тот список женихов, который Турн представил моему отцу. Как только я вошла в молочный сарай, мне сразу стало ясно: Сильвия надеется, что я попрошу ее подбодрить Альмо, сказать, что я выбрала именно его, и пусть он теперь сам обратится к Латину и напрямик попросит моей руки. Тирр и его семейство позволяли себе питать столь честолюбивые надежды, полагая, что моя дружба с Сильвией дает им подобные основания, и для меня, например, статус Альмо и впрямь не имел никакого значения; мы, молодежь, на подобные вещи не обращали особого внимания в отличие от сильных мира сего, царей и цариц, которые, видимо, считали себя смертным воплощением высших сил нашей страны.
Когда Сильвия поняла, что я вообще никого из этого списка так и не назвала своим женихом, она стала прямо-таки навязывать мне своего брата. Когда же я, качая головой, решительно сказала: «Нет, Сильвия, Альмо я никак не могу выбрать», она пожелала знать почему. Ведь я всегда так хорошо к нему относилась, твердила она. Ведь он поэтому в меня и влюбился. Или я, царская дочь, считаю, что он недостаточно хорош для меня? И так далее, и тому подобное.
– Я очень люблю Альмо, куда больше всех этих женихов, – сказала я ей, – но замуж я за него совершенно не хочу. А если б вдруг захотела, если б выбрала его, то это, боюсь, лишь привело бы к его гибели. Ведь Турн сразу набросился бы на него, точно коршун на мышь.
Сравнение, конечно, было глупое, и Сильвии мои слова очень не понравились.
– Даже если б твой отец отказался защитить моего брата, то у нас в доме, я думаю, тоже нашлись бы воины, способные дать должный ответ этому Турну! – сухо заметила она.
– Ох, Сильвия, прости! Альмо, конечно, на мышь ничуть не похож! Это я словно мышь посреди поля, с которого уже вся трава убрана, вокруг голое жнивье, любой ее видит, и спрятаться ей совершенно негде! Вот и я, как та мышь, все бегаю, бегаю, ищу убежище, но никак не могу его отыскать. Куда бы я ни посмотрела, о каком бы месте ни подумала – везде этот Турн со своими синими глазами и белозубой улыбкой и моя… – Я заставила себя остановиться и после небольшой запинки сказала совсем не то, что было у меня на уме: – И моя мать полностью ему доверяет.
– А ты нет? – с интересом спросила Сильвия.
– Нет. Он не способен ни на жалость, ни на сострадание. Он видит только себя.
– Ну и что? Ведь он богат, он красив, он – царь. – Ее ирония была, в общем, незлой, но она явно никакого сочувствия ко мне не испытывала. Она переживала за Альмо и хотела наказать меня за то, что ее брат страдает.
По-моему, Сильвия отлично понимала, как мне страшно, но все же не пожелала спросить, чего именно я боюсь, а потому и я не смогла быть с ней откровенной, хотя мне очень этого хотелось.
Но расстались мы все же друзьями. Сильвия не могла не понимать, что Альмо пытался прыгнуть выше головы, что он действительно подверг бы и себя, и свою семью смертельной опасности, завоевав женщину, которую выбрал себе в жены царь Турн. На прощанье она крепко меня обняла, поцеловала и, вздохнув, сказала:
– Ох, как жаль, что так все получилось! Хорошо бы на свете вообще никаких мужчин не было! Хорошо бы мы могли, как прошлой весной, опять ходить вместе на реку!
– Может, еще и сходим, – бодро ответила я, но на сердце у меня кошки скребли. Я поцеловала Сильвию, мы с ней распрощались, и я побрела назад через поля, очень стараясь не плакать. Я и так все время лила слезы, и меня от этой «сырости» уже просто тошнило. И не было на всем белом свете никого, с кем я могла бы обо всем поговорить по душам, кто действительно мог бы понять меня. Разве что тот поэт. Маруна, пожалуй, тоже поняла бы меня, но с ней говорить о моей матери было нельзя. Нельзя просить рабов говорить или слушать нечто, порочащее их хозяев; это несправедливо, нечестно, это ставит их под угрозу. Ведь среди домашних рабов всегда найдутся лизоблюды и доносчики, как же иначе? В царском дворце, как говорится, у всех стен есть уши. Я знала, что Маруна мне сочувствует, и это очень меня поддерживало, но поскольку я не могла защитить ее, я не могла ей и довериться.
А большинство наших служанок просто понять не могли, почему я не прыгаю от радости, узнав о предложении Турна. Старая Вестина каждый день пела ему хвалы, сопровождаемая, можно сказать, целым хором завистливых вздохов и хихиканья.
Моя мать все продолжала страстно убеждать меня, что лучше Турна жениха мне не сыскать, но миновали уже четыре дня, и наступил пятый, то есть назавтра я должна была уже объявить о своем решении, и мать не выдержала. Ее отчаяние и вызванное моим упрямством раздражение вдруг прорвались в виде приступа того бешеного, неуправляемого гнева, какие мне не раз доводилось переживать в детстве. Как только я легла спать, Амата явилась ко мне в комнату в ночной рубашке и с крошечным масляным светильником в руках. В темноте этот огонек казался не больше бутона каперса, зато мать выглядела отчего-то очень высокой, даже громоздкой в своей просторной белой рубахе, с распущенными черными волосами, свисавшими вдоль ее бледного лица.
– Не знаю, что за игру ты затеяла и на что надеешься, пытаясь водить своего отца за нос, Лавиния, – сказала мать тихим, хрипловатым голосом, – но вот что я тебе скажу: ты выйдешь замуж за Турна и станешь царицей Ардеи. И нечего прятаться и хныкать. Если тебе не нравится Турн, не тревожься: ты ему, возможно, тоже не так уж и нравишься; это чисто политический брак, а не изнасилование. Дочь в семье нужна только для того, чтобы удачно выдать ее замуж, и ты такая же, как все прочие девицы, ничем не лучше. Так что будь добра, исполни свой долг, как я исполнила свой. Если ты не дашь осуществиться такой блестящей возможности, я тебе этого никогда не прощу! Никогда! – И мне стало страшно – но не от того, ЧТО она сказала, а КАК она это сказала. Она стояла совсем рядом, и я все ожидала, что в следующее мгновение она меня ударит или вцепится ногтями мне в лицо, как это уже было однажды. Голос ее дрожал, она хрипло дышала и уже не говорила, а шипела:
– Скажи, что выйдешь за Турна, скажи, что выйдешь…
Но я так и не произнесла ни слова. Не могла.
Странные звуки вырвались у нее из груди – то ли пронзительный стон, то ли грозное клокотание, и она, резко повернувшись, выбежала из комнаты.
Через некоторое время я встала, ибо спать не могла – мне все виделась рядом с моей постелью взбешенная Амата, – и прокралась во двор. Там никого не было, все давно уже легли. Я присела на деревянную скамью под лавровым деревом и стала смотреть на звезды, медленно проплывавшие над крышами регии. Ночной холод, казалось, проник даже в мои мысли, и они тоже стали холодными и ясными. Я понимала: мне придется выйти замуж за Турна и избежать этого невозможно. Если я приму предложение другого жениха, это скорее всего послужит поводом к началу войны. То соглашение, которое Турн заключил с другими претендентами на мою руку, ровным счетом ничего не значит. Он уверен, что непременно победит в этом состязании; ведь он всегда должен быть победителем, хозяином положения; и уж он-то никому не позволит взять в жены женщину, которая приглянулась ему самому. Мать права: брак – это моя обязанность как царской дочери, хотя убеждает она меня в этом скорее из своих собственных интересов, а отнюдь не государственных и уж тем более не моих.
Ну что ж, утром я скажу отцу, что ради него и ради мира в Лации готова принять предложение Турна.
Большая Медведица плыла в вышине над Тибром, над Этрурией. Листья лавра что-то шептали под легким ночным ветерком. А я вспоминала те три странные ночи в Альбунее, где над озерцами воды всегда висит слабый запах серы, особенно отчетливый в ночной тиши; мне тогда довелось поговорить с тенью умирающего человека, который на самом деле еще и не родился, которому было известно и мое прошлое, и мое будущее, который понимал, что у меня на душе, и знал, за кого мне нужно выходить замуж. Знал, кто этот истинный герой. Но здесь, сейчас, во дворе родного дома, все это казалось таким далеким и неясным, словно окутанным непроницаемой пеленой тумана, неким обманчивым сном, не имевшим ничего общего с реальной действительностью. Все, решила я, больше я об этом думать не стану! И никогда больше не вернусь в Альбунею!
И тут на мгновение в памяти моей вновь прозвучал тот голос, который я не спутала бы ни с чьим другим. Я вспомнила, как поэт, впервые явившись мне и стоя в ограде святилища по ту сторону алтаря, сказал, что Фавн говорил среди деревьев Альбунеи с царем Латином и велел ему не выдавать дочь за человека из Лация. А когда он увидел, как я озадачена и смущена его словами, пояснил, что этого, возможно, еще не произошло, что Фавн, скорее всего, еще не успел поговорить с Латином, а может быть, этого никогда и не произойдет и все это он, поэт, просто вообразил себе; что это как бы сон внутри сна.
Значит, и я просто все это себе вообразила? И ничего этого не было? И никогда не будет? Обманчивые сны, неясные видения, безумства…
Крыши дома казались очень черными на фоне начинавшего светлеть восточного края неба, когда я наконец встала, пошла к себе и ненадолго забылась сном.
В тот день мы обычно почитали богов, так что встала я на заре, надела свою тогу с красной каймой, которую всегда надеваю, готовясь к отправлению священных обрядов, и пошла будить отца. Я громко окликнула его у дверей ритуальными словами: «Ты просыпаешься, царь? Проснись же!» И как только он вышел из своей спальни, тоже в тоге с красной каймой, прикрыв голову ее краешком в знак уважения к богам, мы с ним направились в атрий, к алтарю.
Туда же пришли и другие обитатели нашего дома, среди которых была и моя мать, хотя обычно она очень редко присутствовала на таких церемониях. На этот раз Амата встала совсем близко от меня, и я все время спиной чувствовала ее присутствие, пока рассыпала на алтаре жертвенную пищу; мне казалось, что мать делает это нарочно, не желая упускать меня из виду, держать все время под рукой, пока не добьется своего. Я чувствовала тепло ее тела, почти прижавшегося к моему, и мне невыносимо хотелось сбежать оттуда. Но я лишь придвинулась ближе к отцу, который, обмакнув небольшой факел в смолу, сунул в священный огонь Весты, а затем с его помощью зажег алтарные светильники, негромко произнося при этом слова молитвы. Не знаю, то ли капля горящей смолы отлетела от факела, то ли ветер вдруг качнул пламя в мою сторону, то ли у отца просто дрогнула рука, но передо мной вдруг разлилось странное мерцание, потом вокруг заплясали яркие языки пламени, и я услышала отчаянные вопли: «Лавиния, Лавиния! У нее же волосы вспыхнули! Она горит!..» Я поднесла руку к волосам, но ощутила лишь какое-то непонятное движение воздуха, хотя вокруг меня так и сыпались, так и плясали искры. Потом я почуяла запах дыма, обернулась и сквозь мутную желтоватую пелену, окутавшую меня, увидела мать. Она, точно окаменев, стояла на расстоянии вытянутой руки от меня и дикими глазами смотрела куда-то поверх моей головы. Я повернулась и побежала от нее прочь. Толпа расступилась передо мной, и я выбежала из атрия во двор, окутанная пламенем и клубами желтого дыма. От меня во все стороны разлетались искры, я слышала пронзительные крики людей, а потом вдруг отец громко окликнул меня по имени, и я, точно очнувшись, бросилась к фонтану под лавровым деревом и с головой погрузилась в воду.
Когда я вынырнула, отец был уже там. Опустившись на колени, он помог мне вылезти из бассейна.
– Лавиния, маленькая моя, доченька моя дорогая! – все шептал он. – Тебе не больно? Скажи, не больно? Дай-ка я посмотрю.
Я была совершенно ошарашена случившимся, но все же сразу заметила, как изменилось лицо отца, когда он провел рукой по моим мокрым волосам и ужас в его взгляде сменился изумлением.
– Но как это может быть? – растерянно пробормотал он. – Похоже, огонь не причинил тебе ни капли вреда…
– Что это было, отец? Я видела какой-то огонь…
– Да, огонь вспыхнул у тебя над головой. Яркий, ослепительно яркий. Я думал, что у тебя волосы загорелись… что я случайно задел их факелом… Но скажи, ты действительно не пострадала? Не обожглась?
Я коснулась рукой волос, с которых все еще капала вода; голова у меня кружилась, но на ощупь кожа на голове и волосы показались мне такими же, как всегда, только совершенно мокрыми. Похоже, они ничуть не обгорели; обгорел лишь краешек моей тоги, которым я прикрыла голову, подходя к алтарю. Да, весь этот край моей белой с красной каймой тоги был черным.
А вокруг нас уже собрался весь дом; люди толпились во дворе, что-то кричали, плакали, задавали вопросы, давали ответы. Лишь моя мать стояла в стороне, прислонившись к стволу лавра, с застывшим, ничего не выражающим лицом. Отец поднял голову, посмотрел на нее и сказал:
– Она не пострадала, Амата. С ней все в порядке!
Она что-то ответила, но я не расслышала, что именно. Тут мать Маруны, протолкавшись сквозь толпу, опустилась возле меня на колени и нежно коснулась моих волос и лица – ей, целительнице, это дозволялось. Затем она посмотрела на Латина и строго, даже повелительно сказала:
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
- Viber
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































