Текст книги "Естественная история разрушения"
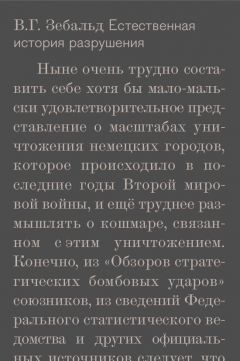
Автор книги: В. Зебальд
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
В разгар лета 1943 года, в период затяжной жары, британские ВВС при поддержке 8-й воздушной армии США совершили ряд налетов на Гамбург. Целью этой операции под кодовым названием «Гоморра» было максимальное уничтожение и испепеление города. При налете в ночь на 28 июля, который начался в час ночи, на густонаселенный жилой район восточнее Эльбы, включающий кварталы Хаммерброок, Хамм-Норд и Хамм-Зюд, Билльвердер-Аусшлаг, а также отчасти Санкт-Георг, Айльбек, Бармбек и Вандсбек, было сброшено 10 000 тонн фугасных и зажигательных авиабомб. Сначала по уже опробованной схеме фугасы массой по 4000 фунтов вышибли все окна и двери, затем легкие зажигательные бомбы подожгли чердаки, а зажигательные бомбы весом до 15 килограммов одновременно пробивали перекрытия и проникали в нижние этажи. За считанные минуты на территории около 20 квадратных километров повсюду возникли огромные пожары, разраставшиеся настолько быстро, что уже через четверть часа после сброса первых бомб все воздушное пространство, куда ни глянь, стало сплошным морем пламени. А еще через пять минут, в час двадцать, разразилась огненная буря такой интенсивности, какую до тех пор никто и помыслить себе не мог. Огонь, взметнувшийся ввысь на две тысячи метров, с такой силой затягивал кислород, что воздушные потоки приобрели мощь урагана и гремели как могучие органы, где включены разом все регистры.
Так продолжалось три часа. Достигнув кульминации, эта буря срывала фронтоны и крыши домов, крутила в воздухе балки и тяжелые плакатные стенды, с корнем выворачивала деревья и гнала перед собой живые человеческие факелы. Из-за рушащихся фасадов выплескивались высоченные фонтаны пламени, мчались по улицам, словно приливная волна, со скоростью свыше 150 километров в час, огневыми валами кружили в странном ритме на открытых площадях. В некоторых каналах горела вода. В трамвайных вагонах плавились стекла, в подвалах пекарен кипели запасы сахара. Выбежавшие из укрытий люди вязли в жидком, пузырящемся асфальте, не могли выбраться, падали и замирали в гротескных позах. Никто на самом деле не знает, сколько людей той ночью погибли и сколько перед смертью сошли с ума. Когда настало утро, солнечный свет не проникал сквозь свинцовый мрак над городом. Дым поднялся на высоту восьми тысяч метров и расползся там исполинской, похожей на наковальню грозовой тучей. Зыбкий жар – пилоты бомбардировщиков рассказывали, что чувствовали его сквозь обшивку самолетов, – еще долго исходил от чадящих, тлеющих груд развалин. Жилые кварталы, уличный фронт которых составлял круглым счетом 200 километров, оказались полностью уничтожены. Повсюду лежали чудовищно изуродованные тела. По одним еще пробегали синеватые фосфорные огоньки, другие, бурые или багрово-красные, запеклись и съежились до трети натуральной величины. Скрюченные, они лежали в лужах собственного, частью уже застывшего жира. В августе, когда бригады штрафников и лагерных заключенных смогли начать разборку остывших развалин, во внутренней зоне полного уничтожения (ее оцепили уже в ближайшие дни) были обнаружены люди, которые, задохнувшись от угарного газа, так и сидели за столами или у стен; в иных местах находили куски плоти и кости, а то и целые горы тел, обваренные кипятком из лопнувших отопительных котлов. При температуре, достигавшей тысячи градусов и выше, многие тела были настолько обуглены и испепелены, что останки нескольких больших семей могли уместиться в одной бельевой корзине.

Исход уцелевших из Гамбурга начался еще в ночь налета. Как пишет Носсак, «по всем окрестным дорогам ехали люди… сами не зная куда»[47]47
Nossack H.E. Der Untergang. S. 211.
[Закрыть]. Миллион двести пятьдесят тысяч беженцев забросило на самые дальние окраины рейха. В уже цитированной записи от 20 августа 1943 года Фридрих Рекк сообщает о группе из сорока-пятидесяти таких беженцев, которые пытаются штурмом взять поезд на одной из верхнебаварских станций. При этом на перрон падает фибровый чемодан и «разбивается, вываливая все свое содержимое. Игрушки, маникюрный несессер, обгоревшее белье. И под конец, спаленный до мумии детский трупик, который полуобезумевшая женщина тащила с собой как остаток еще несколько дней назад живого прошлого»[48]48
Reck F. Op. cit. S. 216.
[Закрыть]. Едва ли возможно, чтобы Рекк выдумал эту жуткую сцену. Так или иначе, глубоко потрясенные, то обуреваемые истерическим желанием выжить, то впадающие в тяжелейшую апатию беженцы наверняка разнесли весть об ужасах гибели Гамбурга по всей Германии. Во всяком случае, дневник Рекка подтверждает, что, несмотря на запрет передачи информации, все-таки можно было узнать, какая кошмарная гибель постигла немецкие города. Годом позже Рекк рассказывает о десятках тысяч людей, которые после заключительного массированного налета на Мюнхен разбили палаточный лагерь в скверах на площади Максимилиансплац. Дальше он пишет: «Неподалеку, по магистральному шоссе, бесконечным потоком [идут] беженцы, немощные старушонки, которые на длинной палке несут за плечами узелок со скудными пожитками. Бесприютные бедолаги в обгоревшей одежде, в их глазах по-прежнему стоит ужас огненного смерча и взрывов, раздирающих на куски все и вся, ужас гибели в засыпанном подвале – под завалом или от мерзкого удушья»[49]49
Ibid. S. 221.
[Закрыть]. Примечательность подобных заметок – их редкость. На самом деле кажется, будто в те годы никто из немецких писателей, за исключением Носсака, был не готов или не способен написать что-либо конкретное о ходе и последствиях столь долговременной и масштабной разрушительной кампании. Ничего не изменилось и по окончании войны. Псевдоестественный рефлекс, обусловленный чувствами позора и строптивости по отношению к победителям, велел молчать и отвернуться. Стиг Дагерман, осенью 1946-го работавший в Германии как репортер шведской газеты «Экспрессен», пишет из Гамбурга, что целых пятнадцать минут поезд с нормальной скоростью шел по лунному ландшафту между Хассельброоком и Ландвером и в этой чудовищной пустыне, пожалуй, самом страшном во всей Европе поле развалин, он не видел ни одного человека. Поезд, пишет Дагерман, как все поезда в Германии, был набит битком, но никто не смотрел в окно. А поскольку он сам смотрел наружу, в нем признали чужака[50]50
Цит. по: Enzensberger H.M. Op. cit. P. 203f.
[Закрыть]. Дженет Флэннер, корреспондентка «Нью-Йоркера», сделала сходные наблюдения в Кёльне, который, как гласит один из ее репортажей, «в руинах и одиночестве полного физического уничтожения… утратив всякую форму… [лежит] на речном берегу. То, что уцелело от его жизни, с трудом торит себе путь по засыпанным боковым улицам: скудное население, одетое в черное, – безмолвное, как и сам город»[51]51
Ibid. S. 79.
[Закрыть]. Это безмолвие, эта закрытость и отстраненность – в них-то и заключена причина того, что мы так мало знаем, о чем думали и что видели немцы в течение половины десятилетия, между 1942-м и 1947-м. Газвалины, среди которых они жили, остались terra incognita войны. Солли Цукерман, наверно, предугадывал этот дефицит. Как и все, кто непосредственно участвовал в дебатах о максимально эффективной наступательной стратегии и, стало быть, имел определенный профессиональный интерес к последствиям area bombing, он тоже постарался как можно раньше увидеть разрушенный Кёльн. В Лондон он возвращался потрясенный увиденным и договорился с Сирилом Коннолли, тогдашним издателем журнала «Оризон», что напишет статью под названием «О естественной истории разрушения». В автобиографии, вышедшей десятилетия спустя, лорд Цукерман сообщает, что этот замысел потерпел неудачу: «My first view of Coiogne cried out for a more eloquent piece than I could ever have written»[52]52
Вид тогдашнего Иёльна требовал более красноречивого описания, чем мог бы дать я (англ.).
[Закрыть][53]53
Zuckerman S. Op. cit. P. 322.
[Закрыть]. В 1980-е годы, когда я однажды заговорил с лордом Цукерманом на эту тему он уже не мог вспомнить, о чем конкретно хотел в свое время написать. Перед глазами у него стоял только черный собор среди каменной пустыни да оторванный палец, найденный в куче развалин.
II
С чего бы должно начать естественную историю разрушения? С обзора технических, организационных и политических предпосылок проведения массированных воздушных налетов, с научного описания дотоле неизвестного феномена огненных бурь, с патографического перечня характерных видов смерти или с этологопсихологических штудий об инстинкте бегства и возвращения домой? Носсак пишет, что не было русла для людского потока, который после налетов на Гамбург «беззвучно и неудержимо захлестнул все и вся» и мелкими ручейками донес тревогу до самых отдаленных деревень. Едва найдя где-нибудь пристанище, продолжает Носсак, беженцы снова снимались с места, продолжали свое странствие или пытались вернуться в Гамбург – «чтобы еще что-то спасти или чтобы поискать родственников», или по туманным причинам, заставляющим убийцу возвращаться на место преступления[54]54
См.: Nossack H.E. Der Untergang. S. 211, 226f.
[Закрыть]. Так или иначе, неисчислимые толпы людей изо дня в день находились в пути. Бёлль позднее предположил, что именно в этом опыте коллективной бесприютности коренится маниакальная страсть нынешних немцев к путешествиям, ощущение, что нигде нельзя задержаться, надо все время спешить в другое место[55]55
См.: Böll H. Frankfurter Vorlesungen. München, 1968. S. 82f.
[Закрыть]. Итак, с точки зрения бихевиоризма эти исходы и возвращения бездомных беженцев явились чем-то вроде подготовки к вступлению в мобильное общество, которое сложилось за десятилетия после катастрофы и в условиях которого хроническое беспокойство, перегоняющее людей с места на место, превратилось в кардинальную добродетель.
Если отвлечься от неадекватного поведения самих людей, то в течение недель после разрушительного налета, несомненно, более всего бросалось в глаза изменение в городах природного равновесия, а именно стремительное распространение всевозможных паразитов, размножающихся на непогребенных трупах. Поразительная скудность соответствующих наблюдений и комментариев объясняется негласным табуированием, более чем понятным, если учесть, что немцам, ставившим себе целью полное очищение и гигиенизацию Европы, приходилось теперь отбиваться от закравшегося страха, что на самом деле крысы – это они сами. В неопубликованном тогда романе Бёлля есть пассаж, где описывается руинная крыса, которая, принюхиваясь, пробирается по кучам щебня к проезжей части улицы, а Вольфганг Борхерт, как известно, написал прекрасный рассказ о мальчике, который стережет от крыс братишку, погибшего под завалами, и взрослый мужчина уверяет его, что ночью крысы не бесчинствуют, ночью они спят. Помимо этого, в тогдашней литературе, насколько я вижу, существует на означенную тему один-единственный фрагмент у Носсака, где речь идет о том, что одетые в полосатые робы арестанты, которых задействовали в зоне уничтожения на уборке «останков бывших людей», лишь с помощью огнеметов могли проложить себе дорогу к трупам в бомбоубежищах, – настолько густо роились в воздухе мухи, а ступени подвальных лестниц и полы были сплошь покрыты скользкими, толстыми личинками. «Крысы и мухи завладели городом. Полчища наглых, жирных крыс заполонили улицы. Но еще омерзительнее были мухи. Здоровенные, с зеленым отливом, раньше никто таких не видел. Они тучами кишели на мостовой, сидели на обломках стен, оплодотворяя одна другую, устало и сыто грелись на осколках оконных стекол. Когда уже не могли летать, они ползли следом за нами сквозь мельчайшие щелки, и проснувшись, мы первым делом слышали их шорох и жужжание. Прекратилась эта вакханалия лишь к концу октября»[56]56
Nossack H.E. Der Untergang. S. 238.
[Закрыть]. Приведенная картина размножения видов, которым обычно всячески стараются не дать расплодиться, – редкий документ жизни в разрушенном городе. Если даже большинство уцелевших сумели избежать прямой конфронтации с самыми мерзкими порождениями фауны развалин, то по меньшей мере мухи преследовали их повсюду, не говоря уже о «запахе… тлена и разложения», который, как пишет Носсак, «висел над городом»[57]57
Ibid.
[Закрыть]. До нас не дошло почти никаких сведений о тех, что за недели и месяцы после разрушения погибли от отвращения к бытию, однако хотя бы Ганса, центральную фигуру и рассказчика в романе «Ангел молчал», повергает в ужас мысль, что придется жить дальше, и ему кажется более чем естественным просто капитулировать, «спуститься по лестнице и уйти в ночь»[58]58
Böll H. Der Engel schwieg. S. 138 [Бёлль Г. Ангел молчал. М.: Текст, 2001. C. 170].
[Закрыть]. Знаменательно, что многим из бёллевских героев еще и десятилетия спустя недостает подлинной воли к жизни. Эта нехватка, их стигмат в новом успешном мире, есть наследие жизни среди развалин, которая воспринималась как позор. О том, сколь близки к смерти были многие в больших разрушенных городах на исходе войны, свидетельствует заметка Э. Кингстона-Макклури, где говорится, что бесцельное на первый взгляд блуждание миллионов бездомных людей среди этого чудовищного опустошения являло собой пугающую и чрезвычайно тревожную картину. Никто не знал, где эти люди находили приют, хотя после наступления темноты огни в руинах показывали, где они устроились[59]59
Цит. по: Zuckerman S. Op. cit. P. 327.
[Закрыть]. Мы находимся в некрополе чужого, непонятного народа, вырванного из его благополучного бытия и истории, отброшенного вспять, на уровень кочевых собирателей. Итак, представим себе, что мы видим «далеко-далеко, позади садовых участков, над насыпью железной дороги… обугленные развалины города, его разодранный мрачный силуэт»[60]60
Böll H. Op. cit. S. 70 [Бёлль Г. Указ. соч. C. 89].
[Закрыть], а перед ним – ландшафт из низких, цементно-серых груд щебня, сухую красную кирпичную пыль, которая огромными тучами плывет над вымершей округой, одинокого человека, копающегося в обломках[61]61
Nossack H.E. Der Untergang. S. 238.
[Закрыть], трамвайную остановку, посреди Нигде, людей, которые там стоят и о которых, как пишет Бёлль, неизвестно, откуда они вдруг появлялись, словно вырастали из развалин, «невидимо и неслышно из этой пустоты воскресали призраки, чьи пути и цели оставались недоступными его пониманию. То были существа, нагруженные мешками и свертками, коробками и ящиками»[62]62
Böll H. Op. cit. S. 57 [Бёлль Г. Указ. соч. C. 72].
[Закрыть]. Проедемте с ними назад, в город, где они живут, по улицам, где горы щебня громоздятся до второго этажа дочиста выгоревших фасадов. Мы увидим людей, которые соорудили на улице маленькие очаги (будто в джунглях, пишет Носсак[63]63
Nossack H.E. Der Untergang. S. 243.
[Закрыть]) и готовят на них еду или кипятят белье. Печные трубы меж обломками стен, чадный дым, мало-помалу расползающийся вокруг, старая женщина в платке, с угольной лопаткой в руках[64]64
Böll H. Op. cit. S. 45f [Бёлль Г. Указ. соч. C. 55].
[Закрыть]. Примерно так, наверно, оно и выглядело, наше отечество, в 1945-м. Стиг Дагерман описывает жизнь обитателей подвалов в одном из городов Рурской области: отвратительная еда, которую они варят из грязных сморщенных овощей и сомнительного мяса; дым, холод и голод, царящий в подземных пещерах; кашляющих детей, в чьи рваные башмаки заливается вода, все время стоящая на полу. Дагерман описывает школьные классы, где выбитые окна заколочены аспидными досками и так темно, что дети не могут прочесть написанное в учебнике. В Гамбурге, пишет Дагерман, он разговаривал с неким господином Шуманом, сотрудником банка, который уже третий год жил в подземелье. Белые лица этих людей, по словам Дагермана, выглядят точь-в-точь как у рыб, когда они поднимаются на поверхность глотнуть воздуху[65]65
Цит. в переводе по: Dagerman S. German Autumn. London, 1988. P. 7ff.
[Закрыть]. Виктор Голланц, который осенью 1946-го за полтора месяца объездил зону английской оккупации, прежде всего Гамбург, Дюссельдорф и Гурскую область, и написал для английской прессы целый ряд репортажей, приводит подробные сведения о недоедании, явных симптомах анемии, голодных отеках, истощении, кожных инфекциях и стремительном увеличении числа туберкулезных больных. Он тоже говорит о глубокой апатии и называет ее ярчайшим тогдашним признаком населения больших городов. «Люди бродят повсюду такие вялые и инертные, – пишет он, – что, когда едешь на машине, все время рискуешь кого-нибудь сбить»[66]66
Gollancz V. In Darkest Germany. London, 1947. P. 30.
[Закрыть]. Самый, пожалуй, поразительный репортаж Голланца из побежденной страны – небольшая глосса «Эта обувная нищета», посвященная вконец изношенной обуви немцев, вернее не столько сама глосса, сколько сопровождающие ее в более позднем книжном издании фотографии, которые явно завороженный сим предметом автор сделал осенью 1946-го. Такие снимки, где наглядно виден процесс деградации, бесспорно, относятся к естественной истории разрушения, какой она некогда представлялась Солли Цукерману. Точно так же и пассаж из «Ангел молчал», где рассказчик замечает, что «дату бомбежки можно определить по наличию или отсутствию зелени на развалинах: это чисто ботанический вопрос. Здешняя груда развалин была голой и лысой – камни с рваными краями, недавно взорванная кирпичная стена… нигде ни травинки, в то время как в других местах уже успели вырасти деревца, прелестные молодые деревца в кухнях и спальнях». Под конец войны в Кёльне территория развалин местами уже преобразилась благодаря густой зелени – как «мирные загородные овраги»[67]67
Böll H. Op. cit. S. 92 [Бёлль Г. Указ. соч. C. 115].
[Закрыть] тянутся улицы сквозь новый ландшафт. Не в пример нынешним медленно распространяющимся катастрофам, в ту пору регенерационная способность природы, похоже, не понесла ущерба от огненных бурь. Да-да, осенью 1943-го, через считанные месяцы после великого пожара, в Гамбурге второй раз зацвели многие деревья и кусты, особенно каштаны и сирень[68]68
См.: Middlebrook M. The Battle of Hamburg. London, 1988. P. 359.
[Закрыть]. Сколько бы потребовалось времени – если б действительно приняли план Моргентау, – чтобы повсюду в стране руины покрылись лесами?


Вместо этого с удивительной быстротой воспрянул другой природный феномен – общественная жизнь. Способность людей забывать то, чего они не хотят знать, не видеть того, что находится прямо перед глазами, редко подвергалась столь эффективной проверке, как тогда в Германии. Принимается решение – сперва от чистейшей паники – жить дальше, как будто ничего не случилось. Сообщение Клюге об уничтожении Хальберштадта начинается с истории женщины-киномеханика, госпожи Шрадер, которая после разрыва бомбы немедля берет в руки саперную лопатку и принимается за расчистку, чтобы, как она надеется, «управиться с уборкой до четырнадцатичасового сеанса»[69]69
Kluge A. Op. cit. S. 35.
[Закрыть]. Обнаружив в подвале обваренные части тел, она наводит порядок, складывая все это в бак для кипячения белья. Носсак рассказывает, как по возвращении в Гамбург через несколько дней после налета увидел женщину, которая мыла окна в доме, «стоявшем среди развалин, одиноком и невредимом. Мы подумали, что она сошла с ума, – пишет он и продолжает: – Та же мысль возникла в голове, когда мы увидели, как дети расчищают и рыхлят палисадник. Это было настолько непостижимо, что мы рассказывали об этом другим как о чем-то необыкновенном. А однажды мы попали в совершенно не разрушенное предместье. Люди сидели на балконах и пили кофе. Словно кино, ведь, собственно говоря, разве такое возможно?»[70]70
Nossack H.E. Der Untergang. S. 220.
[Закрыть] Недоумение Носсака обусловлено тем, что он воспринимает все это – с точки зрения потерпевшего вполне оправданно – как граничащий с бесчеловечностью дефицит моральной отзывчивости. От колонии насекомых никто не ждет, что она застынет в скорби из-за разрушения соседнего гнезда. Но от человеческой натуры ожидают определенной меры эмпатии. В этом смысле традиционное обывательское кофепитие на гамбургских балконах в конце июля 1943 года отдает чем-то пугающе абсурдным и скандальным, как, к примеру, поедание своего же собрата гранвилевскими животными, одетыми в человечье платье, со столовыми приборами в лапах. С другой стороны, игнорирующая все катастрофические помехи будничная рутина – от выпечки пирога к кофейному столу до соблюдения высоких культурных ритуалов – есть самое испытанное и самое естественное средство сохранить так называемый здравый человеческий рассудок. В этот контекст вписывается и роль, которую в эволюции и крахе Третьего рейха играла музыка. Всякий раз, когда необходимо было подчеркнуть важность момента, использовался большой оркестр и режим присваивал себе утверждающий жест симфонического финала. Ничего не изменилось и когда немецкие города подвергались ковровым бомбардировкам. Александер Клюге вспоминает, как ночью перед налетом на Хальберштадт римское радио передавало «Аиду»: «Мы сидим в отцовской спальне перед коричневым деревянным приемником с освещенной шкалой, где указаны иностранные радиостанции, и слушаем искаженную помехами тайную музыку, которая издалека, сквозь шумы сообщает о чем-то серьезном, что отец излагает короткими немецкими фразами. В час ночи влюбленных душат в склепе»[71]71
Kluge A. Theodor Fontane, Heinrich von Kleist, An na Wilde: Zur Grammatik der Zeit. Berlin, 1987. S. 23.
[Закрыть]. Накануне разрушительного налета на Дармштадт, по словам одного из уцелевших, он «слышал по радио сладострастные напевы мира рококо в волшебной музыке Штрауса»[72]72
Schmidt K. Op. cit. S. 17.
[Закрыть]. Носсак, которому пустые гамбургские фасады представляются триумфальными арками, руинами римской эпохи или сценическими декорациями фантастической оперы, глядит с кучи обломков в пустыню, среди которой одиноко высится портал монастырского сада. Еще в марте он был там на концерте. «И слепая певица пела: „Вновь настает страданий тяжких время». Просто и уверенно она стояла, опершись на чембало, и мертвые ее глаза смотрели вдаль, поверх пустяковых мелочей, которые мы уже тогда боялись потерять, смотрели, возможно, туда, где мы теперь. А теперь вокруг лишь каменное море»[73]73
Nossack H.E. Der Untergang. S. 245.
[Закрыть]. Созданная музыкальным переживанием связь предельно мирского с сакральным – художественный прием, который оправдывает себя и после гибели. «Кирпичные холмы, под ними – засыпанные, над ними – звезды; последнее, что там шевелится, это крысы. Вечером иду на „Ифигению“», – записал в Берлине Макс Фриш[74]74
Дневники Макса Фриша. Цит. по: Enzensberger H.M. Op. cit. S. 261.
[Закрыть]. Английский наблюдатель вспоминает оперный спектакль в том же городе сразу после прекращения огня. «In the midst of such shambles only the Germans, – говорит он с несколько двойственным восхищением, – could produce a magnificent full orchestra and a crowded house of music lovers»[75]75
Среди всего этого хаоса только немцы могли собрать замечательный оркестр β полном составе υ целый зал любителей музыки (англ.).
[Закрыть][76]76
Цит. по: Zuckerman S. Op. cit. P. 192f.
[Закрыть]. Кто дерзнет отказать слушателям, которые тогда по всей стране с блеском в глазах внимали вновь воспрянувшей музыке, в праве на чувства благодарности за спасение? Тем не менее позволителен и вопрос, не переполняла ли их извращенная гордость, что никто во всей истории человечества еще так не играл и никто не вынес так много, как немцы. Хроника этих событий – история жизни немецкого композитора Адриана Леверкюна, которую фрайзингский учитель Цейтблом, по замыслу своего «негра» из Санта-Барбары, записывает на бумаге, когда город Дюрера и Пиркхаймера сжигают дотла и та же судьба постигает близкий Мюнхен. «Благосклонный читатель и друг, – пишет он, – я продолжаю. Гибель нависла над Германией, на щебне наших городов хозяйничают разжиревшие с трупов крысы…»[77]77
Mann T. Doktor Faustus. Frankfurt a. M., 1971. S. 433 [Манн Т. Доктор Фаустус // Он же. Собр. соч.: В 10 т. М.: ГИХЛ, 1960. Т. 8. С. 562].
[Закрыть] В «Докторе Фаустусе» Томас Манн представил всестороннюю историческую критику искусства, все более и более тяготеющего к апокалиптическому миропониманию, а одновременно свидетельство собственного соучастия. Из публики, для которой предназначался роман, его, пожалуй, поняли тогда лишь немногие, все были слишком заняты мемориальными церемониями на толком еще не остывшей лаве, слишком заняты и тем, чтобы избавить себя от малейших подозрений. В сложный вопрос о соотношении этики и эстетики, которым терзался Томас Манн, никто не вникал. И все-таки именно он был главным, как показывают изъяны немногочисленных литературных воссозданий гибели немецких городов.

Наряду с Генрихом Бёллем, чей печальный роман «Ангел молчал» более сорока лет оставался неизвестен литературной общественности, собственно говоря, по окончании войны только Герман Казак, Ганс Эрих Носсак и Петер де Мендельссон писали о разрушении городов и выживании в стране руин. Названные три автора были тогда связаны между собой этим общим интересом. Казак и Носсак примерно с 1942 года, когда один начал работу над «Городом за рекой», а другой – над «Некийей», регулярно поддерживали контакт; живший в английской эмиграции Мендельссон, который при первом возвращении в Германию в мае 1945-го едва ли мог осмыслить действительный масштаб разрушений, на основе своих впечатлений наверняка воспринял вышедшую весной 1947 года книгу Казака как чрезвычайно актуальное свидетельство эпохи. Тем же летом он публикует восторженную рецензию, ищет для книги английское издательство, сам немедля садится за перевод и, подвигнутый работой над Казаком, в 1948-м начинает писать роман «Собор», который, как и произведения Казака и Носсака, воспринимается как литературный эксперимент в сфере тотального уничтожения. Но из-за множества дел, свалившихся на Мендельссона в связи с тем, что военная администрация поручила ему наладить выпуск немецких газет, написанное по-английски повествование осталось фрагментом и, как таковой, было издано в авторском переводе лишь в 1983 году. Несомненно, ключевой текст этой группы – «Город за рекой», произведение, которое все тогда оценивали как эпохальное и долго считали окончательным расчетом с безумием национал-социалистского режима. «Благодаря одной-единственной книге, – писал Носсак, – у нас снова была значительная немецкая литература, литература, возникшая здесь, выросшая на наших развалинах»[78]78
Nossack H.E. Pseudoautobiographische Glossen. Frankfurt a. M., 1971. S. 51.
[Закрыть]. Конечно, другой вопрос, в каком именно смысле фантазия Казака соответствовала тогдашним немецким обстоятельствам и что означала экстраполированная им из этих обстоятельств философия. Вид города за рекой, где «жизнь протекает, так сказать, под землей»[79]79
Kasack H. Die Stadt hinter dem Strom. Frankfurt a. M., 1978. S. 18 [Казак Г. Город за рекой // Гелиополис: Немецкая антиутопия. М.: Прогресс, 1992. C. 41].
[Закрыть], по всем своим признакам есть картина разбитого общества: «…у домов, рядами расходившихся от площади, были одни только фасады, так что сквозь зияющие проемы окон виднелись кусочки неба»[80]80
Ibid. S. 10 [Там же. C. 35].
[Закрыть]. И можно бы привести доводы, что и изображение «безжизненной жизни»[81]81
Nossack H.E. Op. cit. S. 62.
[Закрыть], которую влачит население в этом промежуточном царстве, почерпнуто из реального экономического и общественного положения 1943–1947 годов. Никаких автомобилей, пешеходы безучастно бредут по разрушенным улицам, «точно их уже не трогал унылый окрестный ландшафт… Время от времени встречал он людей и в разрушенных помещениях, кажется уже не пригодных для жилья. Они рылись там в кучах щебня и, похоже, отыскивали остатки засыпанных предметов домашней утвари, извлекая из мусора где кусок жести или дерева, где обрывок проволоки, которые клали в сумки, подобные школьным ранцам»[82]82
Kasack H. Op. cit. S. 152 [Казак Г. Указ. соч. C. 137].
[Закрыть]. В магазинах, оставшихся без крыш, предлагается на продажу скудный хлам: «…здесь две-три пары брюк и пиджаков, ремни с серебряными пряжками, галстуки и пестрые платки, там башмаки и сапоги всяких фасонов, в большинстве своем изрядно поношенные. В другом месте болтались на плечиках помятые костюмы разных размеров, национальные куртки и крестьянские фуфайки устаревшего покроя. Вперемешку лежали там и тут штопаные чулки, носки, рубашки, шляпы…»[83]83
Ibid. S. 154 [Там же. C. 138].
[Закрыть] Стесненные жизненные и экономические обстоятельства, ярко проступающие в подобных пассажах как эмпирические основы повествования, все же не складываются в полную картину мира развалин, скорее это декорационные вставки, предназначенные для более высокого плана мифологизации реальности, которая в своей грубой форме не поддается описанию. Соответственно и бомбардировочные флоты представляются явлениями трансреальными. «Точно Индра, который в своей разрушительной неистовости превзошел демонические силы, вдохновлял их, – так безудержно восходили они к вакханалии смерти, чтобы в стократно больших масштабах, чем в прежних кровопролитных войнах, разрушать дворцы и здания больших городов, теперь уже с апокалиптической силой»[84]84
Ibid. S. 142 [Там же. C. 129].
[Закрыть]. Фигуры в зеленых масках, члены тайной секты, источающие сладковатый запах газа и, быть может, воплощающие убитых в лагерях, в аллегорической гиперболе участвуют в диспуте с непомерно раздутыми чучелами власти, которые кричат о святотатственном господстве, пока не опадают пустыми оболочками униформ, оставляя после себя жуткий смрад. К этой прямо-таки зиберберговской сцене, выросшей из самых сомнительных аспектов экспрессионистской фантазии, в заключительной части романа добавляется попытка придать смысл бессмысленному, и по этому случаю старейший философ казаковского царства мертвых указывает, что «тридцать три посвященных… с давних пор сосредоточивают свои усилия на том, чтобы для процесса возрождения открыть и расширить мир азиатского региона, и в последнее время многие стремятся к более активному использованию традиций, зародившихся на Востоке. Этот постепенно и в единичных случаях совершающийся обмен между азиатской и европейской формой бытия довольно хорошо различим в ряде явлений». Из дальнейших разъяснений Мастера Магуса, представляющего в романе Казака высшую инстанцию мудрости, следует, что «многомиллионная смерть должна была произойти в столь необычайных масштабах… чтобы освободить место для приближающихся возрождений. Несметное число людей преждевременно ушло из жизни, чтобы они своевременно могли воскреснуть как посев, как апокрифическое обновление в до сих пор замкнутом жизненном пространстве»[85]85
Ibid. S. 315 [Там же. C. 251, 252].
[Закрыть]. Выбор слов и понятий подобных пассажей, нередких в казаковском эпосе, с пугающей ясностью показывает, что тайный язык[86]86
«Настоящая литература тогда была тайным язы ком» (Nossack H.E. Pseudoautobiographische Glos sen. S. 147).
[Закрыть], якобы культивируемый внутренней эмиграцией, во многом идентичен коду фашистской идеологии. Нынешнему читателю тяжко смотреть, как Казак, совершенно в стиле своего времени, с помощью псевдогуманистических и дальневосточных философизмов и используя массу символического пустословия, перескакивает через неслыханную реальность коллективной катастрофы и как он посредством всего своего романа помещает себя самого в более высокую общность чисто духовных персонажей, которые в городе за рекой как архивариусы хранят память человечества. Носсак в «Некийе» тоже поддается соблазну истребить реальные кошмары того времени посредством абстрактного искусства и метафизического обмана. «Некийя», как и «Город за рекой», – это рассказ о путешествии в царство мертвых, и, как и у Казака, здесь тоже есть учители, менторы, мастера, пращуры и праматери, очень много патриархальной строгости и очень много пренатальной темноты. Иными словами, мы находимся в немецкой педагогической провинции, которая простирается от идеального видения Гёте о Звезде завета до Штауффенберга и Гиммлера. Коль скоро эта модель до– и надгосударственной элиты, хранительницы тайного знания, при том что она полностью скомпрометировала себя в общественной практике, все-таки привлекается вновь, чтобы раскрыть уцелевшим в тотальном уничтожении вероятный метафизический смысл их опыта, то это свидетельствует о глубоком, выходящем далеко за пределы сознания отдельного автора идеологическом упрямстве, которое можно уравновесить лишь прямым взглядом на реальность.
Неоспоримая заслуга Носсака в том, что он, невзирая на свою фатальную склонность к философской преувеличенности и ложной трансцендентности, единственный из писателей предпринял тогда попытку записать все, что он действительно видел, в как можно более неприкрашенной форме. Конечно, и в его отчете о гибели Гамбурга порой сквозит риторика предрешенности, когда речь идет о том, что лик человека освящен для перехода в вечность[87]87
См.: Nossack H.E. Interview mit dem Tode. S. 225.
[Закрыть], а под конец все приобретает сказочно-аллегорический оборот, но в целом для него важны здесь в первую очередь чистые факты – время года и погода, точка зрения наблюдателя, рокот подлетающих эскадр, огненное зарево на горизонте, физическое и психическое состояние беженцев, сгоревшие кулисы, печные трубы, странным образом устоявшие, белье, сохнущее на сушилке возле кухонного окна, разорванная гардина на пустой веранде, диван в гостиной, прикрытый вязаным покрывалом, и множество других, навеки утраченных вещей, и обломки, под которыми они погребены, и страшная новая жизнь, шевелящаяся в подземельях, и внезапная алчность людей к духам. Моральный императив, что хотя бы кто-то один должен записать, что случилось в Гамбурге той июльской ночью, ведет к почти полному отказу от художественных приемов. Гассказ совершенно бесстрастен, как отчет о «страшном событии из доисторических времен»[88]88
Ibid. S. 217.
[Закрыть]. Вот в этом подвальном бомбоубежище заживо изжарилась группа людей, потому что двери заклинило, а в соседних помещениях горели запасы угля. Вот так оно было. «Все они отошли от раскаленных стен и сгрудились посередине подвала. Там их и нашли. Они раздулись от жара»[89]89
Ibid. S. 245.
[Закрыть]. Тон, в каком ведется рассказ, это тон вестника в трагедии. Носсак знает, что таких вестников часто ждет виселица. В его отчет о гибели Гамбурга встроена притча о человеке, который твердит, что обязан рассказать, как все было, и которого слушатели убивают, потому что от него исходит смертный холод. Такая позорная участь, как правило, не уготована тем, кто извлекает из уничтожения метафизический смысл. Они занимаются куда менее опасным делом, чем конкретное воспоминание. В эссе Элиаса Канетти, посвященном дневнику доктора Хахии из Хиросимы, на вопрос, что означает выжить в катастрофе такого масштаба, дается ответ, что это возможно вычитать лишь из текста, который, как записки Хахии, отмечен точностью и ответственностью. «Если бы имело смысл задуматься, – пишет Канетти, – какая форма литературы необходима сегодня, необходима сведущему и видящему человеку, то именно такая»[90]90
Canetti E. Die gespaltene Zukunft. München, 1972. S. 58.
[Закрыть]. То же самое можно сказать о рассказе Носсака о гибели Гамбурга, единичном и в его собственном творчестве. Идеал правдивого, заключенный в его – по крайней мере, почти повсеместно – совершенно непретенциозной объективности, перед лицом тотального разрушения оказывается единственным законным основанием продолжить литературную работу. И наоборот, создание эстетических или псевдоэстетических эффектов из развалин уничтоженного мира есть процесс ухода литературы от ее правомочности.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































