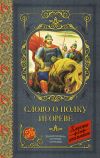Текст книги "Грех и святость русской истории"

Автор книги: Вадим Кожинов
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
С замечательной ясностью выразилось это даже и в судьбе потомков Батыя на Руси. Как известно, Русь окончательно освободилась от власти татаро-монголов в 1480 году, после бегства великого хана Золотой Орды Ахмата с реки Угры. И вот через каких-нибудь полвека сын племянника того самого Ахмата, Шах-Али (Шигалей), стал крупнейшим русским военачальником и командовал всей армией в Ливонской и Литовской войнах, а правнук Ахмата – Саин-Булат (Симеон Бекбулатович) был назначен главой Боярской думы и получил титул «великого князя всея Руси». И это всего лишь два выразительнейших примера из массы подобных. Такого рода судьбы представителей нерусских народов вообще-то вполне типичны: так, кабардинский князь Черкасский был фактически правителем при царе Михаиле Федоровиче, мордвин Никита Минов – патриархом всея Руси Никоном, ногаец Юсупов – главой Российской военной коллегии в начале XVIII века и т. п. Но судьбы потомков «заклятых» врагов Руси с особенной силой и очевидностью раскрывают природу русской всечеловечности.
И нельзя не выразить глубокую тревогу в связи с тем, что «западническое» восприятие Азии подчас искажает эту истинную суть русского сознания. Каждому из нас ясно, что непримиримая борьба с наполеоновским нашествием не породила и не могла породить в нашей литературе «негативного» отношения к французскому народу как таковому. Но к народам Азии, входившим в состав агрессивных армий в силу тех или иных обстоятельств, нередко как бы предъявляется иной счет.
Свежий пример тому – одна из сюжетных линий многопланового[170]170
Так, глубоко значительны воссозданные Чингизом Айтматовым национальные характеры казахов.
[Закрыть] романа Ч. Айтматова «И дольше века длится день», где пришедшие из глубин Азии жуань-жуаны изображены поистине как нелюди, которых можно и нужно уничтожать начисто. Причем речь идет именно о народе, племени, а не об армии. Тот факт, что история нашествия жуань-жуанов дана в романе в притчеобразной, мифологизированной форме, только усиливает остроту обобщения. Нельзя не заметить, что эта линия романа резко противоречит авторскому предисловию, в котором декларируется доброе отношение ко всем народам мира.
Но обратимся к гораздо более широкой и существенной проблеме: речь идет об отражении в литературе и публицистике одного из величайших событий отечественной истории – Куликовской битвы. Она нередко изображалась и изображается как проявление своего рода фатально неизбежной смертельной вражды Руси и Азии, как «битва континентов». Лишь в последнее время началось широкое уяснение истинно всемирного значения и подлинного характера этой битвы.
Так, Юрий Лощиц в своей превосходной книге «Дмитрий Донской» (серия «Жизнь замечательных людей») показывает, что сражение 8 сентября 1380 года было битвой не одного народа против другого, но – всемирно-исторической битвой, по сути дела, уже тогда многонационального Русского государства с агрессивной космополитической армадой, которая не имела права выступать от имени ни одного из народов – соседей Руси…
Выше уже приводились факты, свидетельствующие о том, что на Руси отнюдь не было враждебного отношения к татаро-монголам как к людям, как к представителям азиатских народов. Нельзя забывать и о том, что двумя (из шести) русскими полками на Куликовом поле командовали перешедшие на службу к Дмитрию Донскому татары Андрей Черкизович и Семен Мелик, геройски павшие в битве…
Опыт осмысления многогранного круга проблем, так или иначе связанных с Куликовской битвой, предпринят и в ряде работ Л.Н. Гумилева. Так, он показывает, что в основе политики Орды накануне битвы лежало «покровительство работорговле и разноплеменным купцам… принцип голой выгоды», что действиями Мамая, по сути дела, руководили не столько даже интересы самой золотоордынской верхушки, сколько «цивилизация торговцев, попросту говоря, засилье международных спекулянтов, наладивших торговые маршруты с доставкой живого товара к посредническим генуэзским конторам». Речь идет прежде всего о «гигантском для того времени центре работорговли – генуэзской колонии Кафе (ныне Феодосия), через которую в иные года проходили несколько десятков тысяч рабов. Вполне естественно, что после своего разгрома Мамай бежал в Кафу, где был – как уже ненужная, битая карта – ограблен и уничтожен своими, не признающими никаких моральных норм вдохновителями и кредиторами.[171]171
Для большей ясности следует хотя бы перечислить некоторые факты. Кафа была куплена генуэзцами у Орды в 1266 году, но до середины XIII века ордынцы чуть ли не каждое десятилетие захватывали и грабили ее. Мамай же, став в 1350-х годах крымским темником, завязал самые тесные отношения с Кафой. За время его господства, то есть до 1380 года, не было ни одного татарского нападения на Кафу (хотя Мамай не раз разорял колонии ее конкурентов – венецианцев). За это время Кафа присоединила к себе большую часть крымского побережья (от Балаклавы до Судака) и превратилась в один из самых больших городов Европы (до 70 тыс. жителей). На деньги, полученные от Кафы, Мамай нанял огромное войско (в него вошли наемники с Кавказа, Поволжья и даже Закавказья) и захватил власть над всеми владениями Орды западнее Волги. В Москве знали о роли Кафы для Мамая: Дмитрий Иванович, по подробному рассказу Никоновской летописи, специально взял с собой в поход на Дон десять сурожан (то есть русских купцов, торговавших в Крыму), которым были хорошо известны «тайны» Кафы.
[Закрыть]
Таким образом, Куликовская битва, которую сплошь и рядом рассматривают исключительно как отражение русским войском специфически «азиатского» натиска, на самом деле, если уж на то пошло, была битвой русского народа прежде всего с всемирной космополитической агрессией, ибо сама захватническая политика Мамая все более определялась интересами и политикой «международных спекулянтов» Генуи и Кафы (которые, как известно, не преминули послать и на Куликово поле в поддержку Мамаю свою отлично вымуштрованную пехоту – разумеется, наемную).
Словом, нет никаких оснований считать сражение 1380 года направленным против монголов. Куликовская битва была направлена не против какого-либо народа, но против поистине «темных» сил тогдашнего мира.
Нужно сказать, что Л.Н. Гумилев вообще сделал немало для того, чтобы раскрыть сложные, многозначные отношения Руси и кочевых народов Азии, в том числе и татаро-монголов. Но, к сожалению, в его книгах и статьях, посвященных этой теме, много и спорных, и прямо неприемлемых положений, вроде тезиса о «симбиозе Руси и Орды».[172]172
Ср. роман-эссе Владимира Чивилихина «Память» (Наш современник. 1980. № 12).
[Закрыть] – хотя так или иначе само по себе стремление Л.Н. Гумилева доказать, что в отношении Руси к народам Азии не было какой-либо фатальной непримиримости и национальной отчужденности, в высшей степени плодотворно.
Вместе с тем не могу не сказать, что в создаваемой Л.Н. Гумилевым картине отношений Руси и Азии недостает, на мой взгляд, чрезвычайно существенного звена – понятия о той всечеловечности русского сознания и самого исторического поведения, которое, как я стремился показать, складывалось уже в самый начальный период развития Руси.
Так, говоря о сложной многозначности отношений Руси и кочевых народов Азии – отношений, которые вовсе не сводились к вражде и войнам, Л.Н. Гумилев основывается прежде всего на наличии взаимных, обоюдных интересов. Между тем нет сомнения, что явленная на самой заре русской истории воля к всечеловечности имела громадное значение в отношениях Руси с народами Азии. Вот хотя бы один, но очень характерный факт. Владимир Мономах в своем «Поучении» гордо рассказывает о грозных победах над половцами, но не менее гордо он сообщает: «Миров заключил с половецкими князьями без одного двадцать, и при отце и без отца, и раздаривал много скота и много одежды своей. И отпустил из оков лучших князей половецких (следует перечисление имен. – В.К.), а всего других лучших князей сто» (перевод Д.С. Лихачева). Не будь этой, выражаясь современным языком, русской принципиальной позиции в мире, отношения с кочевыми народами Азии могли бы иметь совсем иной исторический результат.[173]173
Невольно связываются с этим слова Гегеля о том, что «дух» есть «абсолютное своенравие субъективности», для которого «отношение к внешнему миру» не имеет существенного значения.
[Закрыть]
В своей последней, предсмертной статье 1881 года Достоевский писал, что в предшествующие «два века… чего-чего мы не делали, чтоб Европа приняла нас за своих, за европейцев, за одних только европейцев, а не за татар…
От окна в Европу отвернуться трудно, тут фатум… Нам нельзя оставлять Европу… Европа нам тоже мать, как и сия, вторая мать наша; мы многое взяли от нее, и опять возьмем, и не захотим быть перед нею неблагодарными…
А между тем Азия – да ведь это и впрямь может быть наш исход в нашем будущем – опять восклицаю я!.. Принцип, новый принцип, новый взгляд на дело – вот что необходимо!»
Позднейшее изучение и осмысление истории Руси показало, что дело заключается не в «новом» принципе и взгляде, но в возрождении, воскрешении многовекового русского принципа и взгляда. В течение ХVIII–XIX веков Запад чуть ли не заразил наше сознание «отчужденностью» от Азии, но великая русская литература всегда сохраняла и развивала свою всечеловечность равным образом в отношении и к Европе, и к Азии, что так прекрасно воплотилось в творчестве Пушкина, Лермонтова, Толстого, Лескова и что с такой ясной и глубокой осознанностью выразил в своем последнем завещании Достоевский.
Россия является рубежом между Европой и Азией, Западом и Востоком, конечно, не только в силу своего географического положения. Русская литература во всех своих подлинных проявлениях воплотила мощный и глубокий пафос братства с народами и Запада, и Востока, создав, таким образом, своего рода духовный мост между Европой и Азией. В могучей всечеловеческой стихии русской литературы и Запад, и Восток одарены способностью как бы сойти со своего «места» и братски протянуть друг другу руки.
Стихия русской литературы – это в основе своей стихия проникновенного диалога, в котором могут равноправно участвовать предельно далекие голоса. Понятие «диалог» естественно обращает нас к трудам М.М. Бахтина. Но мне хотелось бы подчеркнуть, что, на мой взгляд, наиболее важно не бахтинское открытие «диалогичности» творчества Достоевского или других художников, но тот факт, что сама по себе созданная М.М. Бахтиным эстетика в своем целом есть, по существу, эстетика диалога; в этом смысле она, в частности, противостоит основанной на «монологической диалектике» (по бахтинскому определению) эстетике Гегеля, которая явилась фундаментом всей западноевропейской эстетики. И именно русская мысль могла и должна была создать эстетику диалога, воплотившую наиболее глубокую природу русской литературы.[174]174
Западная литература в отличие от русской являет собой как бы монолог, не подразумевающий во «внешнем» мире равноценного другого субъекта, от которого ждут необходимого ответа, признания, суда. И это нельзя рассматривать как всецело отрицательное качество. Перед нами, если угодно, подлинно героический монолог.
[Закрыть]
В творчестве всечеловеческого диалога, быть может, прежде всего и выражается величайшая миссия русской литературы – миссия, которая в конечном счете сказывается в духовной судьбе любой страны – от Франции до Японии…
В заключение необходимо поставить одну весьма сложную и острую проблему. Петр Чаадаев сказал однажды: «Провидение создало нас слишком великими, чтоб быть эгоистами». Далее Чаадаев говорит, что Россия не призвана «проводить национальную политику… ее дело в мире есть политика рода человеческого».
И нельзя не видеть, что для русского бытия и сознания вовсе не характерно активное, твердое и последовательное сугубо национальное самоутверждение, которое присуще жизни и культуре, скажем, Англии и Франции[175]175
Напомню еще раз слова Белинского: «Французы, англичане, немцы так национальны каждый по-своему, что не в состоянии понимать друг друга, тогда как русскому давно доступны и социальность француза, и практическая деятельность англичанина, и туманная философия немца».
[Закрыть] или, в иных формах, скажем, Японии или Турции. Однако это никоим образом не означает, что русская литература вне (или не) национальна. Сама ее Всечеловечность – это именно национальная, самобытно-народная ее природа. Уже приводились совершенно точные слова Достоевского о том, что во «всемирной отзывчивости» пушкинского гения «выразилась наиболее и прежде всего национальная русская сила, выразилась именно народность его поэзии».
Толстой, говоря о всечеловеческом содержании, воплощенном в образах, созданных Достоевским, о том, что «в этих исключительных лицах не только мы, родственные ему люди, но иностранцы узнают себя, свою душу», объяснял это так: «Чем глубже зачерпнуть, тем общее всем, знакомее и роднее».
Это в высшей степени существенный момент: всечеловечность живет – можно бы даже сказать, таится – в самой глубине русского национального характера. И чтобы сохранить свою подлинность и плодотворность, чтобы не выродиться в конечном счете в космополитизм, всечеловечность русской литературы не может не погружаться вновь и вновь в свою глубочайшую народную основу. Именно так развивалась покоряющая всечеловечность Достоевского и Толстого.
Если же писатель исходит не из глубины национального бытия и сознания, а только из смутного «стремления в Европу», он оказывается неспособным воплотить подлинную всечеловечность и в конце концов попадает во власть космополитической всеядности, поверхностной международной культуры, а вернее, межеумочной «полукультуры» (в том числе и в своем восприятии России).
И в современной, сегодняшней литературе подлинная всечеловечность воплощается лишь в таком творчестве, которое берет свой исток в глубинах народного бытия и сознания и постоянно возвращается к этому истоку.
Книга бытия небеси и земли[176]176
Печатается по изданию: Палея Толковая. М., 2002.
[Закрыть]
Пушкин, имея достаточно основательные представления об отечественной истории, вместе с тем был, в сущности, мало знаком с произведениями русской литературы, или, лучше сказать, словесности, созданными до XVIII века, кроме ряда летописей, то есть исторических хроник, и «Слова о полку Игореве». Только в самом конце жизни он обратился к созданным на Руси многочисленным житиям святых.
Это, разумеется, имеет свое основательное объяснение. Начиная со времени Петра Великого во всем бытии страны совершается кардинальный перелом и, по сути дела, надолго уходит с авансцены предшествующая культура; правда, со второй трети XIX века она постепенно воскрешается, но это происходит в основном уже после гибели Пушкина.
Решительное «отрицание» прошлого в эпоху Петра понимается и оценивается различно: «прогрессисты» приветствуют мощный рывок вперед, не щадящий «старье», а «консерваторы», или, вернее, «реакционеры», выражают крайнее негодование. Но оба этих полярных подхода к делу затемняют истину, что с особенной ясностью видно именно на примере Пушкина. Нет сомнения, что его творчество не могло родиться без того перелома, каким была Петровская эпоха. Но встает нелегкий вопрос: мог ли Поэт обойтись без предшествующей многовековой русской культуры? А ведь тот факт, что он, в сущности, мало знал ее, подтверждается его собственным суждением.
В 1830 году Пушкин писал: «Приступая к изучению нашей словесности, мы хотели бы обратиться назад и взглянуть с любопытством и благоговением на ее старинные памятники… Нам приятно было бы наблюдать историю нашего народа в сих первоначальных играх разума, творческого духа… Но к сожалению – старинной словесности у нас не существует. За нами темная степь – на ней возвышается единственный памятник: Песнь о Полку Игореве… Словесность наша явилась вдруг в 18-м столетии…»
Конечно, нелегко произнести подобный «приговор» Поэту, но все же он был в данном случае заведомо не прав… Многие люди знакомы с изданным не так давно, в 1970 – 1980-х годах, в двенадцати объемистых томах собранием «Памятники литературы Древней Руси», где представлены замечательные произведения словесности XI–XVII веков; к тому же это только небольшая доля дошедших до нас страниц словесности допетровских времен. В частности, в указанное собрание не вошли наиболее крупные по своему объему творения тех времен – «Палея Толковая», датируемая XI – началом XIII столетия, так называемый «Просветитель» преподобного Иосифа Волоцкого (конец XV – начало XVI века), «Степенная книга», составленная митрополитом Афанасием (вторая половина XVI века) и целый ряд других, не говоря уже о множестве оставшихся за пределами этого двенадцатитомника более или менее кратких произведений.
Но ко времени вхождения Пушкина в литературу допетровская словесность стала малодоступной уже хотя бы в силу, так сказать, «технических» причин: ее произведения существовали в рукописных копиях (нередко, правда, достаточно многочисленных), а в начале XIX века литература представляла собой уже принципиально печатное явление. И цитированное суждение Пушкина: «Словесность наша явилась вдруг в 18-м столетии» – будет справедливым, если термин «словесность» заменить термином «литература», который, по сути дела, имеет в виду печатные произведения; в допетровскую эпоху «литература» в современном значении этого слова действительно не существовала.
Одно из первых явившихся в печати древних творений (если не считать ряда изданных еще в XVIII веке летописей) – «Слово о полку Игореве» (издано в 1800 г.), и оно было в центре внимания Пушкина. Но широкая публикация произведений допетровской словесности началась уже после его кончины: гениальное «Слово о законе и Благодати» митрополита Илариона (XI в.) было издано в 1844 году, «Предание» преподобного Нила Сорского (конец XV в.) – в 1849-м, «Житие преподобного Сергия Радонежского» Епифания Премудрого (начало XV в.) – в 1853-м, «Просветитель» преподобного Иосифа Волоцкого (начало XVI в.) – в 1857-м, «Житие» протопопа Аввакума – в 1862-м.
Поэт же, как мы видели, полагал, что «за нами темная степь – на ней возвышается единственный памятник: Песнь о Полку Игореве…». Нелишним будем заметить, что в «темной степи» возможны неожиданные находки, и последующие поиски целой плеяды исследователей это доказали…
Но все-таки как отнестись к тому факту, что Пушкин знал из допетровской русской словесности немногое? Существенный ли это недостаток? Были бы достижения Поэта еще значительнее, если бы его знание русской словесности XI–XVII веков было намного более широким?
Строго говоря, такого рода вопросы не вполне правомерны, ибо они склоняются к популярному, но едва ли глубокому «альтернативному» мышлению об истории (в том числе об истории творчества), которое, говоря попросту, ставит вопрос так: «Что было бы, если бы дело шло иначе, чем оно шло?» Между тем история содержит в себе свой внутренний объективный смысл, который сложнее и основательнее любых наших субъективных мыслей о ней (истории).
И все же стоит кратко сказать о поставленных только что вопросах. Главное, пожалуй, свершение Пушкина – создание русского классического стиля (о чем мы уже говорили), благодаря чему и смогла плодотворно развиваться наша великая литература XIX–XX веков, для которой Пушкин – при всех возможных оговорках – всегда был мерой, высшим образцом искусства слова.
И есть основания полагать, что мощное воздействие словесности предшествующих веков могло помешать этому пушкинскому свершению, условием которого была творческая свобода, независимость от давних канонов и норм.
Но это отнюдь не означает, что, творя русский классический стиль, Поэт вообще не опирался на многовековую историю русского слова. При его высшей духовной проникновенности достаточно было и тех знаний, которыми он обладал: ведь он знал (и тщательно изучал) и «Слово о полку Игореве», и ряд летописей, житий святых. Ему была всецело внятна сама тысячелетняя стихия русского Слова. В момент обретения творческой зрелости, в 1825 году, Пушкин написал: «Как материал словесности, язык славяно-русский[177]177
То есть основной язык допетровской словесности.
[Закрыть] имеет неоспоримое превосходство пред всеми европейскими…[178]178
Поэт имел в виду, надо думать, «относительное», касающееся определенной стороны дела, а не абсолютное превосходство.
[Закрыть] В XI веке древний греческий язык[179]179
Речь идет о теснейшей связи Руси с Византией.
[Закрыть] вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии… Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного;[180]180
То есть славяно-русского.
[Закрыть] но впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей» (выделено самим Пушкиным).
Из этих высказываний ясно, что Поэт опирался именно на весь многовековой путь отечественной словесности, хотя и не знал множества ее творений… А ныне, вглядываясь в те или иные из этих творений XI–XVII веков, мы можем увидеть, что они, так сказать, подготовляли творчество Поэта… И я счел уместным дополнить рассказ о Пушкине в этой книге главами, посвященными двум явлениям допетровской эпохи – «Палее Толковой», или, иначе, «Книге бытия небеси и земли» (созданной, по мнению М.Н. Тихомирова, в конце XI века, то есть за 700 лет до рождения Пушкина), и преподобному Иосифу Волоцкому.
«Книга бытия небеси и земли» – это как бы видение целостности мира, и к ней можно бы взять эпиграфом пушкинские строки:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье…
* * *
Более семидесяти лет назад, в 1927 году, выдающийся ученый и мыслитель Владимир Иванович Вернадский обратил внимание на своего рода уникальную особенность отечественного бытия: «…история нашего народа представляет удивительные черты, как будто в такой степени небывалые (то есть нигде, кроме России, не имевшие места. – В.К.). Совершался и совершается огромный духовный рост, духовное творчество, не видимые и не осознаваемые ни современниками, ни долгими поколениями спустя. С удивлением, как бы неожиданно для самого народа, они открываются ходом позднего исторического изучения…»
Вернадский подтвердил свое умозаключение целым рядом фактов, напомнив, в частности, что древнерусская иконопись ждала высшего признания несколько столетий. Речь шла, конечно, не о том, что ценнейшие иконы и фрески вообще не существовали для «долгих поколений», но о том, что они не осознавались как воплощение великого духовного творчества, сопоставимого с вершинами мировой культуры в целом.
Нечто подобное уместно, пожалуй, сказать о Палее Толковой, ибо перед нами одно из самых фундаментальных и обширных и в то же время одно из самых ранних из дошедших до нас творений отечественной словесности.
Вот краткие характеристики этого творения, предлагаемые специалистами в последнее время. Палея Толковая предстает перед нами «своеобразной энциклопедией как богословских знаний, так и средневековых представлений об устройстве мироздания».[181]181
Творогов О.В. Палея Толковая. Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1987. Вып. 1 (XI – первая половина XIV в.). С. 286.
[Закрыть] Палея выявляет «тайный эзотерический символизм Ветхого Завета по отношению к Новому, разрешая его в богословскую аллегорию Нового».[182]182
Щеглов А.П. Религиозно-философское значение Толковой Палеи. Журнал Историко-богословского общества. М., 1991. № 2. С. 7.
[Закрыть]
Казалось бы, такое творение должно было обрести высшее и более или менее широкое признание. Правда, Палею не так легко воспринять в отрыве от ее духовного, исторического и языкового контекста. Но делу могло бы помочь снабженное переводом на современный русский язык и тщательно прокомментированное издание. Однако ничего подобного у нас нет. Единственное издание Палеи Толковой, вышедшее столетие с лишним назад в двух выпусках (1892 г.; 1896 г.), доступно современному восприятию не более, чем сами древние рукописи.[183]183
Оно представляет собой литографическое воспроизведение переписанных несколькими студентами – учениками Н.С. Тихонравова частей «Палеи» (разумеется, разными почерками), изданное мизерным тиражом.
[Закрыть]
Одна из основных причин недостаточного внимания к Палее заключалась в том, что в течение долгого времени имело место представление о ней как о переводном (с греческого или болгарского языка) памятнике, хотя никаких следов «оригинала» не обнаруживалось. Многие филологи и историки XIX века попросту не могли поверить, что такое монументальное творение было создано много веков назад на Руси, поскольку господствовало весьма критическое отношение к допетровской русской культуре. Но к концу XIX столетия начинает складываться убеждение, согласно которому Палея, хотя она, конечно же, опиралась на различные иноязычные источники (в том числе на византийскую Палею Хронографическую), тем не менее является в своей цельности созданием русской мысли и слова. Это убедительно доказывали с конца XIX века такие виднейшие специалисты, как И.Н. Жданов (1846–1901), А.В. Михайлов (1859–1928), В.М. Истрин (1865–1937), В.П. Адрианова-Перетц (1888–1972). Между прочим, последние по времени исследования Палеи были опубликованы в академических изданиях уже после революции – в 1920-х годах,[184]184
Истрин В.М. Толковая Палея и Хроника Георгия Амартола. Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук. 1923. Т. 29. С. 369–379; Михайлов А.В. К вопросу о происхождении и литературных источниках Толковой Палеи. Известия АН СССР по русскому языку и словесности. 1928. Т. 1. Кн. 1. C. XV–XXIII.
[Закрыть] но затем ее изучение прекратилось, поскольку дело шло о непосредственно богословском сочинении.
Как уже сказано, Палея – одно из наиболее ранних творений отечественной словесности. Выдающийся историк М.Н. Тихомиров (1893–1965), отнюдь не склонный к необоснованным и тенденциозным выводам, писал в своем (к сожалению, незавершенном) труде «Философия в Древней Руси», что Палея создана не позднее XII века – то есть, возможно, еще в XI столетии, из которого до нас дошло немногое.
Правда, «старшие» из сохранившихся рукописей Палеи Толковой относятся к более позднему времени – к XIV веку; однако ведь и другие великие творения русской словесности, созданные, вне всякого сомнения, в XI – начале XII века, – «Слово о законе и Благодати» митрополита Илариона, «Повесть временных лет», «Поучение» Владимира Мономаха – сохранились только в списках, сделанных не ранее того же XIV века (не считая небольшого фрагмента из «Слова» Илариона в рукописном сборнике XIII века).
Нельзя не отметить еще, что Палея Толковая имела на Руси немалое распространение, о чем свидетельствуют более полутора десятков дошедших до нас ее списков; как заключила крупнейшая исследовательница письменности Л.П. Жуковская, сохранилась в среднем только одна сотая часть «тиража» древнерусских книг. Следовательно, Палея Толковая была переписана примерно полторы тысячи раз (по тем временам «тираж» весьма значительный).
* * *
Палея проникнута полемикой с иудаизмом; подчас ее даже озаглавливали так: «Палея Толковая на иудея». И это имеет свое существеннейшее основание. Почти все важнейшие сочинения, созданные в собственно Киевской Руси (то есть в XI – первой половине XII века – от Илариона Киевского до Кирилла Туровского и Климента Смолятича), содержат полемику с иудаизмом; не менее характерно, что позднее подобной полемики почти нет в литературе вплоть до конца XV века, когда рвалась к власти так называемая ересь (на самом деле это было полное отступничество от христианства) жидовствующих, к которым принадлежали главный «чиновник» того времени Федор Курицын и мать первоначального наследника престола Елена Волошанка, а сам великий князь Иван III и митрополит Зосима явно сочувствовали отступникам.
Георгий Федотов писал в 1946 году о создателях русских сочинений XI – середины XII века: «…поражает то, что мы находим их поглощенными проблемой иудаизма. Они живут в противопоставлении Ветхого и Нового Заветов… Это единственный предмет богословия, который подробно разбирается с никогда не ослабевающим вниманием… Подчеркивание этого приводит нас в замешательство…»
Но «пораженность» и «замешательство» Федотова обусловлены прежде всего тем, что к 1946 году не была еще по-настоящему изучена и осмыслена история борьбы Руси с иудаистским Хазарским каганатом, начавшейся при Рюрике и не окончившейся даже после победных походов Святослава и Владимира; в 1036 и 1068 годах Руси приходилось вступать в противоборство с остатками каганата в Тмутаракани (будущая Тамань) и в Крыму.
Через полтора десятилетия после появления цитированных суждений Федотова, в 1962 году, вышел в свет трактат М.И. Артамонова «История хазар», где в той или иной мере была воссоздана борьба Руси с каганатом, и в 1963 году М.Н. Тихомиров, говоря о том, что в Киевской Руси создаются «противоиудейские сочинения, вылившиеся в особые философско-религиозные трактаты», осмыслил полемику с иудаизмом как «противопоставление Хазарского царства Киевской Руси. Иссохшее озеро (образ из «Слова» Илариона. – В.К.) – это Хазарское царство, где господствовала иудейская религия, наводнившийся источник – Русская земля».
И о «Палее Толковой на иудея» можно с полным правом сказать, что она продолжила и завершила в сфере духа ту борьбу, которую ранее Русь вела против иудаистского Хазарского каганата мечом и «калеными стрелами», – борьбу, запечатленную в основном фонде русских былин.
Вместе с тем было бы, конечно, совершенно неверным сводить содержание Палеи к данной теме (хотя тема эта в высшей степени значительна и имеет не только собственно исторический, но и историософский смысл). В Палее перед нами действительно своего рода энциклопедия, созданная около девяти столетий назад.
И ныне настало время, когда это творение может и должно стать достоянием каждого мыслящего человека – независимо от того, переживает ли нынешняя Россия один из немногих своих тяжких кризисов или же близится к концу своей истории…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?