Текст книги "Мифы о Хельвиге"
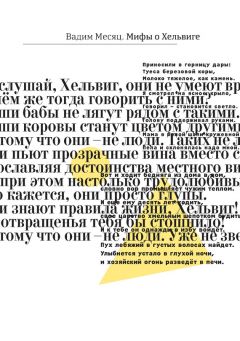
Автор книги: Вадим Месяц
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Ведьма-радуга
Реки рая
Остров Ацтлан давно опустел,
но облик священной горы запечатлен
на сетчатке глаз бесчисленных поколений
и проступает отчетливой тенью
над колыбелями детства.
Постаменты курганов и пирамид
на трех континентах тиражируют
забытое божество, чтобы жить
по соседству с чем-то великим.
Сколько прочих святынь утратило смысл,
оставаясь при этом святыми?
Разве символ есть человеческий произвол,
а не изначальная суть?
Почувствуй, что крест на твоей груди
не орудие казни, а четыре райских реки,
исходящих из центра вселенной.
И твою душу разбудит младенческий крик.
И ты увидишь мир глазами первых людей.
Первый исход
Мы разошлись от башни,
уныло понурив головы,
наши лица превратились в морды.
Разочарования не было,
потому что у каждого в глотке
испуганно ворочалась незнакомая речь.
Дул Северный ветер.
И некоторые из нас пошли на Север.
Иафет и Хам – прародичи Хельвига.
У лошадей были длинные хвосты,
они разметали буквицы алфавита
сначала в песке, потом в снегу.
Мы чувствовали содеянного горб,
каждый был горбат куполами.
Вещественные мы растаскивали вещь.
Женщины поднимали восстания,
но голод заставлял их молчать,
когда они видели пирамиды адитов.
Финтан, сын Бохра, хохотал на вершине горы,
когда наше войско шло по горло в воде.
Мы считали его смех смехом всевышнего.
Врага мы встретили на островах
и после переговоров поменялись оружьем.
Мы поразились, что говорим на одном языке,
а мы не могли говорить на одном языке.
Колодец
Ты вернулся с небес на землю:
опустела твоя земля.
Не утихает ветер.
В иссохших черных озерах
сверкает соль.
Красота неуютна.
Предметы черствы как хлеб.
Их души ушли,
но мир стал
величественнее и крепче.
Есть разумный обычай
зашивать рты мертвецам,
чтобы не растеряли себя
в незнакомых краях.
Вселенную не залатаешь.
В горле застывший ком,
будто камни в колодце
ворочаются жерновами,
но их скрип
вряд ли сложится в слово.
Осколки челнов на вершинах гор,
фундаменты башен, когда-то
касавшихся звезд,
потеряли свой изначальный смысл
и стали равны человеку.
Замкнись в своем превосходстве,
присягни остаткам тепла,
что сохранились в сердце
сами собой.
В скором времени эта блажь размягчит
тебя словно болезнь.
Ливани молока на дорогу
улетающим птицам вослед.
Вспомни счастливое время
когда звери были людьми.
Левант (трещина)
Зашвырни на небо мои глаза,
они мне здесь не нужны.
Не слушай высокопарную чушь
про прибежище совершенных людей.
Первенец из мертвых, первочеловек,
окончательно утвердил власть мужчин,
полубогов, всегда стоящих одной
ногой в общей могиле.
Мышиный запах цикуты,
этот убогий нафталин мумий,
отвратителен, как бычья кровь
и недожеванный хлеб костра.
Я любил женскую красоту.
И другую не хотел знать.
Но когда к твоей груди прижат
младенец – герои презренны.
Материнство и море, два гвоздя,
которыми распят каждый из нас.
Природа вступает в свои права
после опустошительных войн.
Я очевидная часть этого мира,
вне зависимости от решений
Вселенских соборов, бесстыдно
разделивших душу и дух.
Звериная или рыбья моя плоть,
мне давно безразлично,
хотя я бы хотел заслужить
уважение смертных и мертвецов.
Головы предков
Адам, он же Давид, он же Иисус Христос,
чей череп закопан у входа в Ерусалим,
охранял его Северный подступ, до тех пор
пока его не раскопал Бран.
Ахилл Мирмидоянский, ученик кентавра,
продолжал петь головой, отделенной от тела.
Так же поступил Бран, лишивший за ночь
пятьдесят девственниц по любви.
Нас вынуждают петь, а не лебезить.
Потомки Гомера, сына Иафета,
осели в Британии, повторяя слова
пелесгов и халевитов.
Они нас учат любить. Заклинания
Дайвиров и Блодайвет,
оставляющей следы из снега, —
на наших устах, как недожеванный горох.
Разрушение Храма, падение Трои,
плаванье в бочке лучшего из сынов
закончится тем, что его прибьет волной
к зеленому острову Элга.
Северный царь, улыбаясь, встретит поэта.
Даст ему имя прекрасное – Гвидион.
Отнесет его голову на лондонский Белый холм,
прикажет воронам ее отпеть.
Однако Бран будет петь сам,
словно царь Эврисфей, чья голова похоронена у Микен.
И никакой король Артур не отыщет ее,
потому что лишится слуха, сатрап.
Размягчение камня
Головы предков – вулканические острова
в колокольном туземном снегу,
чистом как звук птиц вертикальных,
профильтрованном взглядами миллионов детей,
клубящимся жидким азотом и жертвенным дымом,
возникают в просторе британских равнин,
дрожат миражами в пустыне,
сводят с ума унылых матросов,
увидавших чужую землю впервые.
Так впервые мы видим огонь, первый снег,
смерть отца, что никогда не решился
поверить в Бога, хотя знаем,
что это чувство ему знакомо, будто лицо
на снимках в New York Times времен
Первой тогда еще мировой войны.
Не обязательно знать, кто пересек океан,
и правда ли Мерлин перенес
в Солсберри Кольцо великанов.
Настоящие мегалиты нерукотворны,
как и люди пусть и не рожденные от людей.
Иголка зарыта в стогу, или спящая в норах змея,
или сердце земли, иссушенное жаждой молитвы, —
разноцветные ленты тянутся из могил
к нашим дверям и несколько раз в году
колокольчик звенит.
Родительская земля
Твой сумрачный остров, о мой золотой отец,
богом забытый, назначенный мне судьбой,
стал стар, как на каменном троне слепой певец,
перед пернатой ликующею толпой.
И тысячи тысяч царских литых колец
срывает с пальцев его роковой прибой.
Груз яблок, словно гора кровавых сердец,
казненных в безгрешной жизни только тобой,
согреет усталых очей поблекший свинец,
одарит народы улыбкой твоей скупой.
И жаркие шкуры гигантских седых овец
под ноги твои я уроню гурьбой.
Семь весельных лодок о камни истер гонец,
чтоб добраться однажды на берег твой,
взглянуть тебе в мертвые очи и наконец
поплатиться за преданность головой.
Твой сумрачный остров, о творенья венец,
коротает ночи под волчий вой.
Он сказал, что в Италии ценят заморский снег,
словно сахар – из-за него там идет разбой.
Прикажи засыпать мне трюмы по самый верх
самой свежей сугробовою крупой.
Я вернусь с барышами где-нибудь через век
и разбужу тебя оголтелой своей трубой.
Рождение хельвига
Чтобы ты родила,
разграбили десять гробниц,
сожгли разноцветные косы
великих блудниц,
заключили временный мир с силами зла.
Мы сделали все,
чтобы ты родила.
В последнем кургане
был найден наш первый царь,
в ладье обгорелой
стоял вожделенный ларь,
в нем государев пояс с остатком тепла.
Мы сделали все,
Чтобы ты родила.
Это наша земля,
и на этой промерзлой земле
мы охватили два мира
в священной петле,
смешались ржаная мука и сырая зола.
Мы сделали все,
чтобы ты родила.
И в ночь, когда
оголтело поют соловьи,
мы поясом медным
опутали бедра твои,
одеждою бога, сожженного нами дотла.
Мы сделали все,
чтобы ты родила.
Один за другим,
в обряде длинных ножей,
в шатер твой вошли
вереницы лучших мужей,
чтоб их сосчитать, не существовало числа.
Мы сделали все,
чтобы ты родила.
Народ беспощадный,
кто же теперь мой отец,
ты или в шапке собольей
звездный мертвец?
Земля стала плоской, а раньше была кругла.
Она сделала все,
Чтобы ты родила.
Откровение
Если б открылось скрытое,
было бы проще. Разоблачение льстит
и придает сил, которые не помешают,
даже если ты согласился с порядком вещей
и принял жизнь как приятную очевидность.
А здесь ничего не изменилось:
просыпаешься с легкостью, слышишь
лягушачий лепет озер, шорох грозы,
обошедшей дом стороной, и ощущаешь
присутствие женщины, словно она
склонялась над тобой секунду назад.
Запах волос, пристальность взгляда,
печальный уют, который она сумела
вдохнуть в стук бамбуковых погремушек
и проржавевшее лезвие перочинного ножика,
обескураживают, и ты опускаешь руки.
Сейчас каждому понятно,
что бог – это женщина.
Ты не мог ошибиться, это формы ее тепла.
В этом чувстве есть известная обреченность:
история мира стала чудовищной басней,
князь Вселенной развенчан,
но пробужденье было настолько сладким,
что солнце предательства
обретает радужный спектр.
Созерцающий внутренний свод
видит только себя.
Младенцы
Младенцы в материнской утробе
с безжалостными лицами китайских
правителей глядят друг на друга,
перебирая четки грядущей войны.
Щурясь в отблесках северного сияния,
они спят, не обращая внимания
на крики иноземных проводников,
рычание сторожевых собак.
Мы создаем их на радость себе,
зная, что приумножаем скорбь:
на случай, если силы иссякнут
или наша дорога зайдет в тупик.
Близнецы внушают ужас одним народам,
но обоготворены другими.
Мы больше не знаем, кто есть мы,
поэтому просто идем на свет
по земле, лишенной ступеней.
Два болотных шара в твоем животе
трутся нагревающимися боками,
чтоб однажды, исполнившись превосходства,
вырваться из воды в настоящую бездну,
пытаясь разом заглотить весь ее воздух,
даже не пробуя его на вкус.
Новорожденный
Светла колыбель очага ночного, младенческая душа.
Великому роду дана основа. Теплится, чуть дыша.
Герои склонились над ним гурьбою, пленники нежных чар.
Ветер стучит ледяной крупою, клубится морозный пар.
Шепот змеиный сквозит в поленьях под грубою берестой.
Родитель счастливый, ты на коленях десять ночей простой.
Ребенок играет с сухой золою, пьет молоко огня.
К печке чугунной, как к аналою, прильнула его родня.
Вглядитесь в него, дорогие гости, какой у меня сынок:
сильнее и ярче, чем на погосте блуждающий огонек.
Кафтаны вывернуты наизнанку, лежанки скрипят овсом.
Отцу святому мы спозаранку в церковь его снесем.
Лицо отразится в бадье с водою, чужой незнакомый лик.
Крестик с цепочкою золотою осветит весь мир на миг.
Батюшка чадо возьмет упрямо, расскажет молитву вслух,
когда на маковке белого храма красный вспыхнет петух.
«Приносили в горницу дары…»
Приносили в горницу дары:
Туеса березовой коры,
Молоко тяжелое, как камень.
Я смотрел на ясное крыло,
Говорил – становится светло.
Голову поддерживал руками.
Мама в белой шали кружевной
Пела и склонялась надо мной.
«Мама шаль тянула по траве…»
Мама шаль тянула по траве,
до неба глядела и уснула,
королевне северной во Литве
называла имя страшное – Улла.
Королевна шла по глухим углам,
высоко у стен тяжелых вставала.
И меня к своим водяным губам,
словно круглый камешек, прижимала.
Хельвиг-ребенок
Ты кормил медвежонка на краю капустного поля,
и вокруг простирались распаханные поля.
И туман стелился по пашне до водопоя
полусонным, усталым войском.
На душе было скользко от беспричинных обид.
На рассвете в прохладных палатах скрипели доски,
когда ты воровал сахар из царевой казны.
И теперь, когда приходит время войны,
этот кедровый пол, как прежде, скрипит
в сердце – оно всегда остается с тобою.
Добрый зверь и ужасный друг, это все, что таким,
как ты, нужно в детстве. И птичьи хлопоты нянек
плещутся словно крахмальный, летучий дым
над сбитыми в кучу подушками и простынями
первой смерти.
Неяркий рассвет сиротства
освещает ступени прилежнее, чем слуга,
и все стены полны разбегающимися тенями;
разверзаются хляби бескрайнего потолка…
Ты плачешь, чтобы не видеть свое превосходство.
Не стучишься в дверь, а толкаешь ее слегка.
И десницей мгновенно стала твоя рука
с куском сахара…
Капище
В один из пасмурных дней тебя за руку возьмут.
Между круглых камней по полю поведут.
В гуле голых стволов будут гнуться леса.
В поле мертвых голов омертвеют глаза.
Ты в небо волком завыл – и на три года ослеп,
но солнце остановил, чтобы вырастить хлеб.
Не вымолвить языком все, что придет на язык:
как гнева твердеющий ком, слагался в господа лик.
И сонмы круглых могил, что скатились с холмов,
стали прахом черных светил и нездешних псалмов.
Когда станут ножи холодней, жатвы первым трудом
между круглых камней мы кругами пойдем.
Ведьма-радуга
Опустив на купола покрывала
средь зеленого людского простора,
с неба радуга детей воровала,
опускала свои руки в озера.
В бусах яблочных и шали цыганской
в очи детские глядела уныло.
До империи чужой оттоманской
она в сердце их своем уносила.
Она сердцем их своим согревала,
перед тем как передать души зверю.
Чтобы мамка до рассвета не знала
про великую свою про потерю.
Они ехали на бричках злаченых
по мосту, где не звенели колеса,
облаченные в печаль разлученных
до последнего босфорского плеса.
Зарыдали, как увидели берег,
полумесяц на старинных соборах.
Тебе, радуга, никто не поверит.
Вера кончилась в ночных разговорах.
Ты мне, ведьма, подари урожаю,
жита спелого и желтой пшеницы.
Это я в тяжелых муках рожаю,
а тебе бы только крови напиться.
Ты не думай, что меня ты обманешь,
зачарована тобою – ну вот уж!
Его матерью надолго не станешь:
не подкидыш он тебе, а подменыш.
Мой звереныш со змеенышем дружит.
Тебе завтра его станет не надо,
когда страшную он службу сослужит
для украденного Царьграда.
Пока в Киеве кричал зазывала
с перетопом да веселым повтором,
в небе радуга детей воровала,
наклоняясь по лесам, по озерам.
Павлин
Сложи мне костер, надежнее, чем острог,
сколоченный на морозе январским днем.
За такой урожай государь не берет оброк,
здесь крепость моя и дом.
Из деревень не собирай трудовой народ,
Кому надо, сам на огонь придет.
Топорами сверкает иней седых бород,
и ветрами изодран широкий в улыбке рот.
Гляжу на людей, а вижу в снегу погост.
У девки молоденькой на дорогом платке
вышит павлин, распростерший узорный хвост
на Иордане, иудейской реке.
Вот она радость, которой никто не ждал.
Лучший подарок в день моих именин.
Яркий, как многоцветный резной кристалл,
райские перья в толпе распустил павлин.
На Иордане, непостижимо глухой реке,
на одном берегу стоит поп, на другом – раввин.
Купает крылья свои в золотом песке
голубь запретного мира, чудной павлин.
Зачем ты, родная, сегодня пришла сюда?
Покрасоваться? Ни у кого нет таких платков.
В просветах сосен тлеет моя звезда,
а сосны стоят рядами до облаков.
Алмазные горы, коралловые леса…
Сколько чудес я оставляю на этой земле.
Чудесней, чем все иноземные чудеса,
то, что где-то люди живут в тепле.
Сложи мне костер, уютный, как мамкин дом.
Горячий, как овчинный тулуп отца.
Великие реки скованы крепким льдом.
В народе молчат отмороженные сердца.
И мир согревает только большой павлин,
укутавший девичьи косы в цветной узор,
Павлин, расколи неподвижность угрюмых льдин,
распахни бескрайних лесов зеленый простор.
И ты, моя девочка, вспомни крещенский день,
выйди на берег навстречу моей звезде.
Копны русых волос для меня раздень.
И отпусти свой платок по талой воде.
Таежный охотник
А.Т. Машукову, дедушке
Я положил ухо на мох.
И уснул. И слышать не мог
исполинского неба холодный вздох,
обволакивающий в объятья.
И ни благости не было, ни проклятья:
только сердце мое сжалось в комок.
Черничник глядел детской толпой,
над нечеловечьей, глухой тропой,
и стынул в кладбищенском скрипе болота;
перешептываясь сам с собой,
он лишал мою сущность любого оплота
своей заговоренною мольбой.
Сохраняя оружие в головах,
словно жен на покинутых островах,
я взглянул на себя в перелете птичьем.
И увидел – оброненный в лесах
белый свиток в теряющихся словесах,
навсегда удивленный своим обличьем.
Сохатый переступил меня,
лицо мое тенью своей черня,
он чуял во мне прогорающее кострище.
Он знал, приближаясь к чужому теплу,
как скоро звериному быть числу,
и душе моей стать звериною пищей.
Я был для него безымянный раб,
уснувший в объятьях медвежьих лап,
скатившийся в земляной ухаб
груди материнской.
Я видел в своей погибели близкой
кровавые очи каменных баб.
Размытый паводками челпан
казался мне дверью во вражий стан
праха, который родных роднее.
И чем осторожнее, тем длиннее
тянулась дорога по черепам.
Мне никогда не расстаться с нею.
Забытые богом не строят жилищ.
И пальцы затопленных корневищ
немели, словно рука у несчастной гадалки.
Я когда-то посеял никчемный грош,
чтоб однажды в тайге отыскался нож,
жертвенный клинок неземной закалки.
Я положил ухо на мох.
Мне хватало веры ячменных крох,
но лес не принимал моего пробужденья.
Он жаждал пожара, искал подвох
в трудах и молитвах людских эпох.
Он видел во мне величие запустенья.
Когда-нибудь я услышу стон,
что невысказан, но все же произнесен,
и уже через миг порождает ветер.
Он на дыбы поднимает леса.
Я не успел приоткрыть глаза, —
смерч раскручивал жуткий вертел.
И сосны с лоснящейся чешуей,
с древнею раною ножевой,
истекая урожаем своим янтарным,
сгибались под шквальною тетивой,
хватали ветвями стенящий вой,
смыкались вокруг меня сном кошмарным.
Стремительный треск корабельных днищ
и пыль возметаемых пепелищ,
слепящая злобные взгляды чудищ…
Когда ты проснешься – живым не будешь.
Ножи повынуты из голенищ.
И звезды сгрудились тысячью тыщ.
Надо мною могли проходить войска,
скрипя сапожищами у виска,
вознося до небес правду свою холопью.
Но если кончина мира близка,
во многом сродни с мировою скорбью
становилась вселенская эта тоска.
Мне становился привычен тлетворный дух
плесени и огня, что давно потух,
дурман мухомора, прелая шерсть василиска.
Пусть на уста мне ляжет лябяжий пух.
Пусть запах свободы исполнен пьяного риска,
но на ветру не разговаривают вслух.
Под ногою не заскрипит крыльцо,
под откос не покатится колесо,
коль душа стала меньше зарытой в стогу иголки.
Один за другим, заглядывая в лицо,
из темноты ко мне подходили волки.
Они за меня еще замолвят словцо.
Я спал. Лишь повернулся на правый бок.
Перед муками ада пора отоспаться впрок,
если больше нет ни глотка во фляге.
Я шел по следу всю жизнь, но уснул в овраге.
Меня не разбудил даже Господь Бог:
Он передвинул все звезды в Своем зодиаке.
Да воздастся каждому по трудам.
Скоро лечь снегу, встать на озерах льдам.
И кому-то должно уснуть в тесноте берлоги.
И наверное, только мне без пути-дороги
идти к невозможной земле по чужим следам.
И у полярной черты обивать пороги.
Орда
Небо горит по краям.
Горя не видно под ним.
Вдоль по холодным полям
стелется дым.
Стелется дым и туман
кормом в сырой чернозем.
Прожитой жизни обман
кажется невесом.
Что по земле колесить,
жить в десяти городах,
но за всю жизнь не сносить
пары холщовых рубах.
За перебранкой собак
смеха уже не слыхать.
Лучше скатиться в овраг,
лечь себе отдыхать.
Искры в горелой листве,
запах нездешних костров
будят в дурной голове
облики мертвых голов.
С севера движет орда,
скована духом святым.
В небе застыла звезда,
стелется дым.
Мой дом
Я живу в бесконечном сыром лесу,
в самом сердце сырых лесов.
Я в сердце своем задавил слезу
и свой дом закрыл на засов.
Я забыл, как поют мои сын и дочь,
как звучит человечья речь.
По ночам в мои ставни колотит дождь
и трещит дровяная печь.
Я сжигаю замшелых бумаг листы,
не взглянув, от кого письмо.
Я не был испуган, узнав черты
старика в глубине трюмо.
Моя лодка, уткнувшись в застывший плес,
не шуршит чешуею рыб.
И под праздник заходит голодный пес,
я все жду его нервный всхлип.
Каждый год забредает со стороны
черный зверь в мой спокойный быт.
В нем таится душа моей злой жены
или друга, что был убит.
Вертикально стоит над равниной дым,
прорастая среди стволов,
словно взглядом отчаянным и пустым
кто-то смотрит поверх голов.
Темный дом мой, зажатый в кольце лесов,
у озерной стоит воды.
В нем не слышно задумчивых голосов.
И к добру не ведут следы.
Бибракт
В белой рубахе приходит из тьмы.
Молча садится за стол.
Я для него зажигаю огонь:
передо мною – слепец.
На удивленье длинное лицо,
вертикальное, как свеча,
скулы как сильные костыли,
легкие руки…
Я кормлю его ягодою лесной
из медного дуршлага:
я не знаю ее названия,
и мне стыдно его спросить.
Наконец я решаюсь и говорю:
«Как ты меня нашел?
Я сам тут вчера заблудился…»
Он ухмыляется, будто услышал
самый глупый вопрос на свете.
Разминает ягодки пальцами
обеих рук,
зловещие бельма на бледном лице
вспыхивают и гаснут.
Вдруг с необъяснимой злостью
и убедительностью
он выкрикивает непонятное слово
«бибракт»!
и покачнувшись, наклоняется ко мне
через стол.
«Бибракт», – сказал, словно отрезал.
Я испуганно смолкаю,
пока он привычным жестом,
словно надевает очки,
вминает две ягоды черных в свои зрачки,
две ягоды черной черемухи
прямо в зрачки…
Сообщение о квиритах
Здравствуй, обещанная заря
Здравствуй, обещанная заря.
Душу мою возьми.
Страшней поцелуя нетопыря
мне разговор с людьми.
Тенью брожу я среди людей.
Горестно хмурю лоб.
Был разговорчив как лиходей,
сволочь, надменный жлоб.
Болью отмечен мой путь во сне,
горем во тьме ночной.
Не с кем теперь поделиться мне
желчью, слезой, слюной.
Нам просто не о чем говорить.
Все мы – вселенский сброд…
Что еще делать, как не любить
каждого, кто умрет?
Что еще делать, как не торопить
необозримый час,
раз небо осмелилось полюбить
лишь одного из нас?
Поношение Каллипиги
Что вы скажете, северные рабы,
Хельвиг и Фергус,
увидав окорока Каллипиги прекраснозадой,
сверкающие мрамором пентеллийским?
Опустите в детском смущении очи долу?
Потянетесь к сапогу отхлестать бесстыдницу плеткой?
Нет, ухмыльнетесь только нагой богине,
потому что лишен ее зад красоты и смысла.
Куда ему до плодородных бедер каменной бабы,
в родную землю врытых по самые чресла…
Вслед заднице такой, на коне застывшей,
на справедливый разбой не пойдут отряды…
По такой и ладошкой хлопнуть всегда не кстати,
намека она не поймет, разве что покраснеет…
А воительница-мать стыда не знает,
ей претит обманчивая стыдливость:
в бою и на брачном ложе она одета
в копну из рыжих волос до самых колен.
Воины и цари знают дружбу ее ляжек державных
и верны им словно клятве присяги.
Так проклянем же задницу танцовщицы,
подаренную богине любви придворным стилистом.
Пускай женщины ваши столетие за столетьем
о своей жалкой фигуре больше радеют,
чем о тепле очага и о малых детях.
Проклятие
Отсохнет вымя твоих коров,
отморозит гребень петух певучий.
Огонь не согреет уютный кров,
застыв под слезою твоей горючей.
И сердце лишится щедрот огня,
в нем черной дырой прорастет могила.
Все это за то, что ты меня
не спасла, не поверила, не полюбила.
Сообщение о квиритах
Они не мажут волосы своих жен красной глиной,
а бреют им ноги перламутровыми ножами,
наряжают их в ткани из душистого шелка
вместо льняной рубахи.
Потому что они – не люди. А так – соседи.
Они не приносят в жертву своих детей,
сжигая их в клетках, сплетенных из прутьев ивы.
Но не потому что их земля плодородней,
а потому что они – сердобольны.
Потому что они – не люди. А так – навроде.
У седел их лошадей не гремят черепа
поверженных в бою чужеземцев.
Их оружие не имет имен,
но прозвища всадников длинны и медоточивы…
Когда побываешь, мой друг, и ты за морями —
привези голову их царя мне.
Все равно это не люди. А комья плоти.
Послушай, Хельвиг, они не умеют врать!
О чем же тогда говорить с ними?
Наши бабы не лягут рядом с такими.
Наши коровы станут цветом другими.
Потому что они – не люди. Таких не любят.
Они пьют прозрачные вина вместо сивухи,
прославляя достоинства местного винограда,
но при этом настолько трудолюбивы,
что кажется, что они просто глупы.
Они знают правила жизни, Хельвиг!
От отвращенья тебя бы стошнило!
Потому что они – не люди. Уже не звери.
И даже писать письмена для них не постыдно,
доверяя тайны бумаге как потаскухе,
залапанной пальцами рабов и простолюдинов,
от небесного не отличая земной алфавит!
Они слагают стихи, опасаясь забвенья.
И песни поют не богам, а себе подобным.
Пожалей их, Хельвиг, перед походом.
Потому что они – не люди. А мы бессмертны.
Сообщение ибн Фадлана
Они долго стоят голыми на снегу.
Я покупал их от жалости, а руки дрожат.
Нигде нет женщин, прекрасней здешних.
Это Европа, Ахмед. Собольи меха.
Белокожи, статны, высокогруды.
Бабы всегда ходовой товар.
Не спрашивай, почему Аллах создал их
у границы полярного круга.
Тут пьют сивуху, когда умирает царь.
Неделями. И сгорают от пойла
прямо за общим столом. Народ балагурит.
Покойнику выбирают спутницу в смерть.
Я видел, одна согласилась.
Я бы всю жизнь носил ее на руках.
Она выбирает костер. Это Европа.
Царь лежит в черной яме, смердит.
Слуги строят помост для огромной лодки.
Вместе с лучшею девою во Вселенной
на ней он уйдет в свой рай.
Как она весела, танцуя среди гостей.
Как щедро она раздает себя
родне мертвеца, свекру, братьям, дядьям.
Они сегодня стали ее супругом.
Все ей мало. В ладонях трепещет блуд.
Если б ты видел, как безумны ее глаза,
ты бы прозрел, ослепнув.
Как она расцветает, как голосит!
Так поют только в Европе, Ахмед.
В ее песне шумят березовые сады,
воды могучих рек передвигают камни.
И губы ее мокрые и родные.
Должно быть, рябина похожа на вкус этих губ.
Я заблудился в сердце Господа
Я заблудился в сердце Господа.
Слепит глаза мне яркий свет.
Как слепец, вытягиваю руки,
опускаясь по скользким ступеням.
Яичный желток и горчица,
липкие, как жертвенная кровь,
и горький пастушеский дым —
мои спутники и поводыри.
Я брожу в сердце Твоем,
не думая что-нибудь найти.
В лабиринтах жизнь длиннее,
и, может, Ты запомнишь
грохот моих сапог.
Потом выйду на свежий воздух,
прислонюсь к кирпичной бойнице.
И увижу, как на лютом морозе
голые колдуны в меховых рукавицах
пляшут вокруг костра.
Северные слоны
В свете литой луны, на Ладожском берегу
Северные слоны идут по брюхо в снегу.
Вытянутые клыки над мерзлой несут землей.
Гвардейские их полки чеканят за строем строй.
Косматые как стога, темны ледяной волной:
озерные облака цепляют своей спиной.
Северные цари сидят на слонах верхом.
Берестяные лари хранят на замке глухом.
Так с севера Ганнибал, долинам внушая страх,
спускался с альпийских скал на тридцати слонах.
Шли боевые слоны, трубя носовой трубой,
топтали лен чугуны, шар летел голубой.
А нынешние купцы в Италию снег везут,
нежнее шмальной пыльцы, съедобнее, чем мазут.
Фосфоресцирует шерсть, клубится туман и дым,
Не зависть – святая месть погубит надменный Рим.
Заплачут кесарь и поп: на цитрус и виноград,
Как мировой потоп обрушился снегопад.
И только дети галдят, от счастья сходя с ума,
Кричат на латинский лад: «Зима. Наконец зима!»
Хельвиг – Гамилькару
Я детей своих к алтарю принесу для клятвенных слов
камню страшному янтарю у разверзнутых берегов.
Это он, велик, как гора, собирает солнца тепло,
в исполинских толщах добра сохраняет зверя число.
Вижу, дым приворотных чар, выпускает дух из силка.
Это главный Господень дар – ясно видеть лицо врага.
Его яростно чистый взор, тонкий рот, безмятежный лоб,
что послал на народы мор, а на наших богов – озноб.
Так бывает раз на веку, когда настежь весь свет открыт.
Закричи, изогнись в дугу, сам не ведая, кем убит.
Возликуйте, дети мои, вам судьбою дан оберег
не пригреть под сердцем змеи, а согреть для купели снег.
Если ненавистью живу, только ею вас одарю,
сладкой верностью в черном рву государю и янтарю.
Воины Огмы
(Cad Goddeu)
Скатились с горы,
как бурелом,
грудой костей
громыхнув в гулкой долине.
И тут же начали расправлять сучья,
Отряхаясь от пыли
с деловитостью птиц.
Одежды с колокольчиками желудей
янтарными диадемами и цветами
спутались на мгновенье,
но вскоре
были разобраны согласно чину.
Они старались не разбудить нас,
когда в боевом порядке
с ножами, спрятанными в листве,
шли по горло в тумане.
Береза, рябина и ясень. Солдаты Огмы,
деревья, превышающие нас числом.
Бешенство священных рощ
хуже безумства рожениц.
Каждое из них
несло распятого Христа,
чтобы наши глаза помутились.
Жертвенные костры,
пожары, – все, чтобы смешаться с вами.
Вселенский ледник, сползающий с тела Европы,
Кривляется лицами листьев.
Буквы. Буквы. Пустошь буков и букв.
Солдаты Огмы, не превращайтесь в нефть!
Усыновление Хельвига
Permixtio sanguinis
Мальчик, кому, как не мне, усыновить тебя,
если ты для меня единокровный сын.
Что ты раскрыл свой рот, как рыба,
хотя ты и есть рыба, насаженная на кукан.
Твои глаза от ярости налились, словно бельма,
до самой кости ты расцарапал свое лицо,
но я не вижу в тебе никаких изъянов,
если они не скрыты в тебе самом.
Вращайся от злости внутри кожи своей,
изотри ее до дыр в пепел и дым,
забудь имя своего оружия и коня,
но вспомни, как убивал моих сыновей.
Луан, Аэд, Илиах, Эохайд и Айслинге,
всадники, волынщики и трубачи в рог,
моя кровь, мое семя, мое золотое войско,
уплывшее в колыбелях хрустальных.
Отец, я вошел в братство твоих сыновей.
Наша кровь смешалась, чтобы стать единой.
И теперь нет дружбы надежней нашей:
мертвые и живые, мы служим друг другу.
Я не сжег их в хате запертыми на замок.
Не отравил зельем из волчьего лыка,
не потопил в прорубях Иктийского моря.
Они приняли смерть от моего клинка,
и потом я исполнил свой человеческий долг:
выпил по мерке крови из черепа каждого из них,
разбросал их плащи по медвежьим берлогам.
А кости отдал углям костра и детям
для игры в городки. Пусть растут героями,
такими же, как ты, – покорителями городов.
Помазание Хельвига
Крытый крыльями птиц горбатый дворец
над обрывом реки, кишащей лососем,
ронял со своих куполов лебединый пух
в часы вожделения Широкобедрой Мэдб.
Ее истерзанный рот яблоком красным набух
от любви – готовым вот-вот лопнуть
и, разлетевшись кровью, спустить на народы псов.
Она ставила города на могилах отцов.
Горящие уголья неистершихся костылей —
это все, что она видела в радостном полумраке,
умножая присягнувших ее мельничным жерновам,
жаждущих чудотворной власти воителей.
Их дыханье напоминало дым торфяника,
И, спотыкаясь один за другим, они падали
в гущу колыхающегося меда и тонули в нем,
стараясь схватиться за рыжую гриву ее волос.
Их тени скользили по ней, как облака
над полыхнувшими северными островами.
Хельвиг плыл вместе с ними и детской рукой
привычно искал мамкину грудь.
Ты еще не убийца, мой мальчик, говорила она,
Но не будь таким надменным.
Она ласкала его так, словно наматывает
его пуповину на свой кулак.
И все они стали царями, выйдя на свет,
и она осталась царицею над царями.
И неродной жестокий ребенок
стал государем над ней…
Жалость Медб
Однажды она пожалела меня,
сына ее погибшего и коня,
которому дал пощечину смерд.
О великодушие Широкобедрой Медб!
Она гладила мне волосы, целовала глаза,
упиралась ртом в холод родильных яблок.
Она захотела жить в животе моем,
жить в животе моем только вдвоем.
Ее губы, пальцы и чресла разбухли.
Мозоли клинка стали цветочной пыльцой,
а воительница была – голой овцой.
Ах, как она меня пожалела.
Ах, как она на меня посмотрела.
Течения остановились, листва облетела.
Так Широкобедрая Медб меня захотела!
Царицы, когда засыпают, они умирают.
Раскидываются, отходя ко сну.
И когда ее страшный перстень разбил мне десну,
я заплакал, пережевывая слюну.
Не за мальчика я рыдал, не за коня,
не за остров великий, что зеленее пня.
Я зарыдал от боли. Я зарыдал,
будто тысячу лет в кабале страдал.
За чудовищных, непреображенных,
о нивах сожженных я плакал, о прокаженных.
Я хотел, чтобы царицу мою
растянули за ляжки от плетня к плетню.
И подпускали к ней только умалишенных.
Одеяло Хельвига
Смотри, это его одеяло висит на гвозде!
Его старое одеяло висит на гвозде!
Клетчатое, как скатерть, не стиранное в воде,
никогда не стиранное в мертвой воде.
Мы не лежали под ним, срастаясь в беде.
Никогда не мокшее под осенним дождем,
и на помойках оно никогда не валялось,
оно дарит теперь не тепло, а жалость.
В этой тряпке для нас все и осталось.
Океаны дикой травы на полярной черте,
ледяные несудоходные океаны,
березы, бьющие кронами в брюхо коней,
всадники, что стыдливы, как великаны.
И твое одеяло висит на гвозде.
Одеянье царя царей висит на гвозде,
Словно портрет в полный рост на смятом холсте.
А мне, если честно, все по балде.
Я вошел в твой вертеп, о Хельвиг, облокотясь плечом
на кленовую дверь, висящую на заборе.
Я хотел попросить воды,
Я сказал бы спасибо.
Настолько полон уюта твой дом,
пустой, холодный,
скользкий как рыба…
Подруга, и ты пробормочи «спасибо».
До рыдания нам не дойти,
раз дошли до всхлипа.
Любой тряпицы хватает,
чтобы ты взяла его след.
Бормочи «спасибо», подруга,
мы выходим на свет.
Свадьба Хельвига
Галерой сороконогой посередине степи
встал стол и под солдатней зашуршали стулья:
Култ, Куйлтен, Мафат, Иермафат, Гойске, Гуйстине.
Можешь считать, что я помер отныне,
раз такие гости на свадьбу ко мне пришли!
Они, чтоб не вернуться, сожгли свои корабли.
На дровнях колышется стылая туша акулья.
Железные кружки бряцают на цепи,
прикованы к их запястьям. Щелкают пастью
забрала, бросая проклятья ненастью,
и лыбятся губы в предчувствии мерзкого флирта.
Так вынеси им самовар древесного спирта!
Расправь свои косы, ножки поторопи.
Твой голос кристальный, щекочущий потроха,
вытрясет медь из любого, повалит на бок,
войдет в нечестивую кровь подколодной страстью,
когда, потворствуя прелести слабых,
волынка испустит свой дух, истончая меха.
Кричи, моя радость, раз не о чем говорить.
Принеси мне прорубь – я хочу пить.
Напяль на башку мне короной сушеное вымя…
Пусть воздетые на тесаках сырые пиры
вопьются в их рыжие бороды, как костры.
Я запомню сегодня навек каждое имя.
Ингкел, Куммасках, Луам, Аэдан, Финди…
А к утру пусть они уснут
и проткнет их насквозь
трава на сеновале вкривь и вкось…
Мои руки собирали девок, как острова,
но сегодня в мою голову пал туман.
Я сегодня венчаюсь с родной землею,
что лежит на отрогах несчастного моря.
Песня Хельвига
Твою голову внесли три на подносе воина,
заставили петь.
Но бандура твоя была не настроена,
струна на ней билась, как плеть.
Но ты все равно открыл свой огромный рот,
и изо рта твоего выпал крот.
И тогда ты запел, словно на воле вор,
в рекрута остриженный на войну,
заглушая окрестных малин шпану,
ржавых струн перекрикивая перебор.
Настоящий герой должен быть дурак,
без затей, без хитростей и потреб,
чтобы цезарь в пуху и в норе батрак
жевали песню твою, как хлеб.
Каких ты еще получишь благ,
приобщишься к какому еще добру,
когда голову твою, как бурак,
таскают от двора ко двору.
На острове Женщин похоронят ее,
в гроб вместо тела опустят копье.
Вот и лежи, дорогой, и удобно спи.
Чтоб не смущать девушек – не храпи.
Отцовский клад
У мертвых тоже есть царь.
Теперь им умер мой брат.
Звездою Лувияарь
Очерчен его закат.
На грани ночи и дня
Мы передаем венец.
Огнем буду править я,
Тьмою – мой брат близнец.
У мертвых тоже есть рай,
Бескрайний яблочный сад.
Крест-накрест как вход в сарай
Заколочены двери в ад.
Я обойду войска
В слезах из конца в конец.
Забудутся боль-тоска.
Вас встретит мой брат-близнец.
Все схвачено. Скручен век.
Немыслим обратный ход,
Когда на гойдельский брег
Вступает имперский флот.
Скопленье подземных звезд,
Небесных прочней заплат.
Жесток, откровенен, прост
Бессмертный отцовский клад.
Должник
Вот и встретимся на том свете.
Там никто не знает про ложь.
Согласимся на прежней мете.
Но запомни – в этом кисете
ты мне мой табачок и вернешь.
Ты узнаешь меня по перстню,
ты мне выковал его сам.
Но от верности в грудь не бейся,
мы слыхали такую песню:
я узнаю тебя по глазам.
Поле, устланное цветами,
а над полем звездная твердь.
С кистенями, клинками, кнутами…
Сколько вас таких вместе с нами,
что избыли дряхлость и смерть.
Говорят, что нас ждут чертоги.
Мне по нраву такая молва.
Хотя чувствую на пороге,
что в холодной лежит поволоке
путь на радостные острова.
Скоро женщины, пляс и пьянство
и всю вечность дым в потолок.
Что тебе дармовые яства?
Повторяю из окаянства:
не забудь про старинный долг.
По закону прощенной стали
самодурством смешить народ.
Чтобы мертвые хохотали,
свою вечную жизнь коротали,
а потом прищемили рот.
Норумбега
Все мы лизнули в детстве топор на морозе,
и теперь нашей речи привычней шаманский вой,
чем внятное слово. У пиратов и рыбаков
в каждом горле торчит по рыбьей занозе,
вызывающей кашель до самых до позвонков.
Озябшие сети полны морскою травой,
и тащатся по песку как кривые полозья.
Мы вряд ли поможем делу своей головой,
сберегая угодья, колдуя над караваем.
Труд хлебороба нелеп в вековой мерзлоте,
сколько ни удобряй эту почву кровопролитьем.
Как побитые псы, мы бредем навстречу открытьям,
и Господень рай на соседней лежит широте.
Через мгновенье мир станет неузнаваем!
Ликуйте! Рукоплещите! Мы отплываем!
Чтоб вернуться со щитом или на щите.
Адам и Ева спрятали первых детей
в чаще дремучей, как великую тайну от Бога.
И он превратил младенцев в лохматых чудовищ,
стыдящихся клыков своих и когтей.
Мы их потомки в зловонных звериных шкурах,
на развилке неисповедимых Его путей…
Что скажешь о расхитителях страшных сокровищ,
о бабниках, кровопийцах, о самодурах,
чьими ногами смята романская тога,
а убийства бездумны, словно раздавленный овощ.
Один только закон «око за око»
стал для них полноценным гражданским правом,
он пиршеством освящен, наважденьем кровавым,
словно они не люди, а волчья стая, —
не народ, а бездомный медведь, что, век коротая,
гуляет от Ледовитого моря до стен Китая.
Они оставляют нас наслаждаться собой,
уходя впопыхах, в никуда запасными морями.
На Запад, где проживают их мертвецы…
где острова, говорят, укрыты коврами
из мягчайшего ворса патоки и пыльцы.
Вот они грузятся в лодки гурьба за гурьбой,
громыхая жердями абордажных крюков и рогатин.
Они неуклюжи, хотя щебечут словно скворцы, —
должно быть, этот язык им самим непонятен.
Они изжили постыдную страсть передела
империй, что расползаются на куски
не от грохота их барабанов, а от тоски.
Вандалы уходят. C ними уходит великое дело.
Теперь ни к чему триумфальным венком украшать виски.
Небо над континентом совсем обмелело.
Все надоело, бормочут они. Как все надоело!
Европа, что служила подстилкой быку,
святая юдоль, потерявшая дар обольщенья,
выскальзывает из-под ног шаткой льдиной,
даже лодка из рыбьей кожи ее надежней.
Когда мачты под шквальным ветром согнутся в дугу
и Лососевый фьерд захлебнется болотною тиной,
унылые морды богатства и пресыщенья
станут еще нестерпимей, еще ничтожней.
Чуждые таинствам зрители мерзких побоищ,
властолюбцы, которым не хватает духу
одарить гладиатора павшего – смертью…
а помилуешь зверя – словно живым зароешь.
Разве золото можно разменивать медленной медью?
Разве можно за флягу вина и хлеба краюху
полюбить скотоложицу эту и потаскуху,
и остаться в истории предавшимся долголетью.
Италия, Хельвиг, пришлась бы нам по душе.
И было бы хорошо поменяться местами,
землею, садами, стадами, пространством жилья.
И бабами. Это вот верно. Но кто же захочет?
В презренье и зависти бедное сердце клокочет.
Наслать на них пламя чумы! И засыпать могилы цветами.
Или ветер волхвов, конопляные мнущий поля,
чтоб квириты сошли с ума и бросилось в море?
Но чарам они неподвластны. Ко всему привыкли уже.
Медведем, в лавке посудной изранившим тело,
певцом косоротым с заштопанными устами,
белугой реветь тебе в хоре на белом море,
полынь тебе кружкой хлебать, а не сладость лозы.
И снова бормочут гребцы в преддверье грозы.
Прощай, о Агенора дщерь! Ты нам надоела!
И огромные, словно весла, топорщат усы.
И хоругви полощут по ветру образ козы.
Мы отдавали двоих рабов за мерку вина,
ибо праздник дороже поденщины выживанья.
Наша доблесть пропитана мухоморным отваром
и дымом с жаровен морочащих трав.
Опьяненные кровью быка, нефтью, сернистым паром,
чемерицею, волчьим лыком, мутной хаомой,
что собирают при свете луны в левый рукав…
Если вспомнить все, что мы пили, все, что жевали,
то наследье вольных веков обернется кошмаром.
Мы прильнем к зеркалу мира, к стене его заоконной.
И горькая на наших улыбках застынет слюна.
Орда синеокая, чьи глаза побелели от снега
и смрадной сивухи, рвет из последних сил,
не признавая законов движения вод и светил,
в поход за виноградом в страну Норумбега,
И мертвые на подмогу поднимаются из могил.
В щетинистых шкурах, в штанах из цветного холста,
под знаками солнца, креста и великой спирали,
они идут туда, где земля дает урожай
без помощи пахаря. Там виноград бесхозный
цветет, соревнуясь с лозою лестригонийской.
Наши помыслы праведны, цель безупречно чиста.
Не за это ли наши деды и прадеды умирали
в справедливых набегах, в пещерах ночью морозной?
Пустые кувшины и фляги гремят на корме,
нисходя с ноты высокой до самой низкой.
В нетерпенье похмелья Норумбега кажется близкой,
Всегда кажется близким заманчивый край.
И Железный век, пребывая в трезвом уме,
провожает в век Золотой завистливым воем
счастливых подонков, коли счастье дано только изгоям.
Только они готовы навек остаться во тьме.
Хельвиг приехал домой
Было в твоем лесу желудей по колено,
а теперь одна скорлупа.
Зачем ты приперся, Хельвиг, назад ступай,
под ногами твоими шуршит измена.
Овраг, в котором с любимой ты возлежал,
зверем пропах, будто он – логово зверя.
Зря ты, Хельвиг, ладони свои разжал:
не земля, а ты – этой земли потеря.
Ты переплыл для нее десятки морей
На весельных лодках, самых кривых и дряблых,
Чтобы оставить одних на острове Яблок
Одну за другой бесстыдных своих дочерей.
Что ты медлишь, что ластишься к животам
каменных баб, если дыхание коровы
созвучней твоей душе, чем голос крови,
поющей бескрайние песни твоим следам.
Выйди во двор и стой там до тех пор,
пока я сама тебя не покину.
Из ведра я выплескиваю твой позор,
на прощанье в спину.
И тогда Хельвиг попросил мамкину грудь.
И его голос
застыл в жилах народов как ртуть,
не поднимаясь больше ни на один градус.
Простая собака Хельвига
Случается ночь, когда к дому подходит пес.
На груди его роза, в глазах беготня колес.
Он рыжий, он добрый, он умирает от слез.
Он кто-то из забытых тобой мертвецов,
для которых в сердце уже не осталось слов,
и ты не знаешь, оставить ли дверь открытой.
Из двух неубитых прав голодный и битый.
И ты впускаешь его, ибо он таков.
Он останавливается на ночлег
кратковременно, словно апрельский снег,
или с крыши крыльцо завалило снегом.
Ему под голову я положу десять своих рубах,
забуду свой страх.
И жизнь свою подарю калекам.
Здравствуй, приятель, как ты лохмат!
Ты прекрасен как в рыжей тайге закат.
Хорошо, когда и на том свете у тебя есть брат.
Ты посланник,
ты по миру блуждающий странник,
или боги преподнесли мне новую блажь?
Спросим проще: ты меня продашь?
Оба мы звери, мы поняли и молчим.
Мы до утра не заплачем, не закричим.
Мы помолчим с этим застенчивым человеком.
К пьянице ночью приходит зверь
К пьянице ночью приходит зверь, всеми забыт совсем.
Как я оставил открытой дверь, лампу зажег зачем?
Я с давних пор разлюбил гостей, с которыми незнаком.
Он от жены не принес вестей, лакомится молоком.
Я поутру нахожу цветы, подброшенные на порог.
Чую – не миновать беды. Из них я сплету венок.
Землю копну и наткнусь на клад, горсть золотых монет.
Счастью дурному я был бы рад, только тебя здесь нет.
Я от удачи раскис, устал… Мне больше не до чудес,
если все то, что Господь мне дал, видит лишь темный лес.
Спрячу в тяжелом я сундуке каждый лесной трофей.
Вспомню о славном моем сынке, о доченьке о своей.
Вы для меня плывете вдвоем в лодочке лубяной
майским, цветущим бескрайним днем в дальней стране родной.
И в этой кукушечьей тишине, на троне сырого пня
сказка рассказывается не мне и вовсе не про меня.
Письма лисичьи, подарки фей. Шорох ночных шутих…
Если оставишь своих детей, не обретешь чужих.
Пожар на закате солнца
Сестра, ты безумна, если грустишь.
Ликуй! Бегай босая по кругу!
Дом твой горит на горе Ульхун,
и дым вплетается в облака.
Он полыхает, как царский трон,
как шелкопряда засохший кокон.
Как легко вместилище пыли
испустило свой тяжкий дух!
На кувшин козьего молока
мы бы могли его променять;
на бубен, на свадебное платье,
что тебе никогда не носить.
Боги спускаются вниз по склонам
из своих разоренных гнезд.
В желтых гречишных полях
на ходулях бредут цари.
Им не привыкать к потерям,
именно им они обучили нас:
беспризорники выставлены за дверь,
не надеясь на доброту.
Твои дети на яблонях сидят,
бездумно играя в птиц.
Твой дом полыхает на небесах.
И вот уже горят небеса.
Месть
Вода замыкает свои круги.
Становится выше гора Ульхун.
Я слышал вчера перезвон колес,
Как будто прошло уже двести лет.
Как будто, дожившие до зимы,
мы были счастливы только здесь.
Позволь мне еще постоять в дверях,
дай не подышать мне, пока ты спишь.
Тебя не узнает твоя сестра,
годами глядя тебе в лицо.
Зачем собирать камыши со дна,
бежать за золотым клубком?
Твой сон выпадает из лап ежа
на скользкий,
прибитый морозом мох,
где я проходил по тропинке вниз
единственный раз, единственный раз.
И я не знаю, о чем молчал
твой черный от чернослива рот,
Я забрал твою молодость, словно вздох,
чтоб ты и не вспомнила, был ли гость.
Любовь
Глянешь – и ясно, когда предаст.
Поставлю на десять лет.
Мертвой земли черноземный пласт,
словно стекло на свет.
В мертвой земле прорастет зерно.
Горечь сожми в горсти.
Рано ли, поздно – мне все одно.
Нам с тобой по пути.
Огнепоклонник
Каждый день я приношу жертвы – оттянуть момент людской смерти.
Разберу забор, сожгу жерди для небесной золотой тверди.
В каждом пламени кусок солнца, обещание плодов урожая,
души предков, черный прах сердца ворошу я и вопрошаю.
Вторят пению огнем жарким Книга мертвых, Беовульф, Авеста,
пусть любви нашей горят подарки, чтобы новым оставалось места.
Семь костров разведено на кручах сохранить покой твоих хижин,
семь дубов я повалил могучих, чтоб владыка мой был не обижен.
Много в доме топоров, спичек… С полок идолы глядят одним глазом.
Я от шкурных ухожу привычек, во мне вспыхнул коллективный разум.
Из себя я изгоняю бесов, наступаю в темноте на грабли.
И осокою ладонь порезав, я соленые слизнул с нее капли.
Я одежду рву, бью посуду, наш любимый раздолбал чайник.
Накопительство сродни блуду– мне всевышний говорит начальник.
В плоскодонку я сложил болезни: скудоумие, холеру, оспу…
Пусть плывут они к такой-то бездне, по реке прямо в открытый
космос.
И воде я возвращаю рыбу, что сгорбатившись удил часами.
Я и сам готов взойти на дыбу с незавязанными глазами.
Был народ такой, звались кимры. Все награбленное – сжигали.
Скоро я, как и они, вымру. Буду пьянствовать в их Валгалле.
Ну а ты живи судьбой женской, с кем захочешь в непростой жизни.
И себя, не принося в жертву, вой вакханкой на моей тризне.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































