Текст книги "Гонки в сентябре"
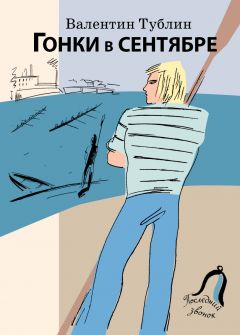
Автор книги: Валентин Тублин
Жанр: Книги для детей: прочее, Детские книги
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]

Да, дело было именно в его возрасте, в том, что он был взрослым, а значит, с их всеобщей точки зрения, уже в чём-то неполноценный человек в том смысле, что здоровье у него уже было не то, и нервы не те. Вот в этом-то и была главная опасность. В этом и ещё в невесте. Именно поэтому все они, вся восьмёрка, и опекали своего Валентина Васильевича больше, чем кого-либо другого. Больше, чем близнецов, те просто были шальные. Больше даже, чем Пончика, – тот, что ни говори, был свой парень, свой до конца, разве что был не в меру толстым и всё не мог отделаться от привычки жевать где попало. С Пончиком, в принципе, всё было довольно просто. Ему только одно надо было – чтобы, не дай бог, не остаться одному, без всех, и чтобы дело было общее, всё равно, какое. Он был воплощением коллективизма. И если все были вместе, то иного для счастья Пончика и не требовалось. А то, что он при этом поглощал в необыкновенных количествах всякую снедь, а в особенности глазированные творожные сырки, – к этому все привыкли. Тем более что Пончик всегда рад был поделиться последним. В том числе и последним сырком.
Да, с Валентином Васильевичем было совсем иначе, чем с любым из них. Именно потому, что он был взрослым и собирался жениться на своей невесте, которая могла бы ещё хоть как-то терпеть то, что своё свободное время её жених проводит, занимаясь чёрт-те с какими-то молокососами, стала бы относиться к этому хоть чуточку снисходительнее, если бы они хоть раз, один хоть единственный выиграли. Но проигрыши она терпеть не собиралась! Это все видели не только по её тонким губам, не только по вздёрнутому подбородку, но и по настроению Валентина Васильевича, который с каждым проигрышем всё больше утрачивал свою природную жизнерадостность, пока наконец не заявил однажды, что всё, с него хватит.
Что не помешало ему явиться на следующую тренировку минута в минуту. Только брови его были ещё решительнее сдвинуты, и всё его узкое, из одних сухожилий свитое тело и такое же узкое лицо с тонким и чуть кривоватым носом выражали такое стремление скорее ухватиться за весло, такое нетерпение поскорее упереться ногами в подножку, что если бы это нетерпение и это упорство можно было бы каким-то образом превратить в энергию другого рода, в тепловую, например, то он, Валентин Васильевич, вполне мог бы, по мнению Шведа, обогревать в течение полугода Гражданку и Купчино. Безо всякого ущерба для академической гребли.
Но всё это имело предел. Не могло продолжаться бесконечно. И всё потому, что он был взрослым. Швед, к примеру, не говоря уже о Мурике, мог и потерпеть, он ведь верил в справедливость, и ещё одно, даже два поражения для него ничего не меняли; да, он мог подождать. Но Валентин Васильевич ждать больше не мог, как не мог бы ждать на его месте любой другой взрослый человек. Более того – просто любой человек, вне зависимости от возраста, если только у него есть девушка, настолько уже завладевшая им, что он согласен на ней жениться. Пусть даже только для того, считал Швед (и Мурик был с ним согласен, а Пончик по этому поводу своего мнения не имел), да, только лишь для того, чтобы она успокоилась наконец, вышла бы замуж и занялась своими обычными делами, позволив своему бывшему жениху, после того, как он станет мужем, заниматься чем он хочет.
Да, так думал Швед – и совсем до недавнего времени. До той пятницы, накануне которой он, прощаясь с Муриком, пообещал забежать за ним рано утром, чтобы разбудить этого несчастного соню. Обычно Мурик – с грехом пополам, да и то не всегда, просыпался сам, но в пятницу он даже и не пытался проверять свою волю. В пятницу нужно было проснуться много раньше обычного, потому что каждую пятницу к семи часам им нужно было приезжать на стройплощадку бетонного завода на правом берегу Невы. И не только приехать, но и изготовить затем определённое количество продукции – бетонных поребриков, тех самых прямоугольников, которые ограждают тротуар от проезжей части. И им нужно было ещё успеть на последние два часа в школу, и для всего этого требовалось встать в шесть часов утра! Одно только вставание требовало от Мурика всего его гражданского мужества, всей силы воли, но в этот раз, в эту пятницу ему и этого было маловато. Потому что в этот именно день ему нужно было встать ещё на час раньше, чтобы выгулять собаку – огромного рыжего пса неизвестной породы. И тут уже никакие доводы рассудка, никакая сила воли не могли его заставить подняться. Мурик знал это и не собирался ни от кого скрывать. Способен был на это единственно Вовка, Швед, которому к старости, ясно, не придётся мучиться от бессонницы, потому что уже и сейчас, в семнадцать лет, ему не спалось. Настолько, что он, похоже, едва дожидался утра, первых лучей солнца, чтобы поскорее выбежать в парк – благо, что парк был под окнами. Выбежать и носиться по аллеям с целой толпой таких же бессонных чудаков, а их там, в парке, была целая компания: от шестидесятидевятилетнего генерала в отставке до тринадцатилетней Таньки из соседнего подъезда.
Вот Мурик и сказал Шведу, чтобы тот, раз уж ему всё равно не спится, разбудил его пораньше. Чтобы забежал к нему в начале шестого и разбудил, да так, чтобы оставалось ещё время прогуляться с этой рыжей собакой, на что Швед и согласился. С одним, правда, условием – чтобы Мурик всё-таки настроил себя на вставание, подготовился бы внутренне. Чтобы ему, Шведу, не приходилось тащить Мурика из постели за ногу по полчаса, как это не раз уже бывало. Но по глазам Мурика он понял, что для того все эти слова – звук пустой.
Тогда Швед сказал: „Давай сделаем проще. Я просто позвоню тебе в дверь – когда хочешь, хоть в пять, хоть четверть шестого, тут твоя собака залает, ты пойдёшь открывать мне дверь, проснёшься, и после этого я тебе не нужен“.
Но он сам отверг этот вариант. Ему достаточно было только взглянуть на лицо Мурика, чтобы понять всю несбыточность предположения, что он проснётся от обыкновенного мелодичного колокольчика, что был у них в дверях, или от собачьего лая. Об этом и думать было смешно.
Но самым главным, как выяснилось, было даже не это. И звонки, и собачий лай в пять утра были нежелательны из-за Серёгиного отца. Он-то явно пошёл не в Мурика, его отец, – вернее, Мурик не пошёл в своего отца, хотя во всём остальном, исключая, конечно, густую бороду, Мурик и его отец были страшно похожи. Да, кроме бороды и отношения ко сну. Отец Мурика всё время чем-то занимался по утрам, до того, как уезжал в свой проектный институт.
Чем он занимался в институте, было известно – там он проектировал новые города. Но чем он занимался у себя в кабинете по утрам, когда тревожить его строго-настрого запрещалось. То есть никто, даже Мурик, не мог предположить, чем именно занимается его отец, Сергей Сергеевич, – изучает ли он японский язык, пишет ли очередную статью или отрабатывает приёмы каратэ. Шведу очень хотелось спросить у Мурика, чем его отец занимается на этот раз, но он не спросил. Одно было ясно – звонить Мурику нельзя. Но тогда неясно было другое: если звонить нельзя, то как же он, Швед, сможет Мурика разбудить? Разве что ему придётся лезть для этого по водосточной трубе на шестой этаж. Мурик подумал чуть меньше минуты и вытащил из кармана ключ…
Так вот оно всё и произошло. Ключи были у Шведа, Серёга сладко спал и видел свои самые интересные сны, а собака не соизволила даже приподняться, когда на следующее утро, на рассвете, Швед вошёл в квартиру. Собака, видно, и во сне по запаху узнала Шведа, что доказывает наличие необыкновенно острой памяти у собак, особенно на людей, которые, подобно Шведу, при любом удобном случае скармливают им сахар. Да, собака и глазом не повела – ей, наверное, тоже снились в это время сахарные сны. Из комнаты Сергея Сергеевича доносился какой-то слабый шум, но это Шведа не касалось. Ему нужно было без лишнего шума и побыстрей разбудить Серёгу – и всё.
Что он и сделал.
Было ещё не очень светло, самое начало шестого. На мгновение Шведу стало даже жалко будить Серёгу. По тому, как он спал, натянув на нос одеяло, видно было, что он переживает сейчас самые блаженные минуты. И даже нога у него так трогательно высунулась из-под одеяла… Но дело было прежде всего и, как ни жалко было Шведу, он решился.
Он даже окликать не стал Серёгу, как обычно, он даже тормошить его не стал. Недолго думая, он ухватил Мурика за ногу и потянул.
Ну, вот так оно и случилось.
Он потянул, – и тут же, с поразительной быстротой одеяло откинулось. И даже если бы в комнате был не рассветный полумрак, а сплошная кромешная тьма, Швед всё равно разглядел бы это лицо, то, что глянуло на него с подушки. Мурик? Ничуть не бывало. С подушки, придерживая на груди одеяло, на него смотрела девушка такой красоты, что язык у Шведа прилип к гортани, и он только судорожно глотал воздух, как если бы вынырнул с глубины в тридцать пять метров.
Сколько это продолжалось – миг, минуту, вечность?
– Вы кто? – строго спросила девушка и ещё выше натянула одеяло на грудь, причём Швед, совершенно машинально, заметил, что нога её, маленькая и узкая нога, снова появилась из-под одеяла и исчезла.
– Кто вы? – снова спросила девушка ещё строже и таким чистым голосом, будто она вовсе не спала, а пела.
– Я, – сказал Швед чужим голосом и, не отводя глаза, сделал очень осторожно полшага назад, – я Швед. То есть, – поправился он, – меня зовут Володя.
– И часто вы хватаете людей за ноги рано утром?
– Нет, – признался Швед, чувствуя, насколько противно язык ворочается во рту. – Нет, – сказал он, – не часто. – И сделал назад ещё четверть шага.
– Это хорошо, что не часто, – сказала девушка. – Ну, а что вы ищете именно здесь?
– Мурика, – уже совсем хрипло сказал Швед. – То есть Серёгу.
И тут он окончательно замолчал и даже зажмурился, потому что услышал вдруг, как у него в груди бьётся сердце. Оно стучало так громко, что на стук этот, да ещё в такую пору, вполне могли сбежаться соседи из нижних этажей.
Он собрался с силами и отступил ещё на полшага. Он уже ничего не видел. Он лишь наполовину понимал, где он, что с ним. Ноги, руки, всё тело его были выструганы из дерева самым неуклюжим в мире мастером. И он знал уже, что погиб, и знал, что этой минуты ему не забыть никогда – до конца дней.
Он сделал ещё полшага назад. Здравый смысл ему всё же не изменял даже в таких, самых крайних ситуациях; он понимал, что должен как можно быстрее уйти, и в то же время отдал бы всё, чтобы уйти хоть на секунду позже. Сделав ещё шаг, он оказался в коридоре. И в этот самый момент до него донеслось чьё-то громкое шипение, как если бы он наступил на змею или на кошку.
Что-то не переставая шипело у него за спиной, пока он, всё так же пятясь, делал по полшага и, моргая в темноте, всё отходил и отходил от двери. И так длилось до тех пор, пока он не наткнулся на Мурика, который стоял в дверях и, остолбенев от изумления, смотрел на отступающего Шведа. А тот лишь несколько минут спустя сообразил, что таинственное шипение издавал Cepёгa: это он звал его, одновременно предостерегая от шума.

Швед чуть не наступил ему на ноги – вот тут-то Мурик и перестал шипеть. Он втащил Шведа в комнату и, очевидно по инерции, спросил свистящим шёпотом:
– Что с тобой? С каких пор ты стал ходить спиной вперёд?
Зарницы ещё продолжали вспыхивать у Шведа в глазах, а во рту было так сухо, словно он только что перешёл пешком через Сахару. Он глядел на Серёгу бессмысленным взглядом и тряс головой. Он всё ещё был в той комнате, где девушка, придерживая на груди одеяло, смотрела на него своими огромными глазами, и голос её, чистый и строгий голос, всё ещё звучал у него в ушах.
– Ты что? – спросил Мурик. – Уж не ошибся ли ты дверью?
– Там, – сказал Швед, но поскольку зубы у него выбивали мелкую дробь, это получилось так „тамтам“.
– Ну да, – сказал Мурик. – Там спит Ира, моя сестра. Троюродная сестра, – уточнил он. – Приехала позавчера из Минска. Я всё хотел тебе сказать про неё. Она балерина – настоящая балерина, правда. Дочка двоюродной сестры моей мамы, – добавил он, без видимой связи с предыдущим. – Она ничего.
Швед в отчаянии затряс головой. Он хотел что-то сказать, но первое же слово застряло у него в горле. Но Мурик ничего не заметил – ни тогда, ни потом. Он очень любил своего друга, Шведа, более того, он никого не уважал так, как его. Уж он-то, Мурик, знал, что нет на свете девчонок, что могли бы заинтересовать такого человека, как Владимир Малышев. Уж не наговорила ли его сестра Шведу чего-нибудь? С неё вполне станется.
Нет, вроде ничего.
– Я сейчас, – сказал тогда Мурик. – Одну минуту.
И стал натягивать тренировочный костюм.
Только тут жизнь стала потихоньку возвращаться к Шведу.
Он сделал глубокий вдох, и ему показалось, что воздух входит в его грудь с таким трудом, с таким скрипом, с каким отворяются старые, на проржавелых петлях ворота. Мурик пошуршал у него за спиной, мелькнул и тихо, как мышка, на цыпочках побежал в ванную, откуда тотчас же басом заговорили трубы. Швед стоял недвижим, словно спал стоя. Странное тепло разливалось у него в груди. Зачем он стоял, почему не мог сдвинуться с места, чего он ожидал? Он ничего не ждал. В принципе, он вполне мог и уйти, впечатлений у него хватало; он мог бы уйти уже и потому, что миссия его была выполнена, а то, что с ним случилось, касалось его одного.
Ему было очень хорошо.
Он не знал даже – отчего. Просто хорошо. В груди по-прежнему была теплота, какая бывает, если во время простуды растереть грудь согревающей мазью. Хотя нет, не так – то было совсем иное тепло. Так бывало, когда ты сидишь у костра – когда с вечера уходишь с батей на рыбалку, устраиваешь до полуночи шалаш и спишь, завернувшись в спальник, а на самой заре отец разбудит тебя, а ты не можешь продрать слипающиеся глаза, и тут ты вспоминаешь своего друга Мурика. Но ты всё-таки встаёшь и видишь, что отец и не ложился, и видишь костёр, и ты протягиваешь руки к живому, переливчатому огню, и тебя охватывает вот такое же благодатное тепло.
Мурик, вытираясь на ходу, выскочил из ванной и заглянул в соседнюю дверь. Швед закрыл глаза. Потом он услышал голос Мурика:
– Спит. А то я бы вас обязательно познакомил.
Собака наконец проснулась, подошла к Шведу, и, виляя хвостом, потёрлась о его ногу. Швед присел и погладил собаку. Он завидовал ей. Она, собака, вовсе не обязана была сейчас уходить из этой квартиры. Она, если б захотела, могла зайти в ту комнату, где спала – или делала вид, что спит – девушка, и смотреть на неё сколько душе угодно. Будь он собакой, он глядел бы на эту девушку не отрываясь.
Швед ничего не имел против того, чтобы стать собакой, абсолютно ничего.
Таким и запомнилось ему это раннее утро. И помнилось всегда; не только в эти два с половиной дня, когда в груди у него становилось всё теплее и теплее, сухое такое спасительное тепло, но и потом, много дней спустя; много дней и много месяцев спустя, всю жизнь. Только сейчас, стоя рядом с Муриком, со своим лучшим другом, Швед не знал, что это на всю жизнь. И Мурик не знал, да и кто бы это мог знать наперёд?
Но одно-то он, Швед, знал точно: сейчас он был счастлив. Он был счастлив сейчас, как никогда ещё не был ни один человек на свете, а потому, по одному только этому, по одной только этой причине счастлив должен был быть сейчас и весь мир. Неведомые ему прежде чувства испытывал в эту минуту человек по имени Владимир Малышев, неведомые ему самому силы бродили внутри него, и они, эти силы, требовали выхода. А самым ближайшим выходом было то, что предстояло им, – гонки, до которых в пятницу, в тот самый замечательный день, оставалось ещё более двух суток.
Но вот эти сутки прошли, и теперь настала та самая минута.
„Да, – подумал Швед. – Минута настала. Сегодня. Всё случится сегодня. Обязательно“. И чем больше он думал, тем яснее ему становилось, что всё, о чём они, все восемь, так страстно мечтали и чего ждали так терпеливо, произойдёт именно сегодня. Иначе и быть не могло. Он смотрел на реку, которая вспыхивала бликами, на маленькие упругие водовороты, которые, закручиваясь, уходили вниз по течению, на лодки, которые, развернувшись у самого пролёта, медленно, словно нехотя, подгребали к бону. Сейчас уж никто не сказал бы, что он смотрит неведомо куда и ничего не видит. Сейчас он видел всё.
Сегодня окончатся все их неудачи.
И тут он поймал чей-то взгляд, вернее, почувствовал его и поднял голову. Наверху, на самом углу балкона стояла Августина Сигизмундовна, тётя Гутя, их тренер, и что-то пыталась ему прокричать. Но где там.
– Ты можешь что-нибудь разобрать? – спросил Швед.
– Кто ж это может? – резонно ответил Мурик.
– Тогда пойдём, поднимемся. Узнаем, в чём там дело. Что-то мне не нравится вся эта сигнализация.
И в душе у него что-то дрогнуло. Нет, он и мысли такой не мог допустить, чтобы сегодня – именно сегодня – что-то опять случилось, но на миг, не больше, что-то в его душе дрогнуло.
И он пошёл к лестнице. Толпа на сходнях стала гуще. Мурик плёлся сзади, пытаясь понять сразу несколько вещей: у какого места всё-таки сделала поворот эта отчаянная спартаковская девчонка, и с чего это вдруг Шведу в такое ответственное время взбрело в голову вспоминать про какую-то пятницу?
* * *
И этот момент был схвачен глазом объектива, и это мгновение навсегда останется куском их жизни, маленькой частичкой остановленного и запечатлённого времени. Швед впереди идёт, чуть наклонившись с весьма решительным видом, а он, Серёжка Муроев, Мурик, чуть сзади – голенастый и такой тощий, что скорее похож на журавля. Оба в вылинявших, застиранных, заветных майках. Оба они – и Швед, и Мурик – в фокусе, чётко, а остальные – расплывчато. Но можно увидеть и узнать множество людей, заполнивших в тот день бон и сходни, говорящих, оживлённых, жестикулирующих.
Можно, если вглядеться, различить кое-кого и из их команды. Валентина Васильевича, например, который на этом снимке выглядит очень озабоченным: лицо напряглось, а кривой нос настороженно повёрнут налево, туда, где из-за поворота вот-вот покажутся лодки.
Можно увидеть ещё боцмана дядю Васю, его плоское, добродушное лицо с толстым, когда-то давно перебитым носом: он стоит в дверях, точнее в воротах эллинга, держа в руке сляйд – сиденье на колёсиках, которое движется внутри лодки по полозьям. Бог знает, кому он несёт этот сляйд и где теперь тот человек.
И ещё можно увидеть людей, великое множество других людей, о которых помнишь каждый день, потому что ты и встречаешь их каждый день, и ты уверен, что не забудешь их никогда. Но потом ты перестаёшь однажды ходить в клуб. Оканчиваешь, скажем, институт и становишься взрослым, и начинаешь жить другой жизнью, уезжаешь и приезжаешь, и снова уезжаешь из этого города и от этой реки, и постепенно забываешь их, словно и не знал никогда. Не помнишь и не вспоминаешь годами, а потом однажды вытащишь – уже и сам не знаешь, почему – старую связку фотографий, которые много, неведомо сколько лет назад делала примитивным фотоаппаратом девушка, которую ты видел в жизни один только раз, да и то случайно. Потому только, что ты приходился ей дальним родственником, вот она и остановилась у вас. Ты берёшь в руки этот кусочек фотобумаги – и происходит волшебство, чудо совершает этот кусок фотобумаги с твоей памятью и воображением. Всё оживает для тебя. Оживает, дышит, наполняется звуком и светом, и запахами осени – ароматом ясного осеннего дня на берегу прекрасной реки, и тебе снова семнадцать лет. Смотри и вспоминай: вот он ты; идёшь по крутым сходням вверх, голенастый и тощий, похожий на птицу, а за твоей спиной река и плеск воды, и ты знаешь, даже спиной ты знаешь, что к бону одна за другой сейчас начнут подходить восьмёрки. А где-то далеко, за две тысячи метров отсюда, за поворотом, вверх по реке и вверх под мост, и ещё выше, там, где река раздваивается, такие же как ты ребята, подгребая длинными вёслами с пёстро окрашенными лопастями, выравниваются на старте, и тебе через некоторое время предстоит то же самое.
И ты, бредя в плотной толпе за спиной своего лучшего друга, который и в мыслях в этот момент не допускает, что может в такой день случиться какая-то непредвиденная неприятность, думаешь о том, что надо бы уже и лодку вынести, хотя до нашего заезда не так и скоро; и о том, что надо бы пойти на площадку разминаться, побегать и согреться; и о том, зачем же их звала, что хотела сказать им тётя Гутя? Пашка Кобзев, толстый Пашка по прозванию Пончик, мог бы вполне, думаешь ты, без всякого ущерба для здоровья подрастрясти лишний жир, спуститься к ним и передать им, в чём там дело и что стряслось?
И вдруг вспомнишь, в какой момент что-то начало тебя беспокоить и мешать, словно камешек, попавший в ботинок.
Идя вслед за Шведом, сначала по крутым сходням, потом вниз по ступенькам, потом снова вверх, но уже по лестнице, ведущей на балкон, Мурик всё думал и старался понять, что же это. Что его встревожило и не давало покоя с того самого момента, когда он подошёл к Шведу?
„Ну что, – думал он, протискиваясь за Шведом на переполненный балкон, – ну что. ему эта пятница? Что там такого было? Ничего там такого не было. Клянусь, совсем ничего. Пятница как пятница“. И поскольку ничего выдающегося, выходящего из ряда вон, он вспомнить не мог, ему только и оставалось в поисках истины одно – перебрать абсолютно все события в их изначальной последовательности, с той самой минуты, как он открыл глаза. Или даже до того, как он открыл глаза, потому что – и это-то он запомнил – в эту именно пятницу ему приснился удивительный сон.
И он стал вспоминать сон, а затем и всё по порядку, всё, что было дальше в то утро и в тот день, в пятницу. Два с половиной дня тому назад. И так увлёкся этим вспоминанием, что пропустил тот момент, когда они со Шведом, пробившись сквозь толпу болельщиков, мимо столетних старцев с раскрасневшимися лицами, возбуждённо обсуждающих результат только что закончившегося заезда, мимо каких-то сногсшибательных красоток в немыслимо обтягивающих джинсах, мимо буфетчицы, совсем уже невероятнейшим образом ухитрившейся найти тут место для огромной своей корзины с пирожками, добрались, наконец, до угла балкона, где Пашка могучей своей спиной сдерживал мощный натиск толпы, прикрывая собой и защищая тётю Гутю, которая, правду сказать, при своей далеко не хлипкой конструкции и сама могла вполне за себя постоять. И Швед спросил – уж не случилось ли чего, а Пончик, не дав никому и рта раскрыть (хотя у него у самого во рту в этот момент было минимум два, но, может быть, и три, а то и все четыре пирожка с мясом), выпалил:
– Капусту видел кто-нибудь? Швед, Мурик, кто из вас сегодня видел Капусту?
И дальше, без остановки, едва успевая управляться с пирожками и выкатывая от волнения, от возбуждения глаза:
– А вообще, кто-нибудь из наших видел сегодня Капусту, а, ребята?
* * *
Мурику очень хотелось посмотреть на то, как лодки после заезда будут подходить к бону: на тот момент, когда рулевой впритирку подведёт к бону лодку и она, как послушный зверь, замрёт у досок, и восемь рук лягут на бон; услышать, как рулевой даст команду: „Баковые – из лодки“, и тут баковые, то есть все нечётные номера, всё ещё не остывшие, не отошедшие от гонки, на затекших, подгибающихся ногах выберутся на бон и придержат вёсла, и на спинах будет видна проступившая соль. А потом, тоже по команде, выйдет на бон загребная сторона, а потом, после всех – рулевой, а потом, отвинтив барашки, все вытащат вёсла из уключин и уложат на сходнях, лопастями вниз, чтобы стекала вода. А потом, самое волнующее – и опять по команде, всё равно кого – рулевого, или загребного, или тренера, который обязательно встречает команду, вернувшуюся с гонки, – р-раз-два, вся команда наклонится к воде, распрямится – и огромная сигара красного дерева взмоет вверх, замрёт на мгновение над головами и послушно ляжет в подставленные ладони.

И тут, для этой, по крайней мере, команды, и закончатся гонки.
Вот на что хотелось ему посмотреть. Это всегда волновало его настолько, что стоило ему только посмотреть, как команды подгребают к бону, он, Мурик, тотчас же забывал обо всём. Он не знал даже, что его так привлекает? Наверное, он в свойственной ему и несколько туманной для остальных манере ответил бы, что его привлекает демократизм традиций.
Да, наверное, так оно и было.
Именно этим – пусть даже не в самую первую очередь, но и далеко не в последнюю, привлекала их всех академическая гребля – вне зависимости от того, осознавали они это отчётливо и ясно или нет. Демократические традиции, зародившиеся бог знает когда, но от этого не менее привлекательные: в клубе были все равными, исполняемый ритуал был обязателен и одинаков для гребцов любого класса, от зелёного новичка, натирающего свои первые в жизни мозоли в тренировочном гребном ящике до чемпиона мира. Это касалось всего, всех видов работ: от выноса лодки и ремонта вёсел до личных одолжений и общения между собой. Но вынос лодки – он был абсолютно всеобщим и не поддающимся изменению ритуалом, объединявшим всех, с приобщения к этому и начались их самые первые шаги.
Вот на этот-то никогда ему не надоедавший ритуал Мурик и хотел посмотреть ещё, в который уже раз. „Пятница, – в то же время думал он, – пятница, пятница…“
Далась ему эта пятница! Но если уж что-то западало ему в голову, то всё! Он должен был довести дело до конца, докопаться, додуматься. Вот и сейчас мысленно он вернулся в пятницу. Он вернулся в то утро и снова лёг в постель, закрыл глаза и увидел сон – странный сон, от этого сна он и проснулся, хотя обычно, особенно в ночь с четверга на пятницу, он спал, словно в летаргии.
Этот сон…
Можно ли пересказывать, воссоздавать наново сны, которые к тому же обладают одним странным качеством: когда они снятся и вы в них участвуете, они настолько реальны, что трудно бывает поверить в их несбыточность. Но стоит раскрыть глаза, и сон начинает исчезать, растворяться и таять, как льдинка в руке. Ничего не остаётся – только чувство досады оттого, что никакими усилиями уже не вернуть многокрасочного мира, в котором только что жил, действовал, говорил.
Мурик читал какие-то книги, он читал там о коре и подкорке мозга, но всё это были слова и слова, и они его не убеждали. Ведь что ни говори, ни в чью – ни в вашу, ни в мою голову никто не может заглянуть в тот момент, когда вам снятся самые необыкновенные вещи. Когда вы идёте, например, по улице и вдруг чувствуете необыкновенно сильное желание пролететь над этой улицей и этим городом. Вы безошибочно и чётко знаете, что вы можете, умеете летать. Вы сможете сделать это в любой момент, мягко и без какого бы то ни было технического обучения.
И вы делаете это.
Да, вы делаете это, вы отрываетесь от земли и летите, но и тут нисколько не удивляетесь – ведь вы же всегда знали это. Вы отрываетесь от земли без всякого дополнительного усилия, естественно, поднимаетесь выше и выше, но вы не забываете, что не следует касаться электрических проводов. И ещё – вы не забываете о своей собаке. Потому что на самом деле вы шли не летать над городом, а прогулять собаку, и теперь вам приходит в голову, что в то время, когда вы парите, собака может заблудиться.
Но вот сверху вам видно, как собака, покрутив головой, вдруг срывается с места и несётся, бежит куда-то, забегает в подворотню – и исчезает. А вы ещё в воздухе, наверху и вам ещё надо спуститься, помня о проводах, вам надо спуститься сверху и отыскать эту подворотню – и опять, странное чувство. Чувство досады: вы говорите себе – ах, не надо, не надо было летать сейчас! И вы даже ругаете себя за это: опять эта обычная невыдержанность, неумение подождать, неужели нельзя было заняться всеми этими полётами после прогулки…
И вот подворотня. Но подворотни нет, а есть какой-то ужасный, тёмный и плохо пахнущий лаз, и никаких следов собаки. Но вам и в голову не приходит бросить её, без неё возвращаться домой нельзя.

И вы идёте, а потом ползёте по этому лазу дальше – туда, где брезжит свет. Что там – выход? И вы ползёте к выходу, aгa, лаз расширяется, и вы выползаете на свет.
Но вы в цирке! Это цирк, и на арене выступают медведи, и вдруг в одном из них вы узнаёте свою собаку. Вы даже не думаете о том, возможно ли такое превращение, нет – вы просто знаете, что вон тот медведь, это и есть ваша собака, но что вам теперь делать, вот это совершенно непонятно, и вот на ваших глазах укротитель с хлыстом, раскланявшись перед публикой, уводит этих медведей с арены одного за другим, и тот, который был вашей собакой, оборачивается и смотрит на вас в последний раз.
В последний! Вы вдруг понимаете всё значение этого слова, понимаете вдруг, что оно равнозначно слову никогда, – никогда вы не увидите больше свою собаку, своего пса, никогда, никогда… И вы чувствуете, как вас охватывает ужас; ужас и безнадёжность. Вы понимаете, что совершили ужасный поступок, вы предатель, вы предали кого-то, кто вам доверился, за кого вы отвечали, вы совершили непоправимую ошибку, вы знаете, что здесь невозможно что-либо изменить, но знаете и то, что сами не забудете и никогда себе не простите.
И просыпаетесь в слезах.
Вот такой сон.
И всё-таки бесполезное дело – пересказывать их. Просто с него, с этого сна, началась тогда пятница, и Мурик отчётливо помнил: он проснулся не у себя, а в большой комнате, где обычно спали родители;
мама была в командировке, а отец, работавший за полночь, улёгся в своём кабинете. Мурик проснулся с мокрым от слёз лицом, и первые несколько мгновений все ощущения сохранялись настолько ярко, что он никак не мог отделаться от стыда и щемящего чувства потери.
Да, лучше всего здесь было проснуться. И он, отходя ото сна, пролежал так ещё несколько минут, и слабый утренний свет уже пробивался сквозь занавеси, и было тихо – так тихо, как почти никогда не бывает в городе. Так тихо, как бывает, когда лежишь где-нибудь в чистом поле, в степи или на каком-нибудь заброшенном островке среди деревьев. Только птичье пение да свист ветра. Вот так и было в это утро – совсем тихо, только он-то был не в степи. Но и это было куда как хорошо – лежать в постели в пять часов утра и знать, убеждаться постепенно, лёжа в необычной для города утренней тишине, что приснившийся тебе сон, был, к счастью, только сон. И собака твоя вовсе не превратилась в медведя. Она как будто узнала откуда-то, что ты уже проснулся, и вот она уже заскребла о дверь лапой, приоткрыла, втиснулась, подошла и смотрит: огромная рыжая собака, „метис, родители неизвестные“, как записано в регистрационной карточке, выданной в позапрошлом году ветнадзором вместе с регистрационным жетоном за номером 41309.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































