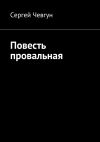Текст книги "Уроки жизни. Юмор, сатира, ирония"

Автор книги: Валерий Казаков
Жанр: Юмор: прочее, Юмор
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Уроки жизни
Юмор, сатира, ирония
Валерий Николаевич Казаков
© Валерий Николаевич Казаков, 2017
ISBN 978-5-4485-4905-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Я
Откровенно говоря, мне никогда не нравились успешные люди. Я всегда замечал в них нечто ущербное. Некую отстраненность от реальной жизни. Скорее всего это происходило потому, что сам я никогда не обладал статусом делового человека. Я всегда был катастрофически неуспешен и потому вынужден был находиться в народной гуще.
Я никогда не имел престижной должности. За всю свою жизнь я ни разу не пришел на службу в новом костюме и не примерил перед зеркалом красивый новый галстук. Сколько себя помню, на мох плечах всегда был ватник, на ногах – кирзовые сапоги. В этом смысле жизнь на севере России не отличается большим разнообразием в выборе одежды. Просто летом мне нужна фуфайка потоньше и сапоги полегче. Вот и всё.
Встав с постели, я никогда не говорил жене: «С добрым утром». Она мне тоже ничего не говорила. Молча, ставила на стол тарелку овсяной каши, нарезала хлеб, я тянулся за маслом. Мы ели и смотрели в разные стороны. Потом мы пили чай. Она говорила, что ей пора на работу. Я кивал. Она уходила. Я не провожал её даже глазами.
За всю свою жизнь я никогда не приходил на работу к восьми часам. Моя работа всегда была трудной, но не имела строгих временных рамок.
В бригаде лесорубов я много выпивал. В школьной котельной дрался с пьяными бомжами, которые лезли в тепло отогреться. Работая лесником, я старался исполнить свои обязанности поскорее, чтобы к обеду выбраться из чащи, где полно комаров и мошек.
Сколько себя помню, я некогда не имел больших денег, хотя порой хорошо зарабатывал. Мои деньги как-то очень быстро уходили на самые неотложные нужды. Что называется – исчезали. И когда мне становилось необходимо купить бритву или вылечить зуб, то в семейном бюджете денег на эти цели часто не находилось. Появлялись они только после моих грубых выкриков и громкой брани. Потому что я, оказывается, отнимал у жены последнее. Потому что я, по её мнению, всегда был транжира и мот, который принесет денег с Гулькин нос и тут же их забирает обратно.
Я никогда не бил жену, даже если она очень меня раздражала. Я просто надевал фуфайку, кирзовые сапоги и выходил на улицу в сад. Там я долго стоял под раскидистой яблоней, опираясь на черен лопаты. Я ни о чем не думал, ни о чем не жалел. Просто так складывалась моя жизнь.
Я никогда не говорил жене ласковых слов. Мне как-то неудобно было такие слова говорить. Потому что жена через два годы после нашей свадьбы стала толстой, крикливой, вечно чем-то недовольной женщиной. Иногда спросонья я смотрел на неё и не узнавал. Мне казалось, что её подменили. Я женился на тонкой изящной, милой женщине, от которой пахло ландышами, которая с придыханием говорила о Чайковском и Рахманинове, восторгалась Джойсом и Набоковым, которая рассказывала о последнем лауреате Пулитцеровской премии по литературе – Соле Беллоу. А сейчас она не может вспомнить, кто такой Мендельсон, не говоря уже о Рее Брэдбери. Она говорит со мной о своих больных коленях, о высоком давлении, о нехватке денежных средств. От неё пахнет ужасной мазью под названием «Диклоран плюс». И я боюсь спросить у неё, любит ли она меня, как прежде, или это чувство уже совершенно угасло в ней, погребенное под грудой неотложных дел и забот.
Среди моих одноклассников очень мало успешных людей. Может быть, когда-то они и были успешными, но сейчас все мои друзья и бывшие одноклассники почему-то стали пенсионерами. Глядя на них, я со страхом думаю: «Неужели я выгляжу так же непрезентабельно, как эти люди»? И порой мне кажется, что это не так. Что я выгляжу лучше и моложе. Что они всегда выглядели хуже меня. Их мучила изжога, они много болели, злились, переживали из-за пустяков, стремились достичь успеха. А мне все эти устремления были чужды.
И тут вдруг я понимаю, что давно не видел себя со стороны.
Я спешу к зеркалу и придирчиво разглядываю в нем свое лицо. Седеющие волосы, тонкие скулы, глубоко посаженные темные глаза. Скорее всего кто-то из моих предков был турком или иранцем. Не иначе. Во всяком случае, у меня не растет окладистая борода, как у всех породистых славян. И вообще мне порой хочется взять саблю, вскочить на резвого коня и скакать, скакать по широкой степи навстречу ветру. «Эх, ма! Степь раздольная»! Но коня у меня нет. Нет даже сабли. Зато в душе есть что-то такое, отчего я не могу смотреть на породистых коней без восхищения. Мне нравятся их вытянутые интеллигентные морды, их большие, влажные добрые глаза. Их мягкие теплые губы, длинные ресницы. Мне нравится слушать, как они ржут. Видеть, как они едят овес, пьют воду из реки. Должно быть, это проявляют себя мои турецкие корни.
И живу я почему-то не в Париже, не в Москве и даже не в Малмыже. Я живу в селе под странным названием Трек. Скорее всего, это тоже неспроста. Ведь по логике вещей турки должны жить именно в Туреке.
Может быть кому-то мое предположение о турецких корнях покажется неубедительным, даже странным. Спорить не буду, некоторые мои умозрительные заключения носят чисто экзистенциальный характер. Но почему-то они мне дороги. Они не противоречат моему внутреннему «я». Поэтому я вам как турок скажу. Русский народ живет неправильно. Он излишне патриотичен. Для него имперская Россия превыше всего.
Русский народ отвоевал когда-то у нас, у турков, Крым. И что из этого получилось? Ничего хорошего. Дальше последовали только новые войны, которые не кончаются до сих пор. Россия всегда в этом смысле выполняла не свою роль. Воплощала не свои планы. Создавала не свой образ. То есть её амбиции не соответствовали её мощи. При нищем народе она вооружала свою армию так, что та могла держать в страхе всю Европу. Только эта ноша всегда была ей не по силам, не по плечу. И тогда, и сейчас.
Вот пишу эти строки, а сам понимаю, что я никогда не имел одного устоявшегося мнения на что-либо. Сегодня я думаю так, завтра – иначе, а через неделю, вполне возможно, заброшу все эти мысли к чертовой бабушке. Я человек непостоянный. Я свободен от каких бы то ни было принципов. А полная свобода, на мой взгляд, как раз и предполагает идейное непостоянство. Сегодня я могу думать так, завтра иначе, а послезавтра вообще могу забыть обо всем, что тревожило меня ранее. Потому что от дум моих ничего не меняется. Думы мои легки и оттого горьки. Из под моей руки – буковки, завитки.
Я никогда не рассуждал о жизни серьёзно. Серьёзная жизнь не для меня. Когда я пробую рассуждать о своей жизни всерьёз – мне всегда хочется плакать. Ибо суверенность моего существования достигается как раз за счет отсутствия ясной перспективы. Четкие очертания будущего навевают на меня тоску. У какого-то писателя я выудил фразу о том, что достижимые вещи обычно губят самое богатое воображение. На первый взгляд эта мысль может показаться нелепой. Но это не так. Подумайте сами, что раньше времени приземляет нашу высоко парящую душу? Забота о деньгах. А что дают нам деньги? Еду. Всего лишь еду. А мы, порой, тратим на это целую жизнь. Значит, мы свою жизнь проедаем. Мы проедаем вечность, славу, признание, мечту.
Опомнитесь турки и русские, немцы и англичане. Давайте не будем проедать жизнь. Не к этому ли призывали нас Роберт Бернс и Анри де Ренье, Уильям Фолкнер и Фенимор Купер. Пусть в нашу жизнь хотя бы иногда заглядывает слава. Такая эфемерная и такая желанная.
Не буду скрывать, ко мне однажды она приблизилась. Во всяком случае, я видел её очертания, (трость и шляпу) достаточно близко. Она шла ко мне по широкой литературной дороге, но вдруг оступилась и стала прихрамывать. Наверное, ей было больно. Хотя потом стало больно мне. Тогда мои рассказы ожидали публикации в одном престижном московском журнале. Их хвалили, обещали в скором времени напечатать, но в последний момент отменили публикацию. Мне было тридцать два года. Я работал в котельной. На моих плечах был серый ватник, на ногах – кирзовые сапоги. Моим лучшим другом был Вася Рашпиль. Но мне было тридцать два, и я очень любил искусство, поэтому ничего дурного вокруг себя не замечал.
Вася Рашпиль говорил мне:
– Зачем ты пишешь эту муть? Купи мне бутылку водки, выпьем, и я тебе такое расскажу – хватит на целый роман.
– Опять про тюрьму? О том, как ты человека убил? – переспрашивал я.
– А чем тебе тюрьма не травится? – удивлялся Вася. – Я там полжизни провел. И ничего, как видишь. В тюрьме умных людей больше, чем на свободе. Это факт.
Я никогда не жалел об утерянной славе. Зачем жалеть о том, чего не случилось. Ведь искусство всегда скрывает от человека истину. И только страдания человека, сходящего с ума, обнажают её во всей полноте. Кажется, я вновь процитировал чьи-то слова. А может и не процитировал. Я именно так и думаю. Может быть это случайная ассоциация, странное сочетание слов, способное родить в душе нечто суверенное, присущее только мне.
Я сижу на диване напротив окна. За окном роза. Она цветет, но я опытным взглядом вижу на ней не зелёные нежные листья, не кровавые бутоны, а темные ветви и шипы. Потому что по сути своей роза – растение коварное. Она – олицетворение скрытой угрозы. Главное предназначение розы – соблазнить и поранить. Уколоть.
Роза чем-то напоминает мне юную женщину. Манит, но ничего кроме ссадин и ран подарить не может. Юная женщина способна подарить только мученья.
Вообще, любая красота обманчива и мучительна. Соблазненные красотой очень редко обретают счастье. Чаще – разочарование. Депрессию. Боль.
Обиженные красотой турки, французы и англичане. Не дарите женщинам роз. Женщины и без шипов способны поранить. Они поранят словами, мимикой, молчанием. Они уколют своим недовольством, своей неудовлетворенностью, способностью обмануть, изменить, унизить.
Я никогда не говорил женщинам гадости. Но, боже мой, сколько этих слов скопилось в моей душе. Залежи. Россыпи. Горы. Но я никогда не скажу об этом ни одной юной женщине. Потому что люблю юных женщин. Я люблю смотреть им в глаза, держать их за руки, слушать, как они говорят. И порой мне даже неважно, о чем идет разговор. Лишь бы её рука была в моей. Потому что руки женщины всегда говорят больше, чем её слова. Голос обманет, тепло руки – нет. Глаза сузятся и солгут, безвольная рука – скажет правду. Руки женщины – как розы без шипов.
Бабушка
Моя бабушка была долгожительница. Она жила так долго, что в последние годы плохо понимала, для чего вообще живут на земле люди. Ночью она крепко спала, днем ела только черный хлеб, запивая его теплым козьим молоком, а после обеда непременно выходила погулять по саду. Во время этих прогулок бабушка полушепотом читала молитвы, обращаясь то к Богу, то к святым старцам, то к блаженной Матроне Московской. Причем, для прогулок по саду зимой она надевала на себя очень старую норковую шубу, богато поеденную молью и соболью шапку, в некоторых местах напоминающую вытертое хромовое голенище. На ногах у неё в это время были древние валенки огромного размера.
Однажды ко мне заглянул мой старый школьный товарищ, с которым я не виделся много лет. Он прошел по саду мимо бабашки, которая замерла на одной из гряд с посохом в руке. Потом вошел в дом и сказал:
– Зима уже, а вы из огорода пугало не убрали.
Я сразу понял, о чем идет речь. Подозвал его к окну и ответил:
– Спорим, что это пугало сейчас домой зайдет.
Друг с недоумением посмотрел на меня, потом – в окно и удивленно вытянул подбородок. Темное пугало в это время было уже под окном. Причем оно довольно шустро передвигалось.
– Это человек? – удивился мой товарищ.
– Это моя бабушка, – с гордостью ответил я.
– А сколько ей лет? – поинтересовался школьный товарищ, когда пришел в себя и широко улыбнулся.
– Девяносто три.
Моя бабушка дожила до глубокой старости, потому что всегда питалась только свежими продуктами. Следуя этому правилу, летом она часто уходила в лес собирать первую землянику, потом – чернику и малину… Однажды, собирая ягоды в лесу, она встретила медведя. Видимо он тоже привык питаться свежими ягодами, но встрече с бабушкой почему-то не обрадовался. Медведь увидел её и зарычал издалека, а так как бабушка слышала плохо, она решила, что кто-то её зовет, и поспешила на крик.
Медведь поднялся на задние лапы, чтобы её напугать. Он не знал, что бабушка только что сняла очки, чтобы глаза отдохнули, а зрение у бабушки было плохое. Бабка увидела перед собой что-то большое и темное, обликом напоминающее человека и решила, что встретила в лесу охотника. А раз встретила человека, то обратилась к нему с вопросом.
– Не подскажите, молодой человек, где тут ягодки покрупнее?
Медведь понял, что его совсем не боятся, опустился на четвереньки и дал деру. Только сухие ветки затрещали у него под лапами.
– Ну вот, никто не хочет со старухой разговаривать, – посетовала бабушка, проводив глазами мутную тень. Вздохнула с сожалением и пошла дальше.
Зимой бабушка жила у нас в районном городке, а летом уезжала отдыхать от городской суеты в далекую, не существующую ныне деревню Медведково, где от всей деревни в то время оставался только один бабушкин дом в шесть окон по фасаду. Там бабушка жила одна всё лето и ничего не боялась.
И вот однажды какой-то смекалистый мужик решил бабушкин дом ограбить. Забрать из него добротную входную дверь вместе с дверными косяками. Он видимо не ожидал, что в доме, который всю зиму пустовал, к лету кто-то может появиться.
Мужик подъехал к дому на грузовой машине, взял топор и стал бесцеремонно выламывать добротные дверные косяки. Бабушка проснулась от страшного шума и скрежета, обнаружила грабителя за дверью, и закричала что есть мочи:
– Колька, Ленька вставайте! Нас грабят!
Мужик за дверью от испугу едва в обморок не упал. Топор из рук выронил, а потом к машине бросился как очумелый. Добежал, запрыгнул в кабину, а завести двигатель не может. Торопится, на бабушкин дом глядит обезумевшими от страха глазами… Кое-как завел машину и укатил восвояси. А бабушка после этого случая быстро успокоилась и благополучно прожила в опустевшей деревне до осени.
Несмотря на плохое зрение, моя бабушка очень любила шить. У неё была очень старая швейная машины фирмы «Зингер». На этой машине она шила жилетки и телогрейки разного цвета и покроя, теплые рукавицы и наволочки для подушек. Я до сих пор помню её маленькую сгорбленную фигурку у окна, как она сидит с огромными колесиками очков на носу и крутит ручку швейной машины. А машина мерно шумит и щелкает.
У бабушки до старости была хорошая фигура. Она, что называется, умела держать форму. Когда она проходила мимо местных мужиков в свои семьдесят пять лет, понимающие мужики делали удивленные физиономии и одобрительно кивали головами, как бы говоря: «Старушка-то ещё хоть куда».
А какие у моей бабушки были волосы! На первый взгляд они казались русыми, но при этом обладали каким-то редкостным золотистым отливом. Как будто Бог хотел сделать бабушкины волосы рыжими, но в последний момент передумал и оставил всё как есть. Когда в солнечный день возле окна бабушка их расчесывала – они так блестели, так отсвечивали на сгибах, что слепили глаза. А ещё я помню, какими эти волосы были послушными. Они, то сплетались в тяжелую косу, то собирались в тугой узел, то покорно лежали на покатых бабушкиных плечах, то сбегали ниже пояса легким волнистым потопом. В общем, мою бабушку можно было полюбить только за эти волосы, за чистую матовую кожу и зеленоватые глаза.
Бабушка никогда не ела свинины, не любила работать руками и много читала. Она читала Гоголя и Тургенева, Марселя Пруста и Виржинию Вульф, Нэнси Като и Маргарет Митчелл. За этими книгами она ходила в центральную библиотеку на улицу Мориса Тореза, которая располагалась на другом конце города. Придя из библиотеки, она долго пила чай и говорила, что ничего хорошего в этой библиотеке нет. Нет Зинаиды Гиппиус, нет Марины Цветаевой, нет Мандельштама.
Её отец до революции держал в Красновятске два магазина и красильню. У него был огромный кирпичный дом в два этажа, а в нем – хорошая домашняя библиотека. Где-то в Вятке у моей бабушки жили дальние родственники – владельцы сети аптек. Это были обрусевшие евреи из Польши.
О жизни бабушки я знаю ровно столько, сколько успела рассказать о ней моя мама. Сама бабушка никогда ничего о себе не рассказывала. Только иногда в её разговоре вдруг проскакивало упоминание о дяде Никоне и дяде Якове, которые сгинули на Соловках в тридцать восьмом. Да однажды она показала мне небольшую синюю тетрадь со стихами, которые она написала, когда училась в гимназии. Но прочитать свои стихи не дала. Сказала, что это очень личное… А потом эта тетрадь куда-то исчезла, и больше уже никогда не появилась. Только однажды мой старший брат, спустившись с чердака, показал мне какой-то пожелтевший листок из ученической тетради, на котором красивым бабушкиным почерком были написаны следующие строки:
Есть в кружеве лиственной тени
Гармония хитросплетений.
Есть в желтой полоске рассвета
Восторг долгожданного лета.
Есть в жестах безвыходность чувства,
Есть в чувствах – оттенок искусства,
А в том, что вы долго молчали —
Есть признак душевной печали…
Это были её стихи, или ею откуда-то переписанные, я не знаю. Я не считаю себя знатоком русской поэзии, но что-то в этих строках меня задело. В молодости бабушка была очень красивой и вполне могла написать что-то подобное. Вероятно, у неё было много поклонников.
Когда к нам приходили соседи поговорить о житейских делах, бабушка не умела долго поддерживать с ними разговор. Она вдруг начинала говорить о литературе или живописи, да ещё таким красивым, таким образным языком, что соседи удивленно умолкали и не знали, что сказать в ответ. А когда бабушка, наконец, понимала, что они не знают, кто такие Марсель Прус и Уильям Фолкнер – она теряла к ним всякий интерес. Она не понимала, как это можно, прожить всю жизнь и ни разу не взять в руки роман Марселя Пруста «На пути к Сванам». Неужели можно довольствоваться произведениями этого странного старика Толстого или больного на голову Достоевского, который как мог исказил представление о русском человеке, сделав своих героев существами без логики, нравственности и здравого смысла.
Однажды бабашка увидела, как я утром поднимаю для физзарядки пудовую гирю. Мне было тогда лет тринадцать или чуть больше. Бабушка с испуганным лицом подошла ко мне и повелительным голосом потребовала:
– Брось сейчас же эту железяку! Брось, я тебе говорю!
– Почему? – спросил я отдышавшись.
– Ты испортишь себе позвоночник. А он тебе ещё пригодится.
– Но это спорт, бабушка.
– Это не спорт, – строго возразила бабушка. – И вообще, поднятие тяжестей – это не твое дело. Голову тренируй, а не руки. Пусть другие будут самыми сильными, а ты у меня стань самым умным.
Помню ещё, что бабушка очень любила спать зимой на улице. Она надевала на себя меховую жилетку, потом норковую шубу до пят, богато поеденную молью, лысую соболью шапку, валенки гигантского размера и выходила на веранду, где у неё был лежак, в виде кожаного кресла с очень пологой спинкой. Она устраивалась на нем поудобнее и как-то непривычно быстро засыпала.
А однажды бабушка устроилась отдохнуть прямо на улице, в свежей копне сена, которую наши соседи ещё не перекидали на сарай…
Бабушка видимо забылась и проспала там до утра, хотя на улице был мороз под двадцать градусов.
Мать встала утром с постели, заглянула в бабушкину комнату и не обнаружила её на привычном месте. Вспомнила, что прошлым вечером не дождалась бабушкиного возвращения с улицы. Испугалась, – в чем была – выбежала на улицу. А там снег идет крупными хлопьями. Всё замело так, что бабашку под снегом почти не видно.
Мать добежала до злополучной копны. Испуганно стала разгребать снег руками, боясь, что найдет бабушку уже мертвой…
– Ты чего? – удивилась бабушка, когда мать откопала её.
– Я думала, ты замерзла.
– С какой стати, – ответила бабушка и проворно поднялась на ноги. Снег при этом слетел с неё как белое покрывало.
Потом мать восхищенно рассказывала всем соседям, что после ночи в снегу бабушка даже ни разу не чихнула, и не прекратила спать на улице.
Из бабушкиного дома в наш дом переехал громоздкий, должно быть очень породистый комод с резными дверцами и точеными ножками. Потом – конторка, крытая зелёным сукном и отделанная по краям мореным дубом. Потом – бельевой шкаф с резным барельефом по передней стенке. Потом – целый чемодан серебряных царских рублей, который мы с отцом постоянно перепрятывали, пока не запрятали так надежно, что не смогли больше найти. После чего отец, отсидевший несколько лет в сталинском Гулаге, сказал:
– Ну и ладно. Меньше переживаний. Всё равно эти деньги никуда не пристроить в наше время.
Мой прадед очень любил свою дочь и хотел выдать её замуж за богатого человека. Но достойного и образованного жениха всё никак не находилось. Сватались какие-то безграмотные прощелыги, казначеи да приказчики. Даже молодой мельник приходил. А прадеду надо было человека серьёзного, образованного. Юриста, инженера или доктора на худой конец.
Так улыбнулась судьба моему деду Степану. Он после демобилизации из царской армии стал настоящим земским доктором. Дополнительно отучился в Казани на провизора, чтобы самому микстуры составлять. Стал лечить зубы, роды принимать, спины править.
Когда мой дед и бабка поженились, прадед сказал:
– Ну вот, теперь мне можно и помирать.
И действительно умер совсем незадолго до революции. То есть как бы вполне своевременно, так как большевики с такими как мой прадед долго не церемонились.
Потом погиб дед в сталинских лагерях, а бабушка дожила до наших дней и была в здравом рассудке до последних дней… Я до сих пор ищу и не могу найти её синю тетрадь со стихами, её чемодан с серебряными монетами. А ещё я ищу её фотографию, где она запечатлена молодой. Мама говорила, что портрет бабушки был спрятан где-то на чердаке вместе с семейным портретом последнего царя. Сейчас мне кажется, что это символично.