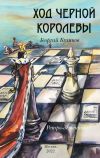Текст книги "Вопреки всему"

Автор книги: Валерий Поволяев
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Была бы его воля, ефрейтор вообще не рыл бы для фрицев могилы, но ведь если не вырыть им ничего, они протухнут, завоняют так, что бежать отсюда придется… Километра за три, а то и того больше – четыре или пять.
– Куликов Василий Павлович, – повторил старый солдат, прищурил один глаз. – Хорошо воевал Василий Павлович, толково, раз бруствер для пулемета сумел соорудить из битых фрицев. – Он не выдержал, усмехнулся: – Бруствер из «Хайль Гитлеров!».
Пулемет Куликова был перевернут, щиток погнут, механизм забит глиной – оружейники, наверное, и восстановить машинку уже не смогут.
– Ты чего, Семеныч, застыл, – спросил подошедший к ефрейтору второй солдат, такой же старый, с седыми висками и морщинистым лицом, – покойником любуешься?
– Любуюсь, – ответил Семеныч неожиданно дрогнувшим голосом. – Если бы все воевали, как этот покойник, мы бы давно загнали фрицев назад в Берлин. Видишь, сколько немцев он положил? И все ведь орали «Хайль Гитлер!». А сейчас уже не орут. И орать никогда не будут. Капут всем воплям.
В знак уважения к покойному пулеметчику похоронщики ему даже гроб отыскали – в порядке исключения, поскольку убитых они в лучшем случае заворачивали в плащ-палатку – длинный прочный ящик из-под дальнобойного снаряда.
Подхватили Куликова за ноги, за руки, попробовали уложить в ящик – не влез в него пулеметчик, не проходил по длине, попытались подогнуть ему конечности, втиснуть в гроб – не получилось. Почесав затылки, старики призвали на помощь молодого, старшего среди них – сержанта с жестким лицом, располосованным длинным глянцевым шрамом – такой след оставил ему на память осколок.
Сержант посмотрел на тело пулеметчика, поприкидывал что-то про себя и сказал:
– Он влезет в ящик, обязательно влезет, надо только поднажать немного.
Сержант хоть и перенес тяжелое ранение, и лицо его украшал приметный боевой шрам, а был молодой, силы в нем еще остались, он встал на тело пулеметчика, надавил всем своим весом, и Куликов вместился в снарядный ящик, вошел целиком… Но правую ногу сержант ему все-таки сломал.
Так что отправился Куликов в свою могилу поломанным.
Старики постарались, вырыли ему отдельную могилу, – мелкую, правда, – в нее воткнули временную рогульку, чтобы люди знали: здесь лежит достойный человек, на дощечке начертали: «Пулеметчик Василий Куликов. Погиб 14 марта 1943 года». Над могилой соорудили небольшой холмик, перекрестили его и передвинулись дальше – надо было еще кое-кого зарыть в землю.
На прощание ефрейтор оглянулся, поправил шапку, косо сидевшую на голове, и сказал:
– По этой рогулине с дощечкой пулеметчика и найдут. И памятник ему поставят. Не такой, как наша рогулька, а серьезный.
Махнул рукой, вздохнул.
Поникло небо, сделалось темным, тяжелым, криво прогнулось над землей. Было тихо, даже орудийных ударов не слышно – откатился фронт к древнему русскому городу.
Откуда-то появились птицы, которых никак не должно было быть здесь, – четыре тонконогих синицы с тенькающими звонкими голосами, уселись на ветки кустов, которые окаймляли проходившую недалеко от высотки проселочную дорогу. Напились воды из лужи, потом переместились к роготулине ближе – любопытно стало, что за растение новое тут выросло… Теньканье их смолкло, словно бы легкокрылые птицы эти столкнулись с тяжелым горем и были им оглушены.
День весенний хоть и длиннее, наполненнее дня зимнего, а все же сильно уступает дню летнему, особенно июня месяца, радующего все живое светом и теплом, вечер четырнадцатого марта наступил очень быстро, сопровождали его жидкие перестрелки, отдельные винтовочные хлопки, но очень скоро вся эта несерьезная трескотня стихла.
Что-то замерло в природе, все живое угомонилось, а мертвое – тем более. В этой тиши, способной в одинаковой степени рождать и тревогу, и спокойствие, несколько девушек – медиков среднего звена – возвращались к себе в санбат. Дорога огибала высоту, которую совсем недавно занимала рота Бекетова, и втягивалась в прозрачный покоробленный лесок, устало успокоившийся в тиши.
Верховодила в группе старший сержант Головлева, она была вроде бы как командир отделения и могла выстроить девушек «во фрунт», имелись у нее такие полномочия, но Маша Головлева ими никогда не пользовалась.
В группе находилась и ее подружка и напарница Клава, хоть и поникшая от усталости, но тем не менее пытавшаяся в такт шагам завести какую-нибудь бодрящую песню. Ведь если не бодриться, то можно вообще согнуться в сухой калач.
У высотки Маша повела головой в сторону воронок, оставленных у подножия танковыми снарядами.
– Здесь наши воевали. Вася-пулеметчик…
– Он сейчас, наверное, Смоленск в бинокль разглядывает. Надежный мужик. Какой-то бабе очень сильно повезет с ним.
– Для начала надо выжить, Клава, – назидательно произнесла Маша, – всем нам… А пока не выживем, не одолеем войну, говорить о чем-то – грех.
– Уж больно ты строга, как я погляжу, – строчкой наполовину стихотворной, классической, знакомой по школе, проговорила Клава.
Маша не выдержала, рассмеялась – нравился ей этот весенний вечер, очень похожий на дивные вечера довоенной поры, нравилось, что в небе не скрипят противно, как большие кожаные чемоданы, крупнокалиберные немецкие снаряды, имеющие способность неурочно возникать в воздухе; кстати, солдаты наши их так, чемоданами, и называют, – довольно пренебрежительно, не свистят пули, вместо них очень нежно подбадривающе посвистывают синицы…
– Девчонки, вы идите, не торопясь, а я кое-куда загляну, – сказала Маша.
– Это куда же «кое-куда»? – спросила самая языкастая в группе санинструкторов младший сержант Дронова, Машина тезка и землячка.
– Много будешь знать – скоро состаришься.
Маша свернула к кустам краснотала, на ветках которого начали проклевываться маленькие твердые почки, присела у небольшого невзрачного холмика и через несколько мгновений услышала идущий из-под земли звук, похожий и одновременно не похожий на человеческий голос… Может быть, даже больше похожий на стон. Насторожилась, стараясь понять, откуда он идет.
Через полминуты звук вновь донесся до нее, сдавленный, мучительно короткий, принадлежащий явно умирающему человеку. Только сейчас она поняла, что присела у солдатской могилы. Оглянулась, разглядела темную покоробленную фанерку с начертанной на ней надписью.
Мгновенно вскинулась над холмиком и закричала что было силы:
– Девчонки, немедленно ко мне! – подумала, что они ее могут не услышать, а раз так, то придется стрелять, чтобы привлечь внимание, а с другой стороны – вдруг и не придется, и Маша закричала вновь: – Девчонки, сюда! Сюда-а…
Стрелять из табельного пистолета не пришлось, подружки услышали ее голос, развернулись и бегом понеслись к своей старшей, только брызги воды и грязи из-под сапог полетели.
– Чего у тебя стряслось, Маш?
Маша, глотая слезы, тыкала рукой в слепую фанерку, привязанную проволокой к неказистой рогулине… Не тот памятник был поставлен герою войны, совсем не тот.
– Вы посмотрите, девчонки, посмотрите, – давясь словами, наконец сумела выговорить Маша, помотала неверяще головой.
– А чего смотреть-то? Могила… Обычная солдатская могила.
– Там Вася-пулеметчик. Он – живой… Стонет.
Галдеж мгновенно утих. Стало слышно озабоченное теньканье синиц, птицы словно бы хотели что-то сообщить людям, обратить внимание на холмик, которого не должно было бы быть, но люди не слышали, не понимали их…
В теньканье врезался глубокий, слабый, но все-таки отчетливый стон. Не сговариваясь, девушки бросились раскапывать могилу, отмеченную рогатиной с привязанной к ней темной фанеркой.
– Быстрее, быстрее! – торопила девушек Маша. – Пока он живой, надо успеть вытащить… Быстрее! Не то не успеем.
Хорошо, что старичье из похоронной команды вырыли мелкую могилу, сил на глубокую яму не хватило, это и спасло Куликова, очень скоро девушки доскреблись до крышки снарядного ящика, сковырнули ее и выволокли пулеметчика наружу.
У ящика этого даже имелась железная застежка, умельцы на снарядном заводе постарались, не будь этой застежки, Куликов, придя в себя, мог бы, наверное, выбраться из примитивного гроба и сам… Так, во всяком случае, показалась Маше Головлевой. Из глаз у нее продолжали течь слезы. Вот бабы, слабенький народ…
Что еще плохо было – могила наполнилась просочившейся откуда-то сбоку водой, одежда пулеметчика впитала ее в себя, особенно много вобрала подаренная командиром взвода телогрейка, и это было опасно – Куликов мог переохладиться и погибнуть от этого раньше, чем за него возьмутся врачи.
Воздух начал сереть, в нем появились странные подвижные тени, они то возникали, то пропадали, перемещались с места на место, тяжелое обмякшее тело Куликова девушки перевязали и на себе потащили в санбат.
Сюда бы кого-нибудь из дюжих мужиков, санитаров с носилками, – дело бы пошло веселее, но санитаров не было, оставлять раненого, а самим мчаться за подмогой было нельзя, надо тянуть его и тянуть, выдыхаясь, выворачиваясь наизнанку, изо всех сил – другого не дано.
И девушки тянули его, выносили как с поля боя, когда главное – дотащить хрипящего солдата до хирурга, все выдюжить, побороть в себе слабость и боль, и дотащить. Сделать все, чтобы спасти человека, защищающего Родину.
Порог санбата они переступили уже в темноте, плотной и едкой, как чернила, – спасли Куликова.
Пулеметчику повезло еще и в другом – девушки не бросили его и в самом медсанбате. Вид у Куликова был страшен – глотка пробита, из нее с пузырящимся сипением вылетает окрашенный в сукровицу воздух, один глаз залит кровью и не открывается, видна голая височная кость, с которой осколок содрал кожу вместе с мясом, из живота вот-вот поползут вздувшиеся кишки.
Попал он в руки молодому, но какому-то очень уж спесивому врачу, лишь недавно появившемуся в части, этот выдающийся медик посмотрел на пулеметчика и молвил довольно равнодушно:
– Немцы накормили его по самую затычку, врачи уже не смогут ничем помочь… Чего вы хотите?
Капризный доктор извлек из кармана пачку «Беломора», вытряхнул из нее одну папиросу и сунул в губы. Маша не выдержала и ловким точным движением выбила у него папироску изо рта.
– Товарищ лейтенант медицинской службы… – проговорила она высоким срывающимся голосом и умолкла, к ней присоединилась группа, которая помогала притащить Куликова сюда, голоса у всех были звонкими, требовательными, девушки буквально полезли на врача в драку, заставили его вернуться в операционный отсек и взяться за Васю-пулеметчика: – Никаких перекуров!
Врач, человек городской, московский, издали чувствующий опасность, тут же поджал хвост и сделался покладистым, а поскольку медиком он оказался талантливым, плюс ко всему – постарался, то операция ему удалась. Фамилия врача была Крымский.
На Куликове места живого не было. Из пробоя в глотке продолжала течь пузырящаяся кровь, дырку эту просто-напросто заткнули обычной пробкой от винной бутылки, другого материала под руками не оказалось, в нос вставили небольшой резиновый шланг и раненого, совсем уже ослабшего после операции, решили немного подкормить.
Еда у него была теперь только одна – жидкая глюкоза. Глюкоза на первое, второе и третье, и даже на четвертое блюдо, если таковое существует. А что, существует, наверное. Десерт. Или что-нибудь еще в таком же сладком духе.
Через пару дней пулеметчика начали кормить целебным отваром. Варили специально травы, отстаивали, охлаждали и через воронку заливали в горло. Как в бензобак захандрившего автомобиля.
Кишки, по которым полоснул осколок мины, вздувшиеся, замусоренные, с прилипшими к ним крошками земли, хорошенько промытые во время операции, – этим занималась сама Маша Головлева, лично, – поначалу болели, рождали сильную тошноту, изжогу, боль, – что-то в нутре пулеметчика было потеряно, но потом организм с потерей свыкся и Куликову сделалось легче.
Ободранный до кости череп тоже начал заживать, не бил уже обжигающим током, как раньше, когда хозяин прикасался к нему пальцами, – и тут все приходило в надлежащий порядок.
Нога, которую мастера похоронных дел, оказавшиеся в общем-то мужичками дюжими, сломали, пока втискивали пулеметчика в снарядный ящик, тоже начала успешно срастаться. Хотя болела, зар-раза, больше всего на свете, даже больше простуженных зубов. А резкую ошпаривающую боль, которой пулеметчика награждали дырявые зубы, он, кажется, запомнил на всю оставшуюся жизнь. Если, конечно, ему суждено будет еще немного пожить.
Но как понял Куликов, еще немного ему все-таки пожить удастся. Вот только как долго он будет коптить воздух, пока неведомо. И узнать это не у кого.
Просеченная рука тоже болела, соревновалась в боли с ногой, но через некоторое время и она начала потихоньку успокаиваться, а затем и чесаться. Это был хороший признак – рука чешется. Значит – заживает.
Впрочем, случались и минуты, когда храбрый пулеметчик покрывался нервной дрожью от страха. Однажды такое было во время перевязки, которую делала молоденькая медсестра, еще только набирающаяся опыта, – в присутствии доктора Крымского.
Крымский лично бросил в ведро снятый бинт, и раненый с ужасом обнаружил, что весь живот у него забит жирными белыми червями.
В глазах у Куликова сделалось темно: это что же, он заживо начинает гнить, его уже съедают черви? От такого открытия темно сделается не только в глазах. Чуть ли не теряя сознание, он ухватил Крымского за рукав халата.
– Доктор, откуда в ране червяки взялись? Это что, мне уже в могилу пора?
– Нет-нет, что вы, – обескураженно зачастил, быстро выдавливая изо рта слова, доктор. – Это хорошие черви, полезные, не бойтесь их. Они обирают с раны гнилые ткани, снимают гной, чистят… Очень нужные червяки.
Поначалу Куликов не поверил ему, насторожился: «Успокаивает меня, боится, как бы я в обморок, как балетная фрикля, не грохнулся», – но потом отошел, поверил, что черви эти толстые – действительно штука нужная.
Маша Головлева не оставляла его, продолжала опекать, человек опытный, уже многое повидавший на фронте, она понимала, что в полевых условиях Куликова не вылечить, а вот покалечить можно, и настояла, чтобы пулеметчика отправили в тыловой госпиталь.
С временного полевого аэродрома за перевязочным материалом и лекарствами уходил старенький ободранный самолет У-2, из разряда тех, который уже даже почту не возил, мог развалиться в воздухе, управлял им пилот молодой и очень лихой, который мог летать даже на венике, побывавшем в бане, швабре со сломанным черенком и детском коне с длинной палкой, Маша на этот самолет Куликова и пристроила…
Самолет уходил в Калугу – город, в котором в ту пору находились все медицинские светила Западного фронта и было развернуто несколько больших госпиталей. Там Куликова могли окончательно поставить на ноги, тем более, у хирурга Крымского возникло подозрение, что у подопечного ранбольного произошло смещение сердца. Определить это можно было только на качественной рентгеновской аппаратуре. В калужских госпиталях такая аппаратура имелась.
Полет оказался тяжелым, но пулеметчик выдюжил, долетел – в конце концов, в окопах он в более серьезных передрягах бывал, перенес такое, что многим фронтовикам и не снилось.
Куликову повезло и на этот раз – его принял главный хирург Западного фронта, седой сердечный человек, способный в несколько мигов вызывать симпатию, – с генеральскими звездами на погонах, медицинский академик… Он немедленно определил Куликова на больничную койку. Хотя поначалу выдал начальнику госпиталя особое, как он выразился, распоряжение:
– Но для начала положите на часок, максимум на полтора в коридор – он же замерз в самолете, надо, чтобы температура тела поднялась, сравнялась с температурой госпитальных помещений, потом – в палату на полчасика, затем – ко мне на операционный стол.
На операционном столе академик кое-чего поправил в ослабшем организме, – а что именно, пулеметчик и сам не понял, только вот чувствовать себя он стал лучше.
Из Калуги нашего героя отправили в Гусь-Хрустальный долечиваться. Раньше город этот, славящийся на всю Россию знатной посудой, способной рождать волшебные мелодии, входил в состав родной для пулеметчика Ивановской губернии (это сейчас он принадлежит – административно – Владимирской области), и Куликову полегчало еще больше: ведь он на родину попал, Гусь-Хрустальный – своя земля, ивановская.
Поскольку время свободное для разных размышлений имелось, Куликов стал прикидывать, удастся побывать дома, в родном, незабвенном своем Башеве, или нет? При мысли о деревне у него внутри неожиданно возникал холод, подкатывала тоска, и он не понимал, в чем дело. Должно быть совсем наоборот: тепло, легко, в ушах должны звучать песни, а вместо этого на душе поскрипывают, трутся друг о дружку какие-то промороженные деревяшки…
Писать раненой рукой он пока не мог, а то написал бы домой, матери, рассказал бы о себе, успокоил бы Феодосию Васильевну…
Не знал он, не ведал, что такое письмо было бы очень кстати: служба похоронных команд, найдя в медальоне его деревенский адрес, отправила в Башево свое послание, расставила все точки – так, мол, и так, дорогие родители, ваш сын погиб смертью храбрых в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и похоронен в двенадцати километрах от Смоленска в юго-восточном направлении в индивидуальной могиле. Находится могила рядом с высотой номер такой-то, где воевала рота героя…
Мать, прочитав это страшное извещение, полтора часа пролежала без сознания, соседи еле отлили ее водой. Потому так холодно и делалось внутри у Куликова, когда он думал о доме, – душа его ощущала обстановку, царившую в Башеве, чувствовала материнскую боль… А ведь боль эта бывает в десяток раз сильнее боли, рожденной пулей, воткнувшейся в живое тело.
Надо заметить, что похоронка, полученная в деревне, впоследствии сыграла не самую добрую роль в его судьбе, ему пришлось немало помаяться, чтобы доказать районным чиновникам: он не умер, он – живой и как всякий живой человек вправе иметь в кармане паспорт, воинский билет, колхозную книжку, бумаги о своем крестьянском происхождении, пользоваться всем этим и особо не гнуть спину перед чиновным людом… Но об этом позже.
В Гусь-Хрустальном он окончательно пришел в себя, научился заново мыслить, писать, любить друзей, соображать по хозяйственной части и вообще быть толковым, нужным обществу человеком.
А первое, самое первое письмо после тяжелого ранения он, с большим трудом одолевая не только строчки, но и отдельные слова, буквы, сочинил и отправил в родную часть – боялся отстать от своего батальона. Это было бы для него большой бедой. Куликов просил, чтобы из части отправили нужную бумагу, затребовали его к себе.
За окном уже стояло широкое лето, самая золотая его пора, с ласковыми громами, веселыми дождями и смеющимся солнцем – середина июля. В письме он на всякий случай сообщал свое имя и фамилию, а также окопное прозвище – «Вася-пулеметчик». Заодно он довольно ехидно поддел своих однополчан: «Спасибо за похороны, которые мне были устроены, но я выжил… Извините за это».
Полдня, наверное, потратил на это небольшое письмо – раненая рука работала плохо, пальцы не сгибались, а согнувшись, не распрямлялись, обливался потом, но от бумаги не отступил, одолел ее.
Ответ прислал лично Бекетов, он в смоленской молотилке уцелел, получил за те бои орден и повышение в звании, стал капитаном – в должности его не повысили, а вот в звании повысили. Письмо Куликов сочинил вовремя, поскольку командующий фронтом генерал Черняховский разработал большую операцию по освобождению Белоруссии от немецких сапог, и в армии началось активное перемещение частей. Бекетов не только ответил пулеметчику, не только отправил запрос в госпиталь, но и попросил, чтобы отважному солдату дали десять дней отдыха для окончательной поправки здоровья.
Вполне возможно, что капитан чувствовал себя виноватым и держал в голове мысль, что допущенную ошибку надо бы исправить, послать пулеметчика после похоронки домой – пусть покажется в деревне, слезы матери утрет, в сельсовет сходит, объяснит, что походная армейская канцелярия допустила ошибку, выдав живого солдата за мертвого, а он – живой, живо-ой… И еще повоюет, вот так вот. Обязательно повоюет, в этом капитан Бекетов был уверен твердо.
Госпиталь снабдил Куликова солидной отпускной бумагой, украшенной двумя подписями и синей печатью, чтобы по дороге к нему не цеплялись патрули и особисты, у которых глаз на нарушителей натренирован остро, они умеют срезать подметки у нарушителей прямо в воздухе, еще до того, как они что-то нарушили, и прямиком отправлять в каталажку-предвариловку.
Добирался Куликов до деревни на перекладных, несколько раз его останавливали патрули, но бумага с двумя командирскими подписями и синей печатью действовала безотказно, патрули брали под козырек и желали пулеметчику доброй дороги.
Последние три километра до деревни он шел пешком, помогая себе клюшкой, вырезанной в кущах госпитального парка, часто останавливался, переводил дыхание, вытирал лицо рукавом гимнастерки. Неведомо, что вытирал – то ли пот, то ли слезы, то ли еще что-то, очень горькое, обжигающее губы и рот.
Отмечал с печальным чувством, что земля родная обихожена лишь наполовину, понимал хорошо, в чем дело – пахать, копать, боронить поля здешние, не самые богатые, камешником замусоренные, глиной сильно разбавленные, – занятие совсем не женское, да и на обработку их ни техники нет, ни сил. Обрабатывают землю бабы, да еще пацанье, находящееся около них, под прикрытием юбки, чтобы собаки деревенские не обидели, и обрабатывают, как понимал Куликов, на коровах. Лошадей в деревне нет, не оставили ни одной – всех лошадок, как и мужиков, забрали в армию, на фронт.
И если в Башеве есть солдаты, списанные по ранению, то пользы от них никакой, они либо без ног, либо без рук, либо вообще без внутренностей: все врачи в госпиталях выхолостили…
Не замеченный никем, хотя странное дело, в деревнях всегда все замечают, – Куликов подошел к своему дому, увидел во дворе сгорбленную седую старушку, безуспешно пытавшуюся топором расколоть ощетинившуюся короткими неприятными сучками чурку, и не сразу понял, что это мать, мама, а когда понял, то прошептал скорбно и тихо:
– Мама!
Хоть и тих был его шепот, – не шепот, а шелест, движение воздуха в воздухе, – а мать услышала, точнее, почувствовала, что рядом находится ее сын, откинула топор в сторону и выпрямилась.
Она видела и одновременно не видела сына, солдат с костылем в руке и с мешком за спиной быстро расплылся в слезном тумане, уже и не различить его, только что был солдат – и не стало служивого. Мать издала раненый горловой вскрик и медленно начала оседать на землю. Куликов кинулся к ней, подхватил, удерживая на весу, подивился, какое у матери легкое тело.
– Мам, ты чего? – прошептал неожиданно обиженно. – Ма-ам! – воскликнул он, как в детстве, отметил про себя собственную беспомощность, – фронт научил его запоминать все, что попадается на глаза, всякую деталь, и прогонять через самого себя, через собственный фильтр, а потом уж действовать. – Ма-ам! – громко, едва ли не во весь голос завопил он.
От этого отчаянного вскрика, всколыхнувшего воздух, мать очнулась – от такого вопля, не вопля даже, а настоящего природного сотрясения, хотя и рожденного инвалидом, не очнуться было нельзя, мать застонала, зашевелилась и, вглядевшись в лицо человека, державшего ее на весу, поняла, что это действительно ее сын. Впившись зубами в нижнюю губу, выдавила из нее кровь и прошептала едва слышно:
– Вась, это ты?
– Я, мам, я.
– А мы тебя похоронили и уже отпели – батюшку из города специально приглашали…
– Значит, долго буду жить.
– Ой, Васёк, дай Бог, чтобы так оно и было, – мать стерла с губ кровь, неверяще закрыла глаза, потом открыла вновь. – Неужели это ты? Живой…
– Живой, мама, хотя и был похоронен, даже могила есть – что было, то было.
– Васёк, Васька, Васенька мой… Ох! – мать помотала головой – не могла поверить тому, что видела (вернее, кого видела), морщинистыми пальцами отерла глаза, глубоко, слезно вздохнула: – Спасибо Матери Божией – жи-ив… Я ей каждый день молилась.
– А с похоронкой, мам, старички наши намудрили. Не разобрались, отдали бумаги в штаб, а те их в Башево и спроворили. Поторопились.
Как был ранен, как посекли его немецкие пули и осколки, где чего в организме изуродовали, Куликов рассказывать не стал – незачем знать это матери, так ей спокойнее будет, не станет лить лишние слезы. И односельчанам знать это необязательно, поскольку, что будут знать они, непременно узнает и мать – бабий телефон в бестелефонной деревне работает, как часы.
– Ах, мама, мама, – совсем по-детски вздохнул этот большой, уже сильно обожженный войной, хотя и очень молодой мужик, поставил мать на землю, прижал к себе, будто ребенка, хотя детские чувства роились именно в нем, а не в матери. Все мы дети, пока живы наши мамы, это закон.
Даже для тех, у кого уже седые виски, – закон.
Вечером в хату Куликовых набилось много народа – в основном женщины, из мужчин в Башеве был только один, вернувшийся с войны нашпигованный осколками, без ноги, но ему совершить путешествие с другого конца деревни было непросто, и он не стал его совершать, поэтому в доме собрались одни женщины, из мужского пола присутствовали лишь четверо пацанов разного возраста.
Вопрос у пришедших баб, у всех до единой, был общий, его повторяли как заклинание:
– Ты моего мужика в окопах не видел? А ежели видел, то как он там? Живой?
Нет, никого из земляков Куликов на фронте не встречал, не знал, живы они, пребывая в молотилке войны или нет, он даже обнадежить женщин не мог, хотя ему очень хотелось, – просто не имел права на это… Потому и отвечал мрачно, односложно:
– Не видел… Не попадался – народу-то на фронте ох как много, не сосчитать. Так что прости меня, тетка Елизавета… И ты, тетя Дуся, прости. И ты, Аграфена Федоровна…
И так далее.
– Останешься здесь, помогать нам в колхозе, али как? Каковские у тебя планы?
– Да планы эти не я определяю, а начальство. Оно вот там сидит, – Куликов потыкал пальцем в потолок, вздохнул, – не добраться. Определяет, кому куда ехать. Знаю только, что вновь окажусь на фронте. Предварительную комиссию прошел, здоровье мое одобрено – к военной службе годен.
– Тогда, вернувшись на фронт, поглядывай, Толя, там по сторонам: вдруг моего Петра Егорыча увидишь… Передай ему, что живем мы тут не очень, но держимся и держаться будем, сколько надо, лишь бы он фашистов лупил в хвост и в гриву.
То же самое ему говорили и другие тетушки – на случай, если встретит земляков своих Григория Семеновича, Ивана Сергеевича, Ивана Петровича, Михаила Ивановича, и всем Куликов обещал, что пожелания все передаст слово в слово, как и без всяких утаек расскажет о жизни деревенской, о том, что здесь видел…
А ведь в Башеве очень скоро наступит момент, когда землю уже не на коровах, а на телятах, да на самих себе пахать придется… Но сил становится все меньше и меньше, скоро народ вообще сойдет на нет, что тогда будет делать деревня Башево, никто не знает. На одном безногом солдате она не сможет урожай собрать – не вытянет… Разные мысли приходили в голову Куликова, когда он слушал своих землячек.
А еще… еще его тронул тринадцатилетний пацан, живущий почти по соседству, через два дома от Куликовых, – белобрысый, двухмакушечный, с быстрыми светлыми глазами, – он преподнес фронтовику два листа бумаги, две четвертушки старого, пожелтевшего от времени ватмана, еще довоенного, а может быть, даже дореволюционного. На одном листе была изображена природа – опушка леса, примыкавшего к дороге, плоской лентой ввинчивающейся в плотный рядок сельских хат и дающей начало центральной башевской улице, с кусочком воды, несколькими печальными деревьями, всматривающимися в стеклянную гладь, и десятком птиц, сидящих на ветках… Куликов невольно залюбовался этим пейзажем.
На втором листе был изображен Сталин с поднятой рукой – таким он обычно бывал в праздники на трибуне Мавзолея. Портрет вождя тоже был хорош.
– Как живой, – одобрительно отозвался о портрете Куликов, – очень толково нарисован.
– Я старался, дядя Вася, – польщенно проговорил юный художник.
– Тебе надо учиться и еще раз учиться – поступать в техникум, либо даже в институт. Большим человеком будешь, – Куликов поднял указательный палец, – народным художником РСФСР. Есть такое достойное звание.
– Ох, Вася, Вася, – смущенно проговорила старая женщина с лицом, исчерканным лапками морщин, – бабушка молодого дарования. – У нас пока другая задача колышется на горизонте, мерцает, как луна, – выжить бы! Если выживем, то и за учебу возьмемся, а пока… – она печально развела руки в стороны.
Сказать на это было нечего.
– У нас в батальоне художник был, Юрой звали. Убили его под городом Калининым, когда в разведку ходил. Фамилию не помню, но художником был от Бога. Причем рисовать хорошо умел не только руками, но и ногами, глядеть на его работу можно было часами, – Куликов прищурил один глаз, лицо его потеплело. – Такой циркач был, что его впору было показывать за деньги где-нибудь в театре. Или в брезентовом шатре – в цирке бишь… А другой парень был, тот мог ногами играть в карты. Лучше, чем руками. Так и играл – двумя ногами и двумя руками, в двадцать пальцев.
Собравшиеся женщины с дружным восхищением зацокали языками: ай, какие страсти случаются на фронте! Надо же!
– А потом на него беда навалилась – миной оторвало кисть правой руки – и сказке пришел конец. Так что у нас моменты бывают – впору плакать и дивиться. Многое, очень многое может человек выдюжить, быть безногим и безруким и считать, что жизнь у него удалась.
– Что-то на философию тебя, Вася, потянуло, – проговорила мать и достала из печи длинный жестяной противень с запекшейся картошкой. Пахла картошка как-то по-довоенному, очень вкусно, словно бы ее приготовили на масле вместе с ароматными травами и корешками, выдержали не в обычном печном нутре, а в казане вместе с пловом и специями, – отменная получилась еда.
К картошке нашлись две ковриги хлеба и поллитровка с крепкой забористой жидкостью, заткнутая кукурузным початком.
Выпивку принесла бабушка молодого художника по прозвищу Ульянова-мама (наверное, с намеком на Ульянова-Ленина, в деревнях ведь живет народ языкастый, даже очень языкастый), не пожалела зелья, которое обычно приберегают на самый крайний случай. Сын ее воевал на Южном фронте и тоже, как и Куликов, был пулеметчиком, тоже каждый день находился под пристальными немецкими прицелами: привычка засекать в первую очередь пулеметы была в ходу на всех фронтах.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?