Текст книги "Прожитые и непрожитые годы"
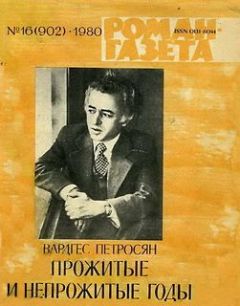
Автор книги: Вардгес Петросян
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
3
Автобус тронулся, пассажир, сидевший рядом, слава богу, закрыл глаза. Это хорошо. Левон боялся, что он начнет рассказывать свою биографию, предложит «Казбек», пожалуется на молодежь, которая не уважает старших, ни во что не верит, которая.» Но сосед уснул.
– Не скажете время? – спросила какая-то девушка.
– Вторая половина двадцатого века…
Взгляд Левона еще блуждал по горам. Девушке было года двадцать два, и похожа она была на этот снег в горах, завтра-послезавтра растает, превратится в ручей или цветок, а может, в мутный поток. На руке часы, что же она спрашивает? Какая-то волна поднялась в нем, что-то злое, хотя девушка была красива. Бабушка в таких случаях советовала сосчитать в уме до тридцати девяти, но считать он не стал. От этого стареют, от счета в уме, да и считать долго. Он произнес с оттенком язвительности:
– Девушка, а вас не интересует, от какой болезни скончалась тетушка Наполеона?
– От какой?
– От острого воспаления поджелудочной железы. Есть еще вопросы?
– По поводу теток – нет, а мои часы стоят.
Левон рассмеялся. «Снег в горах вблизи, наверное, не покажется таким белым», – подумал он. Из приемника Шарль Азнавур настойчиво звал Изабель. Сосед Левона проснулся.
– Началось, – буркнул он. – Нет чтобы хоть когда услыхать по этому радио армянскую песню. Эй, водитель, заткни ему глотку…
– Нет, нет, что вы! – запротестовала девушка.
– Поет армянин. Его бабушка в Ленинакане живет, – спокойно сказал Левон и обратился к девушке: – Сейчас четверть двенадцатого.
Снег на далеких хребтах был как белый пожар, а Азнавур продолжал призывать Изабель. В песне, что он пел по-французски, говорят, рассказывается о человеке, который, сидя на могиле возлюбленной, зовет ее. На сколько ладов можно повторять это имя – Изабель. – Изабель?… А может, совсем не о том песня, может, Изабель бросила его, а он сокрушается по безвозвратно ушедшим дням? Но интереснее верить в первый вариант, и Левон даже представил Азнавура у могильного холмика, на ереванском кладбище. А песня все лилась. Изабель, любовь моя!.. Миллиарды раз люди произносили эти слова, только в сочетании с другими именами. Левон посмотрел на девушку и, увидев ее полузакрытые глаза, испугался, что она сейчас начнет рассказывать о своей неудавшейся любви или еще о чем-нибудь в этом роде.
– Куда направляетесь? – спросил он, как если бы сказал: «Прошу передать на два билета».
Она ответила.
– Я тоже, – сказал он.
Азнавур в последний' раз воззвал к Изабель, и сосед сказал:
– Слава богу.
Говорят, Азнавур ежедневно по нескольку часов проводит у себя в саду, наедине со своими мыслями, и беседует с умершими родными и близкими. Может, иногда человеку и в самом деле необходимо оставаться наедине с собой, со своими мыслями, и именно тогда приходят к нему его близкие, которых он теряет, потому что близкие те, кого теряешь. Только случайные люди всегда рядом с тобой.
4
Глядя на заспанное лицо председателя сельсовета, Левон гадал, полузакрыты его глаза или они просто маленькие. Председатель был нечесан, на подоконнике стояла керосиновая лампа.
– У вас нет электричества? – спросил Левон без всякого вступления.
– Частенько отключают. И если собрание или что, приходится лампу* зажигать. – Председатель только теперь поднял голову. – Погоди чуточку…
Он сидел в маленькой комнате за громоздким письменным столом и старательно крутил ручку телефона, словно это была ручка мясорубки.
– Центральная, а центральная! – Лицо его то выражало мольбу, то кривилось в досаде. – Офик, голубушка, дай-ка райкооп, Самсона… Садись, – это уже относилось к Левону, который примостился на подоконнике возле лампы. – Садись на стул… Офик… Ах, чтоб вашу технику…
Такой телефон Левон в последний раз видел в кинофильме «Чапаев». Председателевы глаза были голубые, на столе ручка, чернильница, на стене, с правой стороны, выгоревший портрет. Левон посмотрел, но не смог определить, чей именно. А председатель одним глазом поглядывал ра него, другим косил на допотопный телефон.
– Офик-джан. В январе купим новый портрет, деньги уже перечислили… Офик… – Он снова покрутил ручку. – Вот, работай с таким телефоном. Из Еревана?
– А в тридцатых годах телефоны были только в райцентрах. – Левон сказал то, чем часто попрекали его поколение. – Я из Еревана, из газеты…
– Когда приехали? – Председатель вдруг перешел на «вы».
– Только что автобусом. Мне бы командировочное заверить.
– Уже обратно? – изумился председатель, а потом, словно что-то вспомнив, протянул через стол руку, точно телеграмму подал. – Папикян Бено… Вениамин.
– Левон. Может, ночью уеду, так чтоб вас не беспокоить лишний раз.
– Ага. Завтра меня вызывают в райцентр. С добром ли к нам?
– Мне надо в школу.
В школу? Значит, по поводу детей…
– Да, по поводу детей, – усмехнулся Левон.
– На весь мир опозорились. Утром прокурор был. Еще и из Москвы, говорят, приедут. Влипли в историю… Если из Москвы приедут…
– Он самый и приедет, – с серьезным видом вдруг произнес Левон, указав на портрет на стене, – еще и в сельсовет зайдет. Хорошо, что хоть портрет свой увидит, немного отойдет.
Бено, или Вениамин Папикян, как-то сразу взялся за пояс военного образца, без пряжки, которую, видимо, стащили ребятишки. Он затянул ремень еще на одну дырку, оправил вьетнамскую сорочку и с любопытством посмотрел на Ле-вона.
– Товарищ Тельман?…
– Тельман? – удивился Левон. – Да нет, насчет Москвы я пошутил. А на портрете не Тельман. Демьян Бедный. Как он сюда попал?
Папикян словно впервые взглянул на портрет.
– В субботу… Какой сегодня день? Среда? Да, как раз в субботу я принес портрет со склада. Какой же кабинет без портрета? Парнак уверял, что это товарищ Тельман. Говорил даже, что лично его самого видел.
– Кто такой Парнак?
– Он в плену был. Наш бухгалтер. Говорят, сто двадцать пять книг прочел. Наверное, прочел. Иные из Германии тряпок наволокли, а этот пять чемоданов с картинами и книгами. Дай-ка сюда твою бумажку.
Левон протянул командировочное удостоверение.
Папикян торжественно взял листок, стал крутить его так и сяк, должно быть, затруднялся читать по-русски, открыл ящик и вынул печать, огромную, доставшуюся, видно, в наследство от первого председателя, с самых двадцатых годов. В голове Левона промелькнула мысль о том, сколько могла бы поведать эта печать, обладай она языком… А Папикян с большим достоинством ткнул печать в соответствующую подушечку и быстро-быстро задышал на нее.
– Куда поставить? Я всего два месяца председателем работаю, был до этого завклубом.
– Поздравляю. – Левон показал, куда приложить печать. – А здесь подпишите. – Потом спросил: – У вас в деревне есть церковь?
– А как же? В школьном дворе, Парнак говорит – с десятого века, – но, видно, история с портретом поколебала веру председателя в Парнака, – кто ее знает, раньше там был склад…
– Вы хотели сказать – школа находится в церковном дворе? – поправил Левон.
– Так, ты верно говоришь, – смягчился председатель, потом, немного подумав, добавил: – Не зайти ли к нам? Школа ведь не убежит. Во-он она, в церковном дворе, – последние слова он повторил с удовольствием. – Ведь небось голоден? Тикуш что-нибудь приготовит, кур у нас много, водка есть хорошая. А?…
Левон с неожиданной симпатией посмотрел на Папикяна, увидел складки кожи, морщины на лице, словно сын-четвероклассник попробовал на его лице перо и оно нацарапало неровные линии; грубые, будто изваянные из красного туфа руки, отросшие ногти; мысленно проник в ящик его письменного стола, где могли лежать бумаги из райцентра, пара заявлений, в левом углу которых он вскоре напишет красным карандашом: «Выдать пособие восемь рублей как многодетной матери». Левон подумал, посмотрел на портрет на стене, улыбнулся, сложил и сунул в карман командировку.
– Ну как? – спросил Папикян. – Пойдем к нам?
А Левон сказал:
– Знаешь, чей портрет еще надо повесить? – Он уже и на «ты» перешел. – Ованеса Туманяна.
– Туманяна? «Не так, как мы, живите на свете, милые дети…», «Жаль горный цветок Ануш…» – Лицо Папикяна выразило блаженство. – В книжном магазине едва ли будет. – И немного подумав: – Попрошу из Еревана, а то, может, и у Парнака найдется, а?
– Я пошел, – Левон взял папку в руку. – Если быстро управлюсь, может, загляну, дом твой покажут, надеюсь?
– Покажут, – он довольно улыбнулся, – а то как же?
Вокруг царило то безмолвие, о котором мечтают горожане и которым по горло сыты сельчане. Единственным живым существом был петух, он слонялся по двору, – видно, искал корм и подружку. Сначала, конечно, корм. Левон посмотрел на петуха, не удостоившего его взглядом, на покосившиеся домики, на небо, откуда словно бы только что сошел маляр, коему была выдана на складе одна лишь белая краска. Редкие деревья совсем не вязались с окружающим пустынным пейзажем, они казались позабытыми кем-то, кто сейчас явится и заберет их, вырвав с корнем, после чего останется голый испанский пейзаж. Двухэтажное белое здание школы занавесом парило перед церковью, купол которой выглядывал из-за крыши, осененный крестом.
Его попутчица Татевик, с которой он познакомился в автобусе, будет преподавать французский в соседней деревушке, будет учить деревенских детей читать Бальзака, Аполлинера или письма Робеспьера. Чушь, Татевик уже в будущем году вернется домой, а в воспоминаниях детей она останется как сновидение на каблучках-шпильках, с коленями, которые обнажались, когда она садилась; потом дети и вовсе забудут ее.
Тропа не извивалась змеей, она была древней и пустынной, как небо.
Был тот час, когда взрослые в поле, а дети на уроках. Левону захотелось закурить, и вдруг, когда он очутился в школьном дворе, у входа в здание, вдруг осознал, зачем забрел сюда. Попытался представить лица Асмик и Сероба, которых ему не увидеть никогда, и проклял себя за то, что согласился на эту поездку. Он ступил в чисто подметенный коридор.
О чем же говорить, что писать и кому все это нужно? Прозвенел звонок, и словно началось землетрясение. Тишина, как стекло, лежащее на столе, упала на каменный пол и разбилась. Раскрылись двери, воздух наполнился пылью, шумом, краснощекими детскими лицами. Левон остановил мальчика:
– Где десятый?
– Я за мелом.
Улыбнулся. Малый тоже улыбнулся и показал, где десятый.
Левон вдруг осознал, что нарочно медлит, оттягивает момент, когда надо будет сесть перед незнакомыми людьми, задавать нелепые вопросы, выслушивать неискренние ответы или просто молчание. Может, еще не поздно повернуть обратно, пойти в гостиницу, взять бутылку вина и… и он открыл дверь. В классе несколько ребят окружили учителя.
– Здравствуйте, я из газеты.
Учитель протянул руку.
– Агабекян. Наверное…
– Да, – быстро произнес Левон?
– Директора видели?
– Нет, с ним после.
– Я старый подписчик вашей газеты, – улыбнулся Агабекян.
– Нельзя ли собрать детей здесь? Мне надо сегодня же вернуться в город.
Учитель позвал детей, все вошли в класс, разошлись по своим местам с безмолвием шахматных фигур и стали смотреть на Левона. Десять юношей, семь девушек, сосчитал он. Если бы приехал неделей раньше, было бы одиннадцать юношей и восемь девушек.
– Кто отсутствует?
– Все здесь, – ответил кто-то из ребят.
– Кто из вас, – Левон нервно сгибал пальцы, – кто из вас был на похоронах?
Ни одна рука не поднялась.
– Никто?
– Я объясню, – вмешался Агабекян, – что им там было делать? Да и директор не велел, и я с ним вполне согласен…
Левон словно не слышал Агабекяна, он с безграничной грустью оглядывал лица ребят. Они казались высеченными из дерева тупым инструментом неумелого плотника. Он заговорил, ни к кому в частности не обращаясь, просто так, вслух сожалея, размышляя о случившемся, выражая свои сомнения:
– Значит, вместе учились, росли и не пошли проститься в последний раз… Что мне с вами говорить, о чем, для чего?!
Левон не видел их глаз, только густые спутанные волосы и плечи, которые как будто опускались: никто на него не смотрел.
– А почему все-таки не пошли?
– Я же сказал, – поспешно вставил Агабекян.
– Пусть они сами скажут.
Молчание. Внезапно Левон поднялся. Что за глупый допрос он ведет тут? Он схватил папку, хотел выйти. Поговорит с директором и уйдет, с него ведь спросят только докладную.
– Я ходил, – с последней парты поднялся какой-то парень. Левон посмотрел на него, как если бы тот был его младшим братом. – Ходил, ну и что?
– Ты? – Агабекян пронзил мальчика колючим взглядом.
– И я, – поднялся другой.
Больше никто.
Позднее Левону трудно было припомнить, как после таких слов наконец растаял лед.
…С седьмого класса Сероб и Асмик сидели вместе на предпоследней парте. Две недели назад их рассадили. Обычно Асмик писала за Сероба сочинения, а он решал ей задачи по геометрии. Конечно, писать сочинения он мог сам и она сама решать задачи. Но это был повод сидеть вместе, писать друг другу письма или говорить о самом главном. Что еще? Однажды Сероб поколотил Егиша за то, что тот на уроке физкультуры как-то особенно посмотрел на обнаженные колени Асмик. Это ребята уже после случившегося сообразили, что из-за Асмик, а тогда…
Но… Но однажды их увидели в ущелье, рядышком, среди высокой травы. Кто это заметил, кто пустил слушок в деревне, сейчас трудно выяснить, но все завертелось быстро, бешено, вдруг, как в итальянском кинофильме, клубок развязался, ниточка потянулась, потянулась… Спустя несколько дней мать Сероба встретила у родника мать Асмик и без долгих околичностей начала: «Девка распутная у тебя, чего ждешь? Выдай замуж – и конец, мало, что ли, таких?…» Мать Асмик сначала побледнела, потом львицей набросилась на нее, схватила за волосы и… Следующее утро принесло невероятную весть: Асмик повесилась в хлеву. Что у них произошло накануне вечером, о чем с ней говорил отец, осталось тайной. На один только миг деревня закаменела перед ужасным несчастьем, а потом сплетня, как снежный ком, разбухая, покатилась по узким деревенским улочкам: «Говорят, будто Сероб и Асмик… Господи, прости нас, грешных, говорят, она ждала ребенка, потому и…» Вдруг все опомнились: где Сероб? Стали искать по родственникам, в пещерах, ущельях и даже примирились с мыслью о том, что найдут его труп, когда на третий день он вдруг заявился в машине «скорой помощи». Машина остановилась у дверей дома Асмик, врачи вошли, а Сероб остался стоять снаружи и, когда к нему подошли, ни на кого не взглянул, не отвечал на вопросы, он был похож на камень, вынутый из церковной стены. Часа через два врачи вышли, Сероб не подошел к ним, машина тронулась. После отъезда машины снежная глыба покатилась в обратном направлении: «Отсохни их языки, зачем опорочили девочку, как стеклышко была чиста, никакого ребенка не могло и в помине быть, профессор сам сказал…» Ночью, как полагалось, тело Асмик перенесли в церковь; кто бы посмел до прихода врачей, ведь есть на небе бог… А наутро: «Ох, сыночек, да что это ты наделал, сынок?» То был голос матери Сероба. Ее сын выпил яд. Прожил он после этого всего четыре часа. Оставил письмо: «Асмик, родная. Прости меня, что прожил после тебя два дня. Я это сделал для того, чтобы все узнали, что ты невинна».
Их похоронили вместе, друг возле друга.
Левон вышел из школы, стоял уже вечер.
Он не останется здесь ночевать, пойдет в рай-центр, купит вина, выпьет его в гостинице. Внутри у него все отяжелело от услышанного, на губах была горечь.
Он верил и не верил. Хотел и не хотел ничего вспоминать. Учителя вот что сказали:
«Я видел Сероба, когда он только что узнал о несчастье. Он подошел ко мне: „Что мне делать?“ Я вытащил из кармана три рубля, иди, говорю, выпей, возле сельсовета какой-то аштаракец продает водку. Он не взял деньги. Я ведь думал, выпьет – и все пройдет… Потом бы и поговорили… Откуда я мог знать…»
Это говорил учитель истории.
«Почему я не позволил им пойти на похороны? Может, еще и оркестр надо было пригласить? Не то что-то вы говорите, товарищ корреспондент… Какая там еще любовь, время ли этому? А потом – ведь самоубийство, не как-нибудь. Если слушок просочится за границу, отвечать придется нам. Помните, в тридцатые годы… Хотя что вы можете помнить, с какого вы года?… Вот видите, я и говорю. Во всех классах мы провели собрания, осудили их. Что осудили? Ну, знаете! Комсомольцы покончили самоубийством, а вы спрашиваете, что мы осудили? Как фамилия вашего редактора?… Да на что мне адрес?… Да, да, я знаю его, однажды приезжал в нашу деревню. Конечно, это прискорбный случай, очень нежелательный, и мы должны сделать выводы, значит, воспитательная работа у нас… Напрасно усмехаетесь, вы и с детьми неправильно вели беседу, я скажу об этом где надо. Нет, не угрожаю, но я тоже коммунист и стажа у меня столько, сколько тебе лет, а что касается…»
Это уже директор.
«Ведь вместо того, чтобы уроками заниматься, они, видите ли, любят!.. Что?… Не понимаю вашего вопроса. Когда я любил? А зачем мне любить? Я видел столько влюбленных, которые женятся, через месяц производят на свет ребенка, а через два месяца разводятся. О, вы не знаете нашей деревни, я уже двадцать лет женат, но стоит выйти из дому под руку с женой, начнутся перешептывания. Почему? Вот ведь у вас в городе все поголовно разводятся. Почему поставили гроб Асмик в церкви? Так у нас принято. Ну что вы собираетесь писать, а?»
А это был преподаватель литературы, который, разумеется, не раз рассказывал своим ученикам о трагических историях Coca и Вардитер, Ромео и Джульетты…
Кошмар какой-то. Можно сойти с ума.
Левон проголодался и вспомнил ресторан «Крунк» в Ереване, где хорошо кормят и приятно посидеть, выпить кофе, поглазеть на улицу сквозь стеклянные стены. Будь он архитектором, строил бы и жилые дома из стекла, чтобы люди не прятались, а жили открыто, обнаженно, без притворства. Нелепая, конечно, мысль.
А в «Крунке» Анаит одну за другой, не спрашивая, подавала бы ему чашечки кофе и только на пятой сказала бы: «Последняя». Там все привычно, там его знают, а может, и любят. Не обсчитывают никогда. Можно даже взять в долг, и будут ждать месяцами. Стеклянные стены не мешают там чувствовать себя как дома.
Деревенская улица была обычной деревенской ушицей. Уже темнело, стало оживленно, появились люди, телеги, какой-то грузовик застрял в грязи, и осел упрямо торчал посреди улицы, не желая двигаться. Ноги у седока были непомерно длинные. Он напомнил Левону его односельчанина, тоже долговязого, из-под которого, было дело, осел ушел, а хозяин этого и не заметил…
Чужое села не книга на иностранном языке, а родственник, которого никогда прежде не видел, а встретил – и взыграла родная кровь, оба уже вспоминают всех родичей. Но Левон не понимал охватившего его чувства. Он сейчас с ненавистью смотрел на все: на людей, на дома, даже на детей. Это было какое-то наваждение.
Может, разыскать председателя сельсовета и попросить машину до райцентра? Какой дальше смысл здесь оставаться? Что еще выяснять? Тьма сгущалась, сельская улица начинала походить на творение импрессиониста. Левон пытался хоть что-то осмыслить в этой непостижимой истории, которой позавидовали бы все сентиментальные писатели мира: просто садись за машинку, отстучи ее как есть, и ты обеспечен по меньшей мере сотней тысяч читателей в возрасте от шестнадцати до двадцати. Критики, конечно, скажут, что в наши дни такого не бывает, может, даже тиснут статью в газете, станут утверждать, что у автора больное воображение, что он взял все это не из нашей светлой жизни и тому подобное. Нет, в этой истории еще много непонятного, и надо кое-что уяснить для себя самого. У председателя сельсовета они проговорят до ночи, тот опять поведет речь о кладовщике Парнаке, который видел Эрнста Тельмана или Эрнеста Хемингуэя, Левон наестся сваренной хозяйкой курятины, увидит почетные грамоты, полученные хозяином в двадцатые годы. Потом и в нарды могут сыграть, а затем он уснет, подложив под голову вышитую Тикуш подушечку, и сниться ему будут либо бабушка, недовольная своими дочерьми и невестками, либо Севан, куда они поедут с одноклассниками и с Акопом, умершим шесть лет назад. Нет, не останется он здесь. Пойдет в райцентр прямо пешком. Ничего с ним не случится. Дойдет, переночует в гостинице, а утром айда в Ереван… На крылечках сидели люди, как в романах Прошяна. Левон шел медленно, курил. Нет, все-таки надо найти Папикяна, пока село совсем не потонуло во тьме.
Он спросил у первого встречного:
– Где дом председателя сельсовета?
– Бено-то? Вон он сам стоит у родника.
Папикян уже шел Левону навстречу.
– А я думал, ты уехал.
– Чуть не уехал.
Они пошли по какой-то дороге, выныривающей из деревни. Левон спросил, куда она ведет.
– На место отдохновения, – ответил председатель.
Это значит – на кладбище… Кладбище начиналось сразу. Первая плита наполовину ушла на дно ручья, отделявшего поле от кладбища, буквы на плите стерты временем– и темнотой.
Шли уже по самым надгробиям, другого пути не было. Плиты вросли в землю, лежали впритык, стершиеся, как жернова. И только часть камней пока еще возвышалась над землей.
– Старое кладбище?
– Да, новое чуть в стороне.
– С какого года плиты здесь, не знаешь?
– Парнак говорит – с четырнадцатого века. Опять этот Парнак, местный академик, энциклопедист, пророк и гадальщик.
– Покажешь?
– Темно, да я и сам толком не очень все тут знаю.
Местами соединенные могилы казались единой туфовой глыбой, – может, так и образуются многие карьеры, откуда потом добывают камни для могильных плит, лестниц и родников. Глупые мысли лезут в голову на кладбищах – будто усмешка над ежедневной людской суетой. И особенно – над надеждами. Показались и новые плиты, отделенные друг от друга железной изгородью.
– Вот здесь, – сказал Папикян.
– Что?
– Могилы ребят.
Левон посмотрел на два холмика рядом, под которыми покоились Асмик и Сероб. Здесь лежал букет полевых цветов, больше ничего. Через год будут, наверное, и плиты, деревенский каменотес высечет: «Тут покоятся…», и продлятся непрожитые годы Сероба и Асмик, продлятся надолго, пока все кладбище не уйдет под землю и не окаменеет земля.
Левон отошел в сторону. Новых плит было мало, и сразу за ними начиналось открытое поле. Вдали виднелась длинная вереница бульдозеров и еще каких-то машин, несколько финских домиков, окна которых ярко светились.
– Что там?
– Говорят, атомную станцию собираются строить, – сказал Папикян, – как-то мы с секретарем побывали там.
– Электростанцию, что ли?
– Шутишь! – оскорбился Папикян. – Сказал же тебе – атомную.
– А какая разница?
– Кто знает. Учитель физики как-то объяснял… Да ты и сам знаешь!
– А что думает на этот счет Парнак?
– Рассказывает, в Германии много их… Старухи очень боятся, говорят, рак от этого начинается. Вот и пойми. А секретарь райкома сказал – для района большая честь, что у нас строят. Ты-то как считаешь?
– Я? – Левон посмотрел на тощую фигуру Папикяна, на оставшиеся позади них могилы, на выстроившиеся вдали бульдозеры и ничего не ответил.
Повернули назад. Снова прошли между могил, потом – по могилам, а деревня с освещенными окнами вдруг показалась целой планетой, потерянной и вновь обретенной. От этой мысли Левон зевнул, а Папикян сказал:
– Поужинаем – и спать. Нарды подождут до завтра.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































