Текст книги "Московская сага. Поколение зимы"
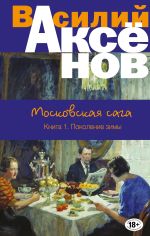
Автор книги: Василий Аксенов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– …Слово имеет предревкома товарищ Петриченко!..
Из черных шинелей на трибуне выдвинулась грудь, обтянутая полосатой тельняшкой. Простуды не боится. Из «маузера» отсюда не достанешь. Может быть, кто-то из наших, из одиннадцати, сейчас целится?
– Товарищи, ставлю на голосование вторую резолюцию линкоров! Ультиматум Троцкого отклонить! Сражаться до победы!..
Потрясенный Никита смотрел вокруг на ревущие единым духом глотки. Победа! Победа! Потом спохватился, стал и сам размахивать шапкой и кричать: «Победа!» Кто-то хлопнул его по спине. Усатый бывалый военмор с удовольствием заглянул в его молодое лицо.
– Поднимем Россию, браток?!
«Ура!» – еще пуще завопил Никита и вдруг похолодел, почувствовав, что кричит искренне, что втянут в воронку массового энтузиазма, что именно здесь вдруг впервые нашел то, что так смутно искал все эти годы со штурма «Метрополя» в 1917 году, когда семнадцатилетним мальчиком присоединился к отряду Фрунзе, – порыв и приобщение к порыву.
Да ведь предатели же, мерзавцы, под угрозу поставили саму Революцию ради своего флотского высокомерия, избалованности, анархизма, всего этого махновского «Эх, яблочко, кудыт-ты котисся»! Какие еще могут быть порывы и сантименты в отношении этого сброда?!
Открылись двери собора, на паперть вышел священник с крестом, стали выносить гробы с погибшими при отражении вчерашнего штурма. Оркестры заиграли «Марсельезу». Моряки обнажили головы. Лазутчик Градов тоже снял шапку. Момент всеобщей скорби, мороз по коже, дрожь всех мышц – вот, очевидно, предел всей этой вакханалии, четыре года злодейств во имя борьбы со злодейством, набухание слезных желез… Да ведь это вокруг тебя Новгородское вече, свободная Русь, и ты ударишь им в спину!..
…После того как все было кончено, Никита, в числе трех уцелевших из дюжины отряда особого назначения, был награжден золотыми часами швейцарской фирмы «Лонжин». Затем его госпитализировали. Несколько дней он метался в бреду и беспамятстве, лишь на мгновения выныривая к обледенелым веточкам и снегирям за окном Ораниенбаумского дворца.
Никто никогда не говорил ему ни о характере, ни о подробностях той горячки. Он просто выздоровел и вернулся в строй. Кронштадтской темы предпочитали не касаться в военных и партийных кругах, хотя и ходили смутные слухи, что у самого Ленина на этой почве разыгралась форменная истерика. Якобы визжал и хохотал вождь: «Рабочих расстреливали, товарищи! Рабочих и крестьян!»
Никто, разумеется, не говорил в «кругах» и о том, что именно Кронштадт вывел страну из сыпняка военного коммунизма, повернул ее к нэпу – отогреться. Не случись эта страшная передряга, не отказались бы вожди «всерьез и надолго» от своих теорий.
Вероника, дочь известного московского адвоката, была женой Никиты уже третий год, и, конечно же, она знала немало об этой тайной ране своего мужа, хотя и понимала, что знает не все. В последние две недели, после командировки, она стала серьезно опасаться за состояние его нервов. Он почти не спал, ходил по ночам, без остановки курил, а когда отключался в каком-то подобии сна, начинал бормотать заумь, из которой иногда выплывали, будто призраки, фразы, выкрики и печатные строчки кронштадтской вольницы.
«…от Завгородина – двухдневный паек хлеба и пачка махорки; от Иванова, кочегара «Севастополя», – шинель; от сотрудницы Ревкома Циммерман – папиросы; от Путилина, портово-химическая лаборатория, – одна пара сапог…»
«…Полное доверие командиру батареи товарищу Грибанову!..»
«…Куполов, ебена мать, Куполова-лекаря не видали, братцы?..»
«…команда пришла в задумчивость, нужна литература для обмена с курсантами…»
«…Подымайся, люд крестьянский!
Всходит новая заря —
Сбросим Троцкого оковы,
Сбросим Ленина-царя…»
«…Ко всем трудящимся России, ко всем трудящимся России…»
Однажды она, набравшись смелости, спросила его, не стоит ли ему выйти из армии и поступить в университет, на медицинский факультет, по стопам отца, ведь ему всего двадцать пять, к тридцати годам он будет настоящим врачом… Как ни странно, он не накричал на нее, а только лишь задумчиво покачал головой – поздно, Ника, поздно… Похоже, что он вовсе не возраст имел в виду.
Наконец они подошли к калитке дачи, на которой, как в старые времена, только без ятей, красовалась медная таблица с гравировкой «Доктор Б. Н. Градов». За калиткой мощенная кирпичом дорожка, описывая между сосен латинскую «S», подходила к крыльцу, к добротно обитым клеенкой дверям, к большому двухэтажному дому с мансардой, террасой и флигелем.
Переступая порог этого дома, всякий подумал бы: вот остров здравого смысла, порядочности, сущий оплот светлых сил российской интеллигенции. Градов-старший, Борис Никитич, профессор Первого медицинского института и старший консультант Солдатёнковской больницы, считался одним из лучших хирургов Москвы. С такими специалистами даже творцы истории вынуждены были считаться. Партия знала, что, хотя ее вожди сравнительно молоды, здоровье многих из них подорвано подпольной работой, арестами, ссылками, ранениями, а потому светилам медицины всегда выказывалось особое уважение. Даже и в годы военного коммунизма среди частично разобранных на дрова дач Серебряного Бора градовский дом всегда поддерживал свой очаг и свет в окнах, ну а теперь-то, среди нэповского процветания, все вообще как бы вернулось на круги своя, к «допещерному», как выражался друг дома Леонид Валентинович Пулково, периоду истории. Постоянно, например, звучал рояль. Хозяйка, Мэри Вахтанговна, когда-то кончавшая консерваторию по классу фортепиано («увы, моими главными концертами оказались Никитка, Кирилка и Нинка»), не упускала ни единой возможности погрузиться в музыку. «Шопеном Мэри отгоняет леших», – шутил профессор.
Разгуливал по коврам огромный и благожелательнейший немецкий овчар Пифагор. Из библиотеки обычно доносились мужские голоса – вековечный «спор славян». Няня, сыгравшая весьма немалую роль в трех «главных концертах» Мэри Вахтанговны, проходила по комнатам со стопками чистого белья или рассчитывалась в прихожей за принесенные на дом молоко и сметану.
Никита повесил на оленьи рога шубку Вероники и свою шинель, что весила, пожалуй, в пять раз тяжелее собрания котиков. Он постарался тихо, чтобы не сорвать Шопена, пройти за женой на мансарду, однако мать услышала и крикнула своим на редкость молодым голосом:
– Никитушка, Никушка, учтите, сегодня за ужином полный сбор!
На мансарде, из окна которой видна была излучина Москвы-реки и купола в Хорошеве и на Соколе, он стал раздевать жену. Он целовал ее плечи, нежность и сладостная тяга, казалось, вытесняли мрак Кронштадта. Как все-таки замечательно, что женщины снова могут покупать шелковое белье. Что ж, может быть, Вуйнович прав, говоря, что в подавлении «братвы» начала возрождаться российская государственность?
Глава 2
Кремль и окрестности
Вокруг Кремля всегда вилось не меньше шепотков и кривотолков, чем ласточек вокруг его башен в погожий летний день. Что уж и говорить про нынешние времена, когда в крепости восьмой год сидят вожди мирового пролетариата. Парадоксы на каждом шагу. Взять хотя бы ту же Спасскую башню. Хоть она и носит еще имя Спаса, но стала уже символом чего-то другого. Двуглавый орел еще венчает ее шатер, но куранты в полдень вызванивают «Интернационал», а в полночь – «Вы жертвою пали».
В городе ходит молва, что под Кремлем с неизвестными целями расширяется паутина тайников-колодцев и подземных ходов-слухов. Странные россказни циркулируют о жизни семейств Каменевых и Сталиных, о придворном большевистском пиите, поселившемся дверь в дверь с вождями в здании бывшего Арсенала, – Демьяне Бедном, которого, каламбуря вокруг его настоящей фамилии, столичные литераторы называют Демьян Лакеевич Придворов.
Странности и жути еще прибавилось, когда главного обитателя после его кончины забальзамировали и вынесли за крепостную стену в хрустальном гробу всем на обозрение. Что за извивы воображения и как их совместить с материалистической философией, с тем же Энгельсом, что завещал свой прах развеять над океаном?
Великие соборы Кремля закрыты, но купола их и кресты все еще пылают, стоит лишь солнышку пробиться сквозь среднерусскую хмарь, переливаются в соседстве с множественными красными струями новых знамен и паучковыми символами перекрещенных орудий труда.
Гордая итальянская крепость на вершине Боровицкого холма, трижды сожженная с интервалами в двести лет ханом Тохтамышем, гетманом Гонсевским и императором Наполеоном и снова поднявшая свои шатры и «ласточкины хвосты» стен, что тебя ждет в непредсказуемом мире?
Три «Роллс-Ройса» наркомата обороны поначалу пересекли Красную площадь как бы по направлению к воротам Спасской башни, однако неожиданно проехали мимо, спустились к Москве-реке, обогнули крепость с южной и западной сторон и вкатились внутрь через предмостную пузатую Кутафью башню. Такая тактика внезапных изменений маршрута была недавно разработана для предотвращения терактов. Тактика, прямо скажем, немудреная, построенная на вековечном «береженого бог бережет», однако и в самом деле, окажись где-то у Спасских ворот засада (все-таки ведь немало же еще и за границей и дома вполне боеспособных антисоветчиков), Рабоче-Крестьянская Красная Армия была бы одним ударом обезглавлена. В первой машине следовал нарком Фрунзе, во второй – главком-запад Тухачевский, в третьей – главком-восток, кавалер ордена Красного Знамени № 1 Василий Блюхер.
Фрунзе был мрачен. Фактически он направлялся на совещание вопреки решению Политбюро. Именно это обстоятельство, а не болезнь сама по себе, угнетало его. Проклятая язва-то как раз в последнее время меньше давала о себе знать. Лечащие врачи обнадеживали – анализы показывают, что не исключен процесс рубцевания, то есть своего рода самозаживания. Однако вот эта тягостная и все нарастающая забота товарищей… конечно, можно понять многих из них, прошлогодняя трагедия, кончина Ильича, так потрясла партию, однако нет ли здесь перестраховки и… если называть вещи своими именами, не ведут ли некоторые какой-то странной двойной игры?..
Фрунзе не любил повышать голос (пуще всего боялся превратиться из красного командира, сознательного революционера в старорежимного деспота и солдафона). Но он очень здорово умел прибавлять к голосу нечто такое, что сразу давало понять окружающим – возражения излишни. Вот именно с этими модуляциями он приказал сегодня утром подать в палату полный комплект одежды и, одевшись, немедленно отправился в наркомат, а оттуда в Кремль.
По дороге, в машине, он ни с кем не разговаривал, даже на верного Вуйновича старался не смотреть. Странные все-таки складываются нравы среди руководства. Взять отдельно некоторых людей; по мере удаления от горячки Гражданской войны, то есть по мере взросления, если еще не старения, сколько выявляется малопривлекательных качеств: вздорность Зиновьева, зловещая непроницаемость Сталина, наплевизм Бухарина, никчемность Клима, сутяжничество Уншлихта – каждому по отдельности ты знаешь цену, но, собранные вместе, они превращаются в высшее понятие – «воля Партии». Парадокс в том, что без этого мы не можем, Ленин это понимал, мы развалимся без этого мистицизма.
Мысль о том, что ему пришлось сегодня переступить через «высшее понятие», пусть в интересах дела, в интересах самой республики, но совершить самоуправство, не давала покоя Фрунзе. У него, что называется, сосало под ложечкой, а когда «Роллс-Ройс» стал покачиваться на торцах Красной площади, показалось даже, что эта легкая качка отдается в животе. Он приложил перчатку ко лбу.
Курсанты школы ВЦИКа, несущие внутреннюю службу в правительственных помещениях, стояли по стойке «смирно». На их лицах, где, по идее, не должно было быть написано ничего, читалось преклонение. Три легендарных командарма в сопровождении своих чуть приотставших помощников (по-старому адъютантов) проходили по лестницам и коридорам Кремлевского дворца; это ли не запоминающееся на всю жизнь событие? Шаги их были крепки, и все они представляли идеал мужества и молодой зрелости. И впрямь: старшему, Фрунзе, было к тому моменту всего лишь сорок, Блюхеру – тридцать пять, а Тухачевскому – тридцать два года. Существовала ли когда-нибудь на Земле другая армия с таким молодым и в то же время преисполненным колоссальным боевым опытом командным составом?
Последняя пара курсантов, несущая караул у святая святых, открыла двери. Командармы вошли в зал заседаний – большие окна, лепной потолок, хрустальная люстра, огромный овальный стол. Иные участники заседания еще прогуливались по упругому ковру бухарской работы, обменивались шутками, другие уже сидели за столом, углубившись в бумаги. Все они были, что называется, мужчины в полном соку, если пятидесяти, то с небольшим, все в хорошем настроении: дела у республики шли как нельзя лучше. Одетые либо в добротные деловые тройки, либо в полувоенную партийную униформу (френч с большими карманами, галифе, сапоги), они обращались друг к другу в духе давно установившегося в партии чуть грубоватого, но как бы любовного и мягко-иронического товарищества.
Посторонний внимательный наблюдатель, вроде промелькнувшего в нашем прологе профессора Устрялова, может быть, и заметил бы уже начинавшееся расслоение и появление того, что впоследствии было названо «партийной этикой», согласно которой кто-то кого-то мог назвать «Николаем» или «Григорием», а другой обязан был подчеркивать свое расстояние от всемогущего бонзы, употребляя отчество или даже официальное «товарищ имярек», однако нам пока что соблазнительно подчеркнуть, что все на «ты» и все свои.
«Сменовеховцы», а они, как все русские интеллигенты, любили подстегивать факты к сочиненным загодя теориям, постарались бы, очевидно, отыскать в этой группе вождей приметы своей излюбленной «ауры власти», и они, вероятно, легко обнаружили бы эти приметы в таких, скажем, пустяках, как некоторое прибавление телес, добротности одежд и непринужденности движений, запечатленная государственность в складках лиц; мы же, со своей стороны, можем все эти приметы отнести и к другим причинам, менее метафизического толка, а по поводу складок на лицах можем, хоть и не без содрогания, подвесить вопросец такого толка: не ползут ли по ним проказой совсем еще недавние неограниченные насилие и жестокость?
Когда военные вошли в зал, все к ним обернулись. «Как, Михаил, это ты?! Вот так сюрприз!» – с дешевой театральностью воскликнул Ворошилов, хотя всем давно уже было известно, что Фрунзе уехал из госпиталя и направляется в Кремль. Несколько человек переглянулись; фальшивый возглас Клима как бы подчеркнул страннейшую и в некоторой степени как бы непоправимую двусмысленность, накапливающуюся вокруг наркомвоенмора. Председатель СНК Рыков предложил занять места. Рассаживаясь, члены Политбюро и приглашенные продолжали обмениваться репликами и заглядывать в бумаги, всячески стараясь подчеркнуть, что основное их внимание приковано не к Фрунзе, то есть не к нему персонально, не к нему как к больному человеку. Те, кто пожал ему руку при входе, старались не придавать значения своему наблюдению, что рука при обычной ее крепости была чрезвычайно влажна, а те, кто как бы случайно касался взглядом лица командарма, отгоняли мысль, что ищут в нем признаки ишемии.
Между тем с Фрунзе под всеми этими взглядами и в самом деле творилось что-то неладное. Боясь оскандалиться, он попытался под прикрытием папки с бумагами достать из кармана и проглотить очередную таблетку, но отказался от этой мысли и, повернувшись к Шкирятову, спросил:
– Где же Сталин?
Шкирятов – Бог шельму и именем метит – весь подался вперед, весь к Фрунзе, глаза его будто пытались влезть поглубже в командарма, на широком лице отразилась исключительная фальшь, что сделало еще заметней его природную асимметрию.
– Товарищ Сталин просил его извинить. Он как раз заканчивает прием кантонской делегации.
Фрунзе почувствовал боль, напомнившую ему сентябрьский приступ в Крыму. Боль была незначительная, но страх, что за ней последует другая, более сильная, и что он оскандалится перед Политбюро, больше того – тут вдруг впервые как бы выкристаллизовалось, – даст увезти себя «под нож», этот страх будто выбил пол у него из-под ног; геометричность мира стремительно расплывалась. Он еще попытался ухватиться за политически мотивированное недоумение.
– Странно. Кажется, Уншлихт уже обсудил все вопросы с генералиссимусом Ху Хань Минем…
Шкирятов быстро подвинул ему стакан воды:
– Что с тобой, Михаил Васильевич?
Фрунзе уже не заметил знака, поданного Рыковым другим участникам совещания: дескать, оставьте его в покое; не очень отчетливо он осознал, что по заранее утвержденной повестке дня первым стал говорить Тухачевский.
На повестке дня было детище Фрунзе – военная реформа, то, чем он гордился больше, чем штурмом Перекопа. Согласно этой реформе РККА хоть и сокращалась на 560 тысяч войск, но становилась дважды мощнее и трижды профессиональнее. Вводилось смешанное кадровое и территориальное управление, принимался закон об обязательной военной службе, а также устанавливалось долгожданное единоначалие, то есть отодвигались в сторону политкомиссары, эти постоянные источники демагогии и неразберихи. Военная реформа окончательно устраняла партизанщину, закладывала основу несокрушимости боевых сил СССР.
Голова Фрунзе упала на стол, произведя странный неодушевленный звук, заставивший вздрогнуть весь могущественный совет. Он тут же встал и попытался выйти, однако на полпути к дверям, прижав платок ко рту, закачался. Платок окрасился кровью, и наркомвоенмор осел на ковер.
Курсанты охраны, явно еще не вполне обученные, как поступать в таких обстоятельствах, заметались по залу, кто к телу, кто к окну, кто к телефону, но тут же, то есть почти немедленно, появился отряд санитаров с носилками. Трудно сказать, были ли эти носилки составной частью «медицинского обеспечения» заседаний Политбюро, или их туда доставили специально к этому дню.
В создавшейся панике даже и посторонний внимательный наблюдатель мог бы растеряться и не заметить более чем странных взглядов, которыми обменивались некоторые участники совещания. Впрочем, его бы вскоре привел в себя трагический возглас Ворошилова:
– Крым не помог Михаилу!
Тогда среди возникшего вокруг лежащего тела сугубо сценического движения (любой двор, особенно в период междуцарствия, напоминает театр, и Кремль не был исключением) наблюдатель услышал бы ядовитый шепоток Зиновьева:
– Зато он помог Иосифу…
Трудно сказать, услышали ли эту фразу все присутствующие, несомненно, однако, что до самого Сталина она дошла. Он появился незаметно, выйдя из маленькой, сливающейся со стеной дверцы, и беззвучно прошел через зал в своих мягких кавказских сапожках. Обойдя вокруг стола и особенным образом обогнув Зиновьева – у последнего в этот момент возникло ощущение, что мимо проходит кот-камышатник, – Сталин приблизился к носилкам.
В этот момент Фрунзе делали инъекцию камфоры. Он очнулся от обморока и тихо простонал: «Это нервы, нервы…» Носилки подняли. Сталин на прощание притронулся ладонью к плечу наркома.
– Нужно привлечь лучших медиков, – произнес Сталин. – Бурденко, Рагозина, Градова… Партия не может себе позволить потерю такого сына.
Лев прав, думал Зиновьев, этот человек произносит только те фразы, которые хотя бы на миллиметр поднимают его выше нас всех.
Сталин прошел к столу и сел на свое место, и это место, одно из многих, почему-то вдруг оказалось центром овального стола. То ли, опять же по законам драмы, как на появившегося в поворотный момент, то ли по другим причинам, однако именно на Сталина смотрели оцепеневшие члены Политбюро и правительства. Было очевидно, что при всех двусмысленных толках вокруг болезни Фрунзе крушение могучего полководца внесло под своды Кремля мотив рока и мглы; как будто валькирии пролетели.
Сталин минуту или две смотрел в окно на проходящие по октябрьскому небу безучастные облака, потом произнес:
– Но древо жизни вечно зеленеет…
Товарищи с солидным стажем эмиграции вспомнили, что эту строчку из «Фауста» любил повторять и незабвенный Ильич.
– Давайте продолжим.
Мягким жестом Сталин предложил вернуться к повестке дня.
Под вечер того же дня многочисленные гости съезжались на дачу профессора Градова в Серебряном Бору. Готовился русско-грузинский пир в честь сорокапятилетия хозяйки Мэри Вахтанговны.
Из Тифлиса приехали старший брат виновницы торжества Галактион Вахтангович Гудиашвили и два племянника, сыновья сестры, Отари и Нугзар.
Никто, разумеется, не сомневался, что тамадой за праздничным столом будет Галактион. Крупный роскошный кавказец всегда полагал пиры гораздо более существенной частью жизни, чем свою работу весьма почитаемого у горы царя Давида фармацевта. Грозы революции, крушение недолговечной грузинской независимости, даже прошлогодний мятеж, свирепо подавленный чекистами Блюмкина, не отразились ни на внешности, ни на мироощущении этого «средиземноморского человека», каждое появление которого, казалось бы, обещало начало итальянской оперы или по крайней мере добрый флакон «любовного напитка».
Ну уж, конечно, не с пустыми руками прибыл в Серебряный Бор дядюшка Галактион. Для того, между прочим, и племянников взял, «бэздэлников», чтобы помогли транспортировать к праздничному столу три бочонка вина из заповедных подвалов Кларети, полдюжины копченых поросят, три оплетенных четверти душистой и свежей, как «поцелуй ребенка» («это Лермонтов, моя дорогая»), чачи, мешок смешанных орехов, мешок инжира, две корзины с отборными аджарскими мандаринами, корзину румяных груш, похожих на груди юных гречанок («без этих груш как мог я появиться пэрэд сэстрою?»), горшок сациви размером с древнюю амфору, два ведра лобио, ну, и некоторые приправы – аджика-шашмика, ткемали-шмекали; в общем, разные мелочи.
Немедленно по прибытии дядя Галактион отправился инспектировать приготовления к пиру и был весьма впечатлен запасами хозяев: тут были и водки, и коньяки, всевозможные заливные закуски, а также совсем было уж забытые, но появившиеся вновь в «угаре нэпа» такие деликатесы, как анчоусы и сельди «залом», радующий душу развал грибочков, огурчиков и помидорчиков, сыры нескольких видов – от целомудренного форпоста Голландии до растленного рокфора, а также сам вельможный осетр. В духовке томилось, ко всеобщему удовольствию, седло барашка.
– Мэри, любимая, поздравляю сестру! Вот это нэп, милостивые государи! Лучшая новая экономическая политика – это старая экономическая политика, а лучшая политика – это к чертовой матери всякая политика! – так возгласил тифлисский Фальстаф.
Большинство собравшихся уже гостей рассмеялось, а молодой поэт Калистратов, который все интересовался, где же младшая дочка Градовых Нина, прочел из Маяковского:
Спросили раз меня:
«Вы любите ли нэп?» —
«Люблю, – ответил я, —
Когда он не нелеп…»
Не все, впрочем, были в безмятежном настроении в этот вечер. Средний сын Градовых Кирилл, только весной окончивший университет историк-марксист, сердито передернул плечами при политически бестактной шутке своего дяди.
– Терпеть не могу все эти ухмылочки и рифмовочки вокруг нэпа, – сказал он Калистратову. – Им все кажется, что это наш конец, а ведь это только лишь «надолго», но не навсегда!
– На мой век, надеюсь, хватит, – вздохнул беспутный Калистратов и, не тратя времени, устремился к буфету.
Кирилл, прямой, бледный и серьезный, в убогой косоворотке, похожий на прежних фанатиков подполья, выделялся среди нарядных гостей. Если бы не боялся он обидеть мать, давно бы ушел в свою комнату и засел за книги. Чертов нэп, все «бывшие» закукарекали, эмиграция следит с придыханием, решили, что и впрямь можно повернуть историю вспять. Ну хорошо, с дяди Галактиона много не спросишь, отец вообще живет так, будто политики не существует, типичный вариант «спеца», мама вся в своих шопенах, молится украдкой, все еще обожает символистов, «ветер принес издалека песни весенней намек», однако и наше ведь поколение чем-то уже тронуто тлетворным, даже брат, красный комбриг, о Веронике уж и говорить нечего…
Возмущение юного пуританина можно было легко понять при взгляде на его родителей. Они не вписывались в революционную эстетику в той же степени, в какой их хлебосольный московский стол не совпадал с прейскурантом какой-нибудь советской фабрики-кухни. Красавица Мэри в длинном шелковом платье с глубоким вырезом, с ниткой жемчуга на шее, пышные волосы подняты вверх и завязаны античным узлом. Под стать ей и сам профессор, пятидесятилетний Борис Никитич Градов, совсем не отяжелевший еще мужчина в хорошо сшитом и ловко сидящем костюме и с аккуратно подстриженной бородкой, которая, хоть и не вполне гармонировала с современным галстуком, была, однако, необходима для продолжения галереи великих российских врачей. В праздничный вечер оба они выглядели по крайней мере на десять лет моложе своего возраста, и всем было ясно, что они полны друг к другу нежности и привязанности в лучших традициях недобитой русской интеллигенции.
Гости Градовых в основном тоже принадлежали к этому племени, ныне объявленному «прослойкой» на манер пастилы между двумя кусками ковриги. В начале вечера все они с очевидным удовольствием толпились вокруг друга дома ученого-физика Леонида Валентиновича Пулково, только что вернувшегося из научной командировки в Англию. Ну, посмотрите на Леонида, ну, сущий англичанин, ну, просто Шерлок Холмс.
Ан нет, настоящим англичанином вечера вскоре был объявлен другой гость, писатель Михаил Афанасьевич Булгаков; у того даже монокль был в глазу! Впрочем, Вероника, помогавшая свекрови принимать гостей, не раз ловила на себе не очень-то английские, то есть не ахти какие сдержанные, взгляды знаменитого литератора.
– Послушайте, Верочка, – обратилась к ней Мэри Вахтанговна. Вот, пожалуй, только в этом обращении и проявлялись традиционные семейные банальности, трения между свекровью и невесткой: последняя всех просила называть ее Никой, а первая все как бы забывалась и звала ее Верой. – Послушай, душка… – Тоже, прямо скажем, обращеньице, из какого тифлисского салона к нам пожаловало? – Где же твой муж, моя дорогая? – Вероника пожала великолепными плечами, да так, что Михаил Афанасьевич Булгаков просто сказал «о» и отвернулся.
– Не знаю, maman. – Ей казалось, что этим «maman» она парирует Верочку, но Мэри Вахтанговна, похоже, не замечала в таком адресе ничего особенного. – Утром он сопровождал главкома в Кремль, но должен был бы уж вернуться три часа назад…
«Хорошо бы вообще не вернулся», – подумал проходящий мимо с бокалом вина Булгаков.
– Пью за здравие Мэри, милой Мэри моей! Тихо запер я двери и один без гостей пью за здравие Мэри! – возгласил какой-то краснобай.
Начались стихийные тосты. Дядя Галактион стал шумно протестовать, говоря, что тостам еще не пришел черед, что произнесение тостов – это высокая культура, что русским с их варварскими наклонностями следует поучиться у более древних цивилизаций, делавших утонченные вина уже в те времена, когда скифы только лишь научились жевать дикую коноплю.
В общем, началось было шумное хаотическое веселье, именно такое состояние, которое и позволяет потом сказать «вечер удался», когда вдруг за окнами взорвалась шутиха, другая, забил барабан и послышались молодые голоса, скандирующие какую-то «синеблузную» чушь вроде: «Революции семь лет! Отрицаем мир котлет! Революция пылает, власть семьи уничтожает!» Это и были «синеблузники», последнее увлечение младшей Градовой, восемнадцатилетней Нины.
Гости высыпали на крыльцо и на террасу, чтобы посмотреть представление маленькой группы из шести человек. «Начинаем спектакль-буфф под названием «Семейная революция»!» – объявила заводила и тут же прошлась колесом. Заводилой как раз и была Нина, унаследовавшая от матери темную густую гриву, в данный период безжалостно подрубленную на пролетарский манер, а от отца – светлые, исполненные живого позитивизма глаза и взявшая от остального мира, столь восхищавшего всю ее юную суть, такую сильную дозу юного восхищения, что она сама порой казалась не каким-то отдельным имярек существом, а просто частью этого юного восхитительного мира в ряду искрящихся за соснами звезд, стихов Пастернака и башни Третьего Интернационала. Искрометному этому существу предстоит сыграть столь существенную роль в нашем повествовании, что нам, право, не доставляет никакого удовольствия сообщение о том, что акробатическая фигура, с которой она появляется на этих страницах, завершилась довольно неудачно – падением, и даже несколько нелепым приземлением на пару ягодичек, к счастью, достаточно упругих.
Вообще весь «буфф» оказался каким-то чертовски нелепым и почти халтурным, если к этому еще не добавить его бестактность.
Здоровенная орясина, пролетарский друг профессорской дочки Семен Стройло, накинув на свою юнгштурмовку какую-то несуразную лиловую мантию, а башку вбив в маловатый цилиндр, деревянным голосом зачитал:
Я профессор-ретроград,
У меня большой оклад.
На виду у всей страны
Я тиран своей жены.
Остальные участники труппы построили за его спиной довольно шаткую пирамиду и стали выкрикивать:
По примеру Коллонтай ты жене свободу дай!
Наша Мэри бунту рада, поднимает баррикаду!
Обнажив черты чела, говорит: «Долой обузу!
Я свободная пчела! Удаляюсь к профсоюзу!..»
Каждый восклицательный знак, казалось, вызывал все новые опаснейшие колебания, и гости следили не за дурацким текстом, а за столь шатким равновесием. В конце концов пирамида все-таки рухнула. Никто, к счастью, не пострадал, но возникла ужасная неловкость, возможно, даже и не от бездарности зрелища, а от подспудного ощущения фальшивости этого «бунтарства»: так или иначе, но «синие блузы» были на стороне правящей идеологии, а собравшиеся у Градовых либеральные «буржуа» всегда полагали себя в оппозиции.
– К столу, господа! К столу, товарищи! – закричал дядя Галактион.
Вдохновленные этим призывом Отари и Нугзар запели что-то грузинское и закружились в лезгинке вокруг Нины.
Провал «Семейной революции» подействовал на Нину, видимо, не менее сильно, чем на ее тезку Заречную – провал сочинения Треплева внутри сочинения Чехова. Нина, впрочем, не была еще так сильно огорчена превратностями жизни, как ее тезка, и поэтому, быстро забыв о пролетарской эстетике, нырнула к своим древним истокам, то есть встала на цыпочки и пошла мимо кузенов грузинской павой.
– Это, кажется, твое лучшее произведение, – сказал о ней ее отцу физик Пулково.
В суматохе рассаживания вокруг огромного стола два старых друга отошли к окну, за которым сквозь сосны просвечивало светлеющее над близкой Москвой небо.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?





































