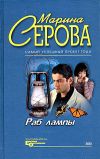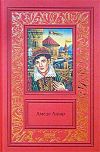Читать книгу "«…Только дни наши – вьюга». На СМЕРШ поэта"

Автор книги: Василий Авченко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Василий Авченко
«…Только дни наши – вьюга». На СМЕРШ поэта
Странный он выбрал себе псевдоним: «Несмелов».
Каким-каким, а несмелым он не был.
Но таким образом поручик Арсений Митропольский, закончив свою войну и сняв погоны, решил сохранить память о друге – белом офицере, погибшем под Тюменью.
Подписавшись «Арсений Несмелов», он и в литературе прописался под этим именем.
«Германская» и Гражданская
Родом поэт Несмелов – из войны. Об оружии он пишет не просто со знанием дела – почти с нежностью.
Вот о пулемете:
На чердаке, где перья и помет,
Где в щели блики щурились и гасли,
Поставили трехногий пулемет
В царапинах и синеватом масле.
Через окно, куда дымился шлях,
Проверили по всаднику наводку
И стали пить из голубых баклаг
Согретую и взболтанную водку…
О винтовке № 572967:
Две пули след оставили на ложе,
Но крепок твой березовый приклад…
О револьвере:
Ты – в вытертой кобуре,
Я – в старой солдатской шинели…
Нас подняли на заре,
Лишь просеки засинели…
Или вот, из прозы: «Смерть… пришла бы к нему в подвале местного ГПУ, ударив ему в затылок обряженной в никель пулькой из ствола автомата». Имеется в виду револьвер-«автомат», офицерский «самовзвод», курок которого не нужно было взводить вручную после каждого выстрела. В текстах профессионального военного много подобной невыдуманной конкретики.
Арсений Иванович Митропольский родился 8 июня 1889 года (сам он иногда почему-то указывал 1892-й) в Москве. 2-й Московский кадетский корпус, потом – Нижегородский Аракчеевский. Мир, война, снова война…
Его литературные родственники – и Денис Давыдов, и Лермонтов, и современники из разных окопов (прежде всего Гумилев – но и Тихонов, и Луговской…). Не в том дело, кого куда определила история, а в поэтическом первородстве, принадлежности к русской литературной традиции, которая выше разделения по баррикадам.
На «германскую» Митропольский попал в августе 1914 года в чине прапорщика – тогда это было первое офицерское звание. В составе 11-го гренадерского Фанагорийского полка воевал с австрийцами. В 1915-м награжден орденом Св. Станислава 3-й степени «За отличие в делах против неприятеля» (впереди будут еще три награды). В том же году выйдет первая книжечка – «Арсений Митропольский. Военные странички», хотя, по большому счету, это еще черновики…
В марте 1916 года Митропольский получает звание подпоручика, в ноябре становится начальником охраны штаба 25-го корпуса. Был ранен, 1 апреля 1917 года отчислен в резерв.
В российской прозе Первая мировая, попав в тень последовавших за ней событий, отразилась слабее, чем в западной, где были Ремарк, Хемингуэй, Гашек, Олдингтон, Селин, Барбюс, Юнгер… У нас «империалистическая» появляется у Алексея Толстого, Шолохова, Пастернака, Горького, Пильняка… – но как бы в неглавной роли, периферийно.
Военные рассказы Несмелова – замечательное исключение. Он оставил о Первой мировой суровые и крепкие, как военное обмундирование, тексты. После Великой Отечественной заговорят о «лейтенантской прозе», а здесь какая – «прапорщицкая», «поручицкая»? Именно Несмелов кажется предтечей советской «окопной прозы». Великолепный «Короткий удар», «Полевая сумка», «Мародер», «Военная гошпиталь», «Тяжелый снаряд», «Контрразведчик», «Полковник Афонин»… В них – детальное изображение военной реальности, психологии убивающего и умирающего. Исповедальная искренность – и в то же время какая-то офицерская, мужская сдержанность, осознанная скупость на «страшные» детали, юмор сильного человека. Пришедшие поколением позже Виктор Некрасов, Казакевич, Бондарев, Василь Быков, Константин Воробьев, Курочкин едва ли могли читать несмеловские рассказы – и тем удивительнее находить очевидную связь, родство биографий, интонаций, эмоций.
Сам Несмелов, в свою очередь, наследовал Куприну. Он даже учился в том же самом кадетском корпусе (только позже) и посвятил Куприну рассказ «Второй Московский».
Осенью 1917 года Митропольский участвует в антибольшевистском восстании юнкеров в Москве.
Потом около двух лет воюет у Колчака. Становится поручиком, адъютантом коменданта Омска, где публикует стихи за подписью «Арс. М-ский» в газете «Наша армия». Дальше – Сибирский ледяной поход, трагическое отступление с войсками Каппеля от Омска до Читы…
О Гражданской он напишет тоже. Изобразит уличный бой в Москве, мятеж в Иркутске («У Никитских ворот», «Кадетское восстание», «Аш два О», «Трудный день поручика Мухина»)… Здесь Несмелов созвучен и газдановскому «Вечеру у Клэр», и булгаковской «Белой гвардии».
Это честная проза. В ней нет лишнего (и часто фальшивого) пафоса, самогероизации… Разве что красных партизан Несмелов порой изображал уж совсем какими-то звероподобными людоедами – но, бывало, и советские авторы изображали белых примерно теми же красками.
Несмелов сверял свою жизнь с судьбой Николая Гумилева. В стихах «Моим судьям» даже предрекал собственный расстрел. Чуть ли не надеялся на него, веря, что насильственная смерть смывает вольные и невольные прегрешения…
Не угадал. Его не расстреляли, как Гумилева. Но и Несмелов не просто умер – все-таки погиб.
Балаганчик на далекой окраине
Вскоре после падения Колчака Митропольский попадает в еще не советский Владивосток.
Город, наводненный интервентами, трясет от переворотов. Кто только не мелькал здесь – от будущего изобретателя телевизора Владимира Зворыкина до разведчика и писателя Сомерсета Моэма и другого разведчика – создателя самбо Василия Ощепкова. «Скромный окраинный город был тогда похож на какую-нибудь балканскую столицу по напряженности жизни, на военный лагерь по обилию мундиров», – писал востоковед Константин Харнский. Несмелов: «Военные корабли в бухте, звон шпор на улицах, плащи итальянских офицеров, оливковые шинели французов, белые шапочки моряков-филиппинцев. И тут же, рядом с черноглазыми, миниатюрными японцами, – наша родная военная рвань, в шинелях и френчиках из солдатского сукна».
Митропольский приехал во Владивосток из Китая по фальшивому документу на имя писаря охранной стражи КВЖД («Писарем в штабе отсиделся…» – позже говорил балабановский Данила Багров). Денег не было. Продал браунинг, симулировал сердечный приступ и получил передышку в госпитале у Гнилого Угла.
Вскоре случилось «японское выступление»: «Мимо госпиталя… потянулись в сопки отряды красных, покидающих Владивосток, чтобы превратиться в партизан. Ночью застучал пулемет. Завизжала и забухала шрапнель. Японцы разоружали оставшиеся красные части». В эти апрельские дни 1920 года японцы схватят во Владивостоке Сергея Лазо, Алексея Луцкого и Всеволода Сибирцева. Вскоре их сожгут в паровозной топке. В Спасске-Дальнем получит ранение в бедро двоюродный брат Сибирцева – юный комиссар Булыга, он же – будущий писатель Александр Фадеев…
Митропольский погон уже не носит и в боях ни на чьей стороне не участвует. На госпитальной койке он просматривает газеты и удивляется обилию стихов. Вспомнив о своих московских опытах – он ведь немного публиковался еще до войны в «Ниве», – выпрашивает у фельдшера рецептурной бумаги и пишет стихи «Соперники» («Интервенты»), навеянные обилием иностранных мундиров на владивостокских улицах. Не самые сильные его стихи – зато впервые подписанные новым псевдонимом.
Их через считаные дни опубликует местная газета «Голос Родины». Так весной 1920 года появился на свет поэт Арсений Несмелов. Во Владивостоке в 1921, 1922 и 1924 годах выйдут три его книги: «Стихи» (в Приморье еще была в ходу старая орфография, и на титуле значилось: «Арсенiй Несмѣлов»), «Тихвин», «Уступы».
А тогда он сидел с этой самой газетой в саду у памятника Невельскому, улыбался… Рядом присел японец, заговорил. Это был Реноскэ Идзуми – издатель японоязычной газеты «Владиво-Ниппо». Предложил Несмелову редактировать русский выпуск. Безработный бывший офицер согласился.
Он будет об этом вспоминать со свойственными ему откровенностью («…пусть врут другие. Мне не хочется») и юмором, не пытаясь казаться лучше, чем есть: «Русский листок при японской газете… стал официозом японского оккупационного корпуса… Из числа девушек, с которыми перезнакомился, я выбрал самую грамотную (и хорошенькую) и сделал ее корректором. Из огромного количества лиц, посещавших редакцию с предложением услуг, я оставил себе одного полковника кроткого вида и посадил его за писание статей, целью которых было доказать, что без японских оккупационных войск Владивосток погиб бы. Боже мой, как нас “крыли” оставшиеся в городе красные газеты. Особенно доставалось нам от Насимовича-Чужака… редактировавшего тогда коммунистическое “Красное знамя”. Асеев, писавший стихотворные фельетоны в левой “Далекой окраине”, тоже не однажды пробовал кусаться. Мы отбивались не без успеха: я – стихотворными стрелами, полковничек – тяжелой артиллерией своих статей…». Критиковали то красных, то белых – для «равноудаленности». Тут, как и позже в Харбине, поэту было не до брезгливости.
Но газета скоро надоела, ею больше занимался полковник. Пришло лето, Митропольский купался, загорал…
В эти годы Владивосток был одной из культурных столиц России. Революционные вихри заносили на край пылающей империи поэтов, артистов, музыкантов. В конце 1917 года во Владивосток – «город, высвистанный длинными губами тайфунов, вымытый, как кости скелета, сбегающей по его ребрам водой затяжных дождей…» – попал поэт Николай Асеев, мобилизованный на «германскую» и попросту бросивший службу. Полуазиатский город показался ему чуждым, но скоро он освоился, начал писать стихи о морепродуктах и оборудовал в подвале на углу Светланской и Алеутской знаменитый «Балаганчик», где проводила время богема. В городе объявились поэты Сергей Третьяков, Давид Бурлюк… Здешний журнал «Творчество» заметили Брик и Маяковский.
«Во Владивостоке в то время было около пятидесяти действующих (как вулканы) поэтов», – вспоминал Несмелов. Одни партизанили в сопках, другие бурлили в «Балаганчике»: Алымов, Венедикт Март, Юрий Галич, Алексей Ачаир, Леонид Чернов… Партизан Петр Парфенов в начале 1920 года написал во Владивостоке стихи «По долинам и по взгорьям». Позже их отредактировал Сергей Алымов, и они стали песней о событиях уже не 1920, а 1922 года: «…Штурмовые ночи Спасска, Волочаевские дни».
Несмелов бывал в «Балаганчике». Печатался. В его стихах появился Владивосток, причем непарадный:
Я шел по трущобе, где «ходи»
Воняли бобами, и глядь –
Из всхлипнувшей двери выходит,
Шатаясь, притонная…
Это о «Миллионке» – кварталах, где ютились китайцы, курился опиум, прятались контрабандисты, процветали притоны.
Напишет он и о владивостокской эпидемии чумы 1921 года: «По утрам, выходя из своих домов, мы наталкивались на трупы, подброшенные к воротам и палисадникам… По ночам родственники умерших выволакивают мертвецов на улицу и бросают подальше от своих домов… За трупами приезжает мокрый от сулемы грузовик». Несмелов подшучивал над Асеевым, не выходившим из дома без респиратора.
Третьяков уехал в Пекин, Асеев – в Читу, Бурлюк – в Японию. В октябре 1922 года во Владивосток вошла армия Дальневосточной республики под командованием Иеронима Уборевича. Многие потянулись в эмиграцию, в основном в соседний Китай – как писатель, летчик и фотограф Михаил Щербаков, написавший о тех днях: «Вся прежняя Россия, найдя себе отсрочку на три года, микроскопически съежилась в этом каменном котле, чтобы снова расползтись оттуда по всем побережьям Тихого океана».
«Россия отошла, как пароход», – напишет Несмелов об уходе флотилии адмирала Старка.
Сам он остался. Потом думал: почему? Чтобы получше понять тех, с кем воевал два года?
Еще до прихода армии ДВР Митропольский с компанией друзей наткнулся на островке Коврижка в Амурском заливе на двоих партизанских связных. И у тех, и у этих было оружие, но разошлись мирно: «Злоба гражданской войны уже угасла в нас, хотя почти все мы еще недавно были офицерами». Слишком ласковы были море и небо, слишком «обмякли» офицеры от стихов и богемного образа жизни… Уже не вышло бы убить так естественно, как выходило два года назад, а значит, решил Несмелов, убивать и не надо.
Поэт-«харбинец» Валерий Перелешин потом напишет: Несмелов сразу «угадал… смысл японской интервенции в Сибири и понял, что целью вмешательства была вовсе не борьба с коммунизмом». Японцы хотели попросту аннексировать Приморье и Приамурье. Возможно, с этим связаны неожиданные для Несмелова стихи «Партизаны» – сочувственные по отношению к этим самым партизанам:
…А потом японский броневик
Вздрогнет, расхлябяснут динамитом.
Красный конь, колеса раздробив,
Брызнет оземь огненным копытом.
И за сопки, за лесной аул
Перекатит ночь багровый гул…
Хотя сам-то он с японцами сотрудничал – из насущных, конечно, соображений, даже не пытаясь искать себе оправдания в виде «священной борьбы с красной заразой» или «роковой ошибки».
Когда один из последних белых правителей края Николай Меркулов сказал Несмелову, что Приморье скоро станет японским генерал-губернаторством, тот пожал плечами: «Я ничего не имел против японского генерал-губернаторства».
Были ли у Несмелова вообще политические взгляды? И обязательны ли они? Он мог называть себя хоть монархистом, хоть фашистом, но возникает ощущение, что все эти «-измы» были ему по большому счету безразличны. В отношении к смене власти он порой кажется фаталистом.
Он, конечно, ярко-«белый» – но в его случае, тем более сегодня, деление на белых и красных вообще теряет смысл. Как сформулировал чтимый Несмеловым Маяковский, «багровый и белый отброшен и скомкан».
У Несмелова был безупречный слух поэта, чутье на пошлость. Последние белые правительства не могли вызвать у него сочувствия уже чисто по эстетическим соображениям: «Трагедия борьбы белых с большевиками в то время на Востоке уже выродилась в комедию. Не “опереточными” ли правительствами называла владивостокская пресса всех этих Медведевых, Меркуловых и, наконец, Дитерихсов с их “воеводствами”, “приходами” и прочим…» Не потому ли он не ушел с Дитерихсом и Старком в эмиграцию осенью 1922 года, а задержался во Владивостоке еще почти на два года?
Без компаса
До поры ничего страшного с «бывшими» не происходило. Ходили отмечаться в ГПУ (дальше пригородной Угольной уезжать было нельзя) как представители белого комсостава с соответствующей отметкой в паспорте. Работали – кто где…
«Владиво-Ниппо», выйдя после прихода красных еще два-три раза, самоликвидировалась. Редактор «Красного знамени» (главной приморской газеты вплоть до перестройки) Рахтанов, «милейший из коммунистов», предлагает Несмелову заведовать литературно-художественным отделом. Тот соглашается, пишет стихотворные фельетоны, нимало не смущаясь сменой приоритетов: «На другой день я выругал Меркулова и сделал это не без удовольствия».
Рахтанова вскоре уволили за «слишком большой интерес к владивостокским ресторанам» (после чего он умер от заворота кишок), а новый редактор, узнав о прошлом Несмелова, работать с ним не захотел.
Чтобы получить работу, нужно вступить в профсоюз, но туда Несмелова не принимают. «Жизнь в городе стала мне не по карману. Я перебрался за Чуркин мыс, за сопки, в бухту Улисс. Где жить, мне стало уже безразлично: у бухты этой, по крайней мере, красивое имя…»
Это была тихая окраина. Несмелов бродит по Морскому кладбищу, начавшемуся с захоронения матросов «Варяга». Пишет стихи:
И прячется в истлевшие гроба
Летучая свистящая ватага…
Трубит в трубу – тайфун его труба –
Огромный боцман у креста «Варяга».
Его уже не печатают. Вскоре закрылась последняя некоммунистическая газета – тот самый «Голос Родины». «Зимой я стал жить тем, что, пробив луночку во льду бухты, ловил навагу. Профессия, ставшая модной во Владивостоке среди «бывших». Моим соседом по луночке был старый длинноусый полковник. Таскали рыбку и ругали большевиков, а десятого числа каждого месяца являлись вместе в комендатуру ГПУ», – вспоминал поэт.
Я у проруби, в полушубке,
На уступах ледяных глыб –
Вынимаю из темной глуби
Узкомордых крыластых рыб…
(Не могу не провести историческую параллель: в 1993 году, в пору новой смуты, ту же самую навагу ловил во Владивостоке мой отец, когда его зарплаты доктора наук перестало хватать на семью. Мы с ним потом продавали эту рыбу на рынке…)
Неслучившийся вариант несмеловской судьбы – жизнь Владимира Арсеньева. Арсений и Арсеньев познакомились во Владивостоке в 1920-м. Несмелов высоко оценил таежные повести Арсеньева, увидел в них тонкую поэзию…
Вероятно, Арсеньев, скончавшийся в 1930-м от воспаления легких, подхваченного в экспедиции на нижний Амур, не пережил бы репрессий конца 30-х, когда под удар попадали не только «бывшие», но и ортодоксальные красные командиры. Вдову Арсеньева Маргариту в 1938-м расстреляли как участницу контрреволюционного заговора, будто бы возглавлявшегося ее покойным мужем (при этом книги Арсеньева – причуда эпохи – продолжали выходить, в 1945-м во Владивостоке появилась и улица его имени…).
Но тогда до трагических развязок было еще далеко. Бывшие офицеры выбирали.
Арсеньев выбрал одну судьбу, Несмелов – другую. Или можно сказать так: их выбрали разные судьбы.
Царский офицер, разведчик, ученый… – Арсеньев не участвовал в Гражданской и принял новую власть.
Несмелов, наверное, мог бы жить при любом режиме, если бы ему не перекрывали кислород. Не ушел же он в 1922-м, когда таял последний островок прежней России… Он был далек от любого фанатизма. Жил, работал, воевал там, где выпадало. Люди тогда оказывались в разных окопах, а нередко и меняли сторону баррикад в силу стечения самых разных обстоятельств, из которых идеология стоит далеко не на первом месте.
Тем более война закончилась. Казалось, нация мирится сама с собой, и вот уже белый генерал Слащев – прототип булгаковского Хлудова – преподает на курсах красных командиров «Выстрел»…
А Митропольский думал о том, как и на что ему жить. Придумать не мог.
…Раз бывшие офицеры сидели в матросском кабачке «За уголком». Пили водку, закусывая почему-то мороженым. Кто-то – может быть, Митропольский – вдруг сказал: «Господа, драпанем в Харбин!»
И – драпанули.
Митропольский продал свой «Ундервуд». Пошел к Арсеньеву – тот заведовал во Владивостоке краеведческим музеем, ныне носящим его имя. Автор «Дерсу Узала» обнаружился у чучела тигра, под которым еще несколько лет назад спали французские интервенты. Отвел поэта в уголок, чтобы не услышал сторож, изложил соображения о маршруте и, рискуя, дал Несмелову карту и компас.
Есть легенда, что поэт ушел в Китай, узнав о том, что готовится его казнь. Это не так. Когда Несмелов пришел в последний раз отметиться в ГПУ, ему сказали, что готовы снять его с учета, если за него поручатся двое членов профсоюза (того же Арсеньева сняли с учета как раз в 1924-м). Тогда Несмелов смог был поехать в Москву, где у него были знакомые…
Но пишущая машинка была продана, новые ботинки торопили ноги в поход, да и Харбин тогда был не совсем заграницей. Как писал сам Несмелов:
Инженер. Расстегнут ворот.
Фляга. Карабин.
«Здесь построим русский город,
Назовем – Харбин»…
Правдами и неправдами он выпросил в типографии Иосифа Коротя полсотни экземпляров своих «Уступов», за печать которых еще не было заплачено. Тут же продал часть знакомым, часть взял с собой, а еще часть разослал тем, чьим мнением дорожил, – например Пастернаку. Потом, уже из Китая, Несмелов завяжет переписку и с Цветаевой. Это важно: он не рвал связей с родиной. Ниша местечкового эмигрантского поэта была ему тесна. Главное русло языка оставалось в СССР. Вряд ли Несмелов надеялся или тем более намеревался вернуться. Но ручеек, даже превратившись в старицу, по-прежнему чувствовал свою принадлежность к большому потоку.
В стихах «Переходя границу» он напишет, что берет с собой на чужбину –
…Да ваш язык. Не знаю лучшего
Для сквернословий и молитв.
Он, изумительный, – от Тютчева
До Маяковского велик.
Нетипичное для «белого» упоминание. Несмелов даже посвятил «гению Маяковского» стихи «Оборотень». И Маяковский его заметил, передал привет через Третьякова…
Уходили в конце весны или летом 1924 года.
По прямой от Владивостока до Китая – недалеко: перебраться через Амурский залив (10–15 км), потом еще километров 40 тайгой и сопками нынешнего Хасанского района.
Чтобы не привлекать внимания, пятерка друзей добралась на поезде до Седанки – малонаселенного пригорода. Отсюда на заранее нанятой китайской лодке «юли-юли» переправились на западный берег залива и пошли к границе.
Блуждали 19 дней с приключениями. Вечером у костра шутили, с кого именно тигр начнет их поедать. Арсеньевский компас в первый же день потеряли. «Все мы в качестве таежных путников… представляли собою весьма комичную картину… Все мы были мечтателями и в житейском отношении большими разгильдяями», – писал Несмелов. Сам он шел в ночных туфлях. Ботинки нес за спиной – берег.
…Наверное, он мог бы стать заметным советским литератором. Другой вопрос – пережил бы 1937 год? Сослагательного наклонения история не терпит, но вопросы-то остаются.
Так или иначе, Несмелова вытолкнуло в Харбин, и он получил отсрочку.
В затонувшей субмарине
Проживший в Харбине 21 год, Несмелов – больше харбинец, чем житель какого-либо другого города.
Харбин стал восточным центром русской эмиграции. Он и до революции был городом скорее русским, чем китайским, поэтому и притягивал «бывших». А уже отсюда судьба несла эмигрантов дальше – в Европу, Америку…
В Харбине действовали литературные объединения, выходили русские журналы, книги. Здесь печатались поэт Валерий Перелешин, анималист Николай Байков, Борис Юльский – «Джек Лондон русского Китая», Алексей Ачаир, Леонид Ещин, Марианна Колосова, Ларисса Андерсен… Сюда заносило таких людей, как идеолог национал-большевизма Николай Устрялов и ученик Рериха – мистик-теософ Альфред Хейдок.
Несмелов активно публиковался в «Рубеже», «Луче Азии», «Рупоре»… «Выписал» из Владивостока жену и дочку (но семья скоро распадется; была у него где-то в СССР и другая жена, с другой дочкой…). В 1929 году в Харбине выходит сборник стихов «Кровавый отблеск», в 1931-м – «Без России», в 1938-м – «Полустанок», в 1942-м – «Белая флотилия». В 1936-м в Шанхае изданы несмеловские «Рассказы о войне». В 1941-м он составляет и издает в Харбине «Избранные стихотворения» Блока. Пробует силы в крупной форме, начинает роман «Продавцы строк»…
Несмелов был одной из ведущих фигур литературного Харбина, но держался особняком. Его считали слишком независимым, даже надменным. Да он был и старше большинства харбинских литераторов. Одни называли его циником, другие видели под маской циника – романтика…
Не раз белоэмигранты обвиняли его в симпатиях к большевикам.
«Он воспринимал революцию и Гражданскую войну как возмездие за всю историческую вину нации и был лишен иллюзий, какими жила изрядная часть эмиграции», – указывает литературовед Александр Лобычев.
Неодобрительные по отношению к Февралю стихи Несмелова «В этот день» вызвали раздраженные отзывы в эмигрантской печати. Поэт считал, что империя погибла именно в Феврале, который и привел к Октябрю:
В этот день страна себя ломала,
Не взглянув на то, что впереди…
…В этот день в отпавшем Петрограде
Мощного героя не нашлось…
…Неужели, Боже, нет прощенья
Нам за этот сумасшедший день!
И это он же, колчаковец Несмелов, писал об СССР:
…Но по ночам – заветную строфу
Боюсь начать, изгнанием подрублен, —
Упорно прорезающий тайфун,
Ты близок мне, гигант четырехтрубный!
…
Я, как спортсмен, любуюсь на тебя
(Что проиграю – дуться не причина)
И думаю, по-новому любя:
– Петровская закваска… Молодчина!
(«Четырехтрубный» – потому что сначала СССР состоял из четырех республик: Российской, Украинской, Белорусской и Закавказской).
Мог ли кто-то еще из его окружения так написать?
В 1925-м в газете «Советская Сибирь» вышла поэма Несмелова «Декабристы». До 1927 года он редактировал в Харбине советскую газету «Дальневосточная трибуна». В СССР его печатали вплоть до 1929 года – например, в «Сибирских огнях», и даже присылали гонорары (советские рубли имели хождение на КВЖД). На родине вышли и «Короткий удар», и «Баллада о даурском бароне» – об Унгерне:
К оврагу,
Где травы рыжели от крови,
Где смерть опрокинула трупы на склон,
Папаху надвинув на самые брови,
На черном коне подъезжает барон…
Из-за всего этого (а также из-за подозрительно легкого ухода в Китай) кое-кто в Харбине считал Несмелова агентом Москвы.
Мог ли он вернуться, как Куприн? Думал ли об этом?
Харбинские рассказы Несмелова уникальны описанием взаимопроникновения русского и китайского. Особое его внимание вызывает маньчжурский «пиджн»: «бойка» (прислуга – от boy), «полиза» (полиция), «машинка» (мошенник)… Появлялись и новые слова-мутанты. Например, слова «шанго» («хорошо»), как писал Несмелов, нет ни в русском, ни в китайском: «Китайцы думают, что это русское слово, мы – что оно китайское».
В рассказе «Драгоценные камни» главное – не авантюрный сюжет, а сама жизнь русских в Китае. О том же – рассказ «Ламоза» (так звали окитаившихся русских), в котором действует «русский хунхуз»…
О русском мальчике, уже не знающем русского языка:
…В этом – горе все твое таится:
Никогда, как бы ни нудил рок,
С желтым морем ты не можешь слиться,
Синеглазый русский ручеек!
До сих пор тревожных снов рассказы,
Размыкая некое кольцо,
Женщины иной, не узкоглазой
Приближают нежное лицо.
И она, меж мигами немыми,
Вдруг, как вызов скованной судьбе
Русское тебе прошепчет имя,
Непонятное уже тебе!
Сдержанно-печален несмеловский взгляд на судьбу русской эмиграции:
Мы – не то! Куда б ни выгружала
Буря волчью костромскую рать –
Все же нас и Дурову, пожалуй,
В англичан не выдрессировать!
Пять рукопожатий за неделю,
Разлетится столько юных стай!..
… Мы – умрем, а молодняк поделят
Франция, Америка, Китай.
Или:
Сегодня мили и десятки миль,
А завтра сотни, тысячи – завеса.
И я печаль свою переломил,
Как лезвие. У самого эфеса.
Пойдемте же! Не возвратится вспять
Тяжелая ревущая громада.
Зачем рыдать и руки простирать,
Ни призывать, ни проклинать – не надо.
Стихами «В затонувшей субмарине» он отвечает гумилевской «Волшебной скрипке»:
Облик рабский, низколобый
Отрыгнет поэт, отринет:
Несгибаемые души
Не снижают свой полет.
Но поэтом быть попробуй
В затонувшей субмарине,
Где ладонь свою удушье
На уста твои кладет.
И все-таки Харбин был пока еще русским городом, где поэт мог жить, хотя и не всегда на литературные заработки, – случалось Несмелову работать и ночным сторожем на складе.
Но вот в 1931 году Маньчжурию оккупируют японцы. Они создают тут государство («марионеточное», как неизменно подчеркивалось в советских источниках) Маньчжоу-го. СССР готовится к большой войне, которая, как казалось тогда, начнется именно здесь – на Востоке. К Японии отходит КВЖД. В Китае рушится система русского образования. Русские теряют работу, уезжают – в Тяньцзин, Пекин, многоязычный Шанхай, в Европу… Харбин становился все менее русским. Многие эмигранты делались «оборонцами», не принимая «ниппонской» (теперь под страхом наказания нужно было писать «Ниппон» и «ниппонцы») оккупации, начинали с симпатией смотреть на СССР, думали о возвращении на Родину…
Наверное, мог стать «оборонцем» и Несмелов, которому теперь приходилось перебиваться сочинением рифмованных реклам для зубных врачей («Даже откровенная халтура, совершенно нечитабельная в исполнении некоторых коллег Несмелова по цеху, под его пером обретала некий шарм», – писал литературовед Владислав Резвый).
Но вышло иначе: поэт вступил во Всероссийскую фашистскую партию Константина Родзаевского. На заказ писал партийные марши и прояпонские стихи («Великая эра Кан-Дэ»), придумал себе псевдоним-маску – «Николай Дозоров». В 1936 году его поэма «Георгий Семена» вышла со свастикой на обложке, а сборник стихов «Только такие!» предваряло предисловие Родзаевского (фигура интересная и драматическая – чего стоит его покаянное письмо Сталину, не спасшее «фюрера» от расстрела, и добровольная сдача СМЕРШу).
В 1941-м Несмелов поступил на курсы политической подготовки, организованные японцами при разведшколе в Харбине. По окончании курсов его зачислили в Японскую военную миссию сотрудником 4-го отдела. Имел псевдоним «Дроздов», преподавал на курсах пропагандистов основы литературно-художественной агитации. В мае 1944 года Дроздова перевели в 6-й отдел миссии, где он служил до занятия Харбина Красной армией в 1945 году.
Несмелов всегда интересовался советской литературой, а теперь как сотрудник японской миссии получил доступ к прессе СССР – не за тем ли он и пошел в пропагандисты? Высоко отзывался о Маяковском, Симонове, Маршаке… Даже пробовал писать рассказы из советской жизни («Маршал Свистунов»).
На лодке «Удача» с другом ходил по Сунгари на рыбалку. Пил водку, которую готовил местный грек по русскому рецепту. Писал роман в стихах «Нина Гранина». В 1944-м или 1945-м хотел издать новый сборник стихов и даже закупил бумагу, но потом впал в апатию…
Приближался 1945-й, ставший для СССР победоносным, а для Несмелова – роковым. Отсрочка истекала. Мина замедленного действия – сотрудничество с японцами, начатое во Владивостоке и продолженное в эмиграции, – стала на боевой взвод.
«До самой смерти ничего не будет»
«В Харбине ничего интересного со мной не происходило», – завершил Несмелов свои записки об уходе в Китай, словно сбивая пафос. Но сама судьба поправила его, поставив символическую и трагическую точку.
Впрочем, Несмелов прав: все самое интересное и самое страшное действительно происходило с ним на родине, которая так его и не отпустила.
Его арестовали в Харбине 23 августа 1945 года. Мягко говоря, не без оснований, – едва ли здесь можно предъявить СМЕРШу какие-то претензии.
Он не скрывался, не бежал. Сценарист Андрей Можаев – сын писателя Бориса Можаева, которому о Несмелове рассказывал вернувшийся в СССР «харбинец» Всеволод Ник. Иванов, – приводит легенду о том, что Несмелов ждал ареста по-гумилевски спокойно. Отдал честь и револьвер советскому офицеру, выпил рюмку водки и попросил расстрелять его на рассвете.
Расстреливать не стали – повезли в СССР, в Приморье.
Под стражей Несмелов держался бодро, развлекал арестантов рассказами и анекдотами.
«До самой смерти ничего не будет», – то и дело говорят персонажи его рассказов: авантюристы, сорви-головы, вояки… Не поспоришь.
Несмеловская смерть – послесловие, с четкостью оружейной детали примыкающее к рассеянным по эмигрантским изданиям стихам и рассказам. «Как красива может быть смерть и как глупа, безобразна жизнь!» – однажды написал он.
6 декабря 1945 года 56-летний Арсений Митропольский умер на цементном полу пересыльной тюрьмы пограничного поселка Гродеково от инсульта.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!