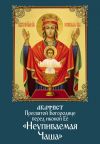Текст книги "Пущин в селе Михайловском"

Автор книги: Василий Авенариус
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)
IV
– Ну что, касатики мои, наговорились? – спросила Арина Родионовна, входя к двум друзьям и ласково оглядывая обоих. – Не с кем ведь ему, бедненькому, окромя меня, и слова-то перемолвить! Все, вишь, один да один! Говорила уж ему, чтобы сестрицу свою, Ольгу Сергеевну, сюда выписал; детьми жили ведь, бывало, душа в душу…
– Да что ей скучать со мною всю зиму в деревне! – прервал Пушкин.
– А ведь тебе здесь, Александр, в самом деле иной раз, должно быть, скучновато? – заметил Пущин.
– С музой моей я живу в ладу, захочется сказок послушать – у няни их непочатый край; а взгрустнется – так до соседок наших в Тригорском рукой подать. Знаешь что, Пущин: не съездить ли нам сейчас к ним? И мать, и дочери – прелюбезные, премилые…
– Верю тебе, дружище, – сказал Пущин. – Но приехал я сюда ради тебя одного; знакомиться же, хотя бы и с милыми людьми, на один день, чтобы потом уже вовеки не встречаться, что за радость? Дай мне на тебя-то наглядеться.
– А что он, батюшка, за пять лет много переменился? – полюбопытствовала Арина Родионовна.
– Немного, только бакенами оброс да лицом что-то бледен.
– А все оттого, что целый день над бумагами своими сидит, – одно горе! Летом хошь у озера погуляет, у речки. Озеро-то у нас Петровское важнеющее; да и речка Сороть хорошая…
– Жаль, значит, что мне нельзя их теперь видеть!
– Такая уж жалость! Было бы, по крайности, чем похвастать перед столичным гостем.
– А что же, няня, – вставил Пушкин, – будто тебе уже нечем похвастать?
– Чем мне хвастать-то?
– Как чем? Да своей рукодельной командой.
– Мастерицы они у меня, точно, стыдиться нечего. Только рукоделье-то деревенское…
– Вот это-то и дорого для столичного человека, – сказал Пущин. – Я с особенным удовольствием посмотрел бы, как они у тебя работают.
Все морщины на лице старушки разгладились, расплылись от блаженной улыбки.
– Коли так – милости просим.
Оба приятеля последовали за нею через коридор в ее покои. Еще из-за притворенной двери доносилось оттуда звонкое щебетанье нескольких молодых женских голосов. При входе господ пять-шесть девушек, сидевших за пяльцами, с поклоном встали. Арина Родионовна, важно приосанясь, начала обход, объясняя гостю каждую работу. Тот, хотя и не знал толку в женских рукоделиях, не мог, однако, не видеть, что работа очень аккуратная и чистая, и почел долгом сказать как мастерицам, так и их руководительнице несколько ласковых слов.
– О, она у нас – настоящий ротный командир! – шутливо заметил Пушкин. – Такая строгость и дисциплина, что ой-ой-ой!
Девушки не выдержали, захихикали; но «командирша» только повела глазами – и хохотушки разом присмирели.
– А что, Александр, не покажешь ли ты мне и остальных своих владений? – спросил Пущин, когда они выбрались опять в коридор.
– Они на зиму заперты и нетоплены, – отвечал Пушкин.
– Что ж такое? Мне бы только окинуть взором, как ты тут устроился.
Пушкин отпер ближайшую дверь в довольно просторную комнату, посреди которой стоял бильярд. Навстречу им пахнуло совершенно зимней стужей.
– Однако! – сказал Пущин. – Тут, в самом деле, хоть волков морозь. Когда же и с кем ты играешь на бильярде?
– А вот, до морозов играл в два шара с самим собой.
– Весело, нечего сказать! Да что ты, братец, дров, что ли, жалеешь?
– Не я, мой друг, а Родионовна, – отвечал Пушкин, понижая голос. – Она у меня, ты не поверишь, как бережлива…
– Бережливость бережливости розь. Запереть своего барина, обожаемого вдобавок, как арестанта, в одну клетушку! Это, как хочешь, некрасиво. Сейчас ей так и скажу…
– Оставь, пожалуйста! Зачем огорчать старуху? До весны и так уж недолго…
– Недолго! Целых четыре месяца.
– Да мне в моей клетушке, уверяю тебя, даже уютней: не так хоть пусто…
На этих словах Пушкин расчихался.
– Ну вот, – сказал Пущин, – и насморк готов! Идем-ка, идем опять в твою клетушку. А няне твоей я все-таки этого не спущу.
И пока Пушкин запирал опять бильярдную, он постучался к няне:
– А, Арина Родионовна! Пожалуй-ка сюда на расправу.
Но как только та выглянула из-за двери: «Что, батюшка мой», – Пушкин предупредил приятеля:
– Да вот он, как волк, проголодался и хочет знать, скоро ли ты наконец угостишь его обедом?
Старушка руками всплеснула:
– А у меня, старой, и из ума вон! Сейчас бегу на кухню, милые вы мои, сию минуту!
И дверь ее захлопнулась у них перед носом.
V
В «клетушке», действительно, было куда уютней: затопленная тем временем печь весело трещала, распространяя тепло и свет. В ожидании обеда два друга, обнявшись за плечи, начали ходить вместе взад и вперед.
– В Крыму ты, значит, пробыл всего три недели и вернулся опять в Екатеринослав? – возобновил Пущин прерванный давеча няней разговор.
– Нет, туда я, к счастью, уже не попал, – отвечал Пушкин. – Раевские завезли меня сперва в Киевскую губернию, в село Каменку, к матери старика Раевского, а оттуда, через несколько дней, я отправился прямо в Кишинев, куда между тем перебрался уже Инзов со своим попечительным комитетом.
– Он был ведь назначен наместником Бессарабской области, вместо Бахметева?
– Да, временно, пока тот вылечится от ран, а через год, когда и генерал-губернатор Ланжерон уехал за границу в бессрочный отпуск, Инзову поручили управлять также всем Новороссийским краем. Поселился я было в глиняной мазанке одного русского переселенца, но Инзов предложил мне две комнатки в своем наместническом доме: одну – собственно для меня, другую – для моего Никиты.
– Дом этот проездом мне, помнится, показывали; стоит он ведь особняком на пригорке?
– Да, и окна мои выходили прямо в сад, на виноградник. Под скатом – лощина с речкой Быком и озером; налево – каменоломни и новый город, а на горизонте – горы с белыми мазанками. Вид чудесный – даже сквозь решетки окон.
– Так тебя держали за золотой решеткой, как жар-птицу? – усмехнулся Пущин. – А столовался ты где?
– Где придется: у Инзова, у знакомых в городе, а то и в «Зеленом» трактире.
– Знаю! Прислуживала там молодая молдаванка, Мариола, у которой такой славный голос.
– Вот, вот! Одну из ее песен – «Черную шаль»[12]12
…одну из ее песен – «Черную шаль»… – Известное стихотворение Пушкина «Черная шаль» («Гляжу, как безумный, на черную шаль…») в первых публикациях имело подзаголовок «Молдавская песня». Стихотворение было положено на музыку А. Н. Верстовским и пользовалось огромным успехом.
[Закрыть] – я переложил по-русски: весь Кишинев потом знал ее наизусть.
– Счастливый ты человек, Пушкин! Благодаря своему стихотворству ты везде делаешься желанным гостем.
– Ох да! Даже слишком желанным: первое время от дамских альбомов мне не было отбою. Пришлось прибегнуть к радикальному средству.
– А именно?
– Одна барышня, считавшая себя неотразимой, при всякой встрече напоминала мне, что я ничего еще не написал ей. Чтобы отвязаться, я поднес ей мадригал, в котором воспевал ее до небес. Она была в восторге и на первом же вечере в доме своих родителей показала мои стихи своим соперницам. А те как взглянули, так и покатились со смеху.
– Это почему?
– Потому что внизу стояло: «1 апреля».
– Экий ведь проказник! И другим ты, верно, подносил тоже разные сюрпризы?
– Случалось. Раз, например, одна барыня за столом спустила с ног башмаки…
– Верно, от жары?
– Надо думать. Но привычка все-таки не похвальная. Я уронил салфетку и нагнулся за нею под стол; вдруг вижу – два башмачка; значит, не нужны. Как же было не убрать их?
– Хорош! А барыня что же?
– Она страшно разобиделась и пожаловалась мужу. У нас вышли с ним крупные объяснения, и не вмешайся мои приятели, пришлось бы, вероятно, стреляться.
– Но с кем-то ты там, кажется, стрелялся?
– Даже дважды: арапская кровь! Нелепее всего, что все из-за пустяков. В первый раз дело было за карточным столом. Один офицер, как я подметил со стороны, играл нечисто и обыгрывал других наверняка. Когда те стали расплачиваться, я прямо заявил, что такие проигрыши платить грех.
– То есть ты обозвал его шулером? Понятно, что после этого он должен был тебя вызвать! Но ты мог ведь и отказаться.
– Чтобы прослыть за труса? Благодарю покорно. Зато, когда мы сошлись с ним на дистанции, я взял с собой полную фуражку черешен, и пока он в меня целился, я преспокойно ел мои черешни[13]13
Этой темой Пушкин отчасти воспользовался впоследствии для своего рассказа «Выстрел».
[Закрыть].
– Лучший способ доказать свое презрение к противнику! Но сердце у тебя, признайся, все-таки екало?
– Ничуть. В минуту обиды я вспыхну как порох, а как дойдет до расплаты – я уже не волнуюсь.
– И он тебя не ранил?
– Нет. Рука, видно, дрогнула.
– А ты его?
– Я спросил только: «Довольны ли вы?» Он в ответ раскрыл мне объятья, а я – повернул к нему спину.
– Вот это так! Ну, а второй случай был у тебя с кем?
– Тоже с военным – с командиром егерского полка Старовым. В городском казино танцевали. Я дирижировал танцами и велел играть мазурку. Вдруг откуда ни возьмись – молоденький армейский офицерик и кричит музыкантам: «Кадриль!» Я повторяю: «Мазурку!» Он свое: «Кадриль!» А я, смеясь: «Мазурку!» Музыканты, хоть и полковые, послушались меня, как дирижера, и заиграли мазурку. Начальник офицерика, полковник Старов, подозвал его к себе и потребовал, чтобы тот призвал меня к ответу. Бедняга опешил: «Да как же-с, полковник, я пойду объясняться с ними? Я их совсем не знаю…» – «Не знаете? – оборвал его Старов. – Так я объяснюсь за вас». И, подойдя ко мне, он объявил, что я должен тотчас извиниться перед его подчиненным. Я, понятно, наотрез отказался, и на другое же утро мы стояли с ним у барьера. Но была сильная метель, нельзя было целиться хорошенько, и снег забивался в пистолеты. Оба мы дали по два промаха и отложили дело, пока не пройдет метель; а тем временем нас помирили.
– Опять тебя Бог спас! – сказал Пущин.
– Да, верно, я Ему еще нужен. Впрочем, дело это имело еще маленький эпилог. Старов участвовал в кампании Двенадцатого года и заслужил славу храброго рубаки. Поэтому примирение его со «штафиркой» возбудило в городе большие толки. Два дня спустя, играя в ресторане на бильярде, я своими ушами слышал, как бывшие тут же в бильярдной ом. Я подошел к ним и прямо объявил: «Как мы покончили со Огаревым, – это наше дело; но я уважаю Старова, и если вы, господа, позволите себе еще осуждать его в моем присутствии, то я приму это за личную обиду, и вы будете иметь дело уже со мною».
– И что же эти господа?
– Смутились и стушевались. В этого времени я слыл в городе отчаянным головорезом, – со смехом заключил Пушкин. – Да как же, помилуй: человек в архалуке, в бархатных шароварах, непричесанный, неприлизанный, гуляет по улице запанибрата с генералами и размахивает при этом железной дубинкой! А местным тузам – армянам и молдаванам – режет правду в глаза, да еще в стихах! Кто-то по поводу слова «бессарабский» скаламбурил даже на мой счет: «бес арапский». Но виноват ли я, скажи, что моей африканской натуре надо было перебеситься?
– И что, кишиневцы давали тебе к тому столько прекрасных поводов? – досказал Пущин.
– У большинства там, действительно, вся цель жизни сводится к вину, картам и танцам. Но ты не думай, Пущин, что на уме у меня были одни дурачества. Между тамошним офицерством и чиновничеством было несколько человек с высшими умственными интересами. Сам Инзов, при всей простоте обращения, – человек просвещенный, начитанный, особенно по истории и естественным наукам. У него сходился свой избранный кружок, в котором можно было отвести душу[14]14
Из членов этого кружка упомянем только о генерале Михаиле Федоровиче Орлове, который участвовал прежде в петербургском литературном обществе «Арзамас» под прозвищем Рейна, в 1812 году первым из русских вступил в Париж, за свою храбрость и заботливость о солдатах заслужил название «цвета русских генералов», а в 1821 году, в бытность в Кишиневе, женился на старшей Раевской, Екатерине Николаевне, приятельнице Пушкина по Гурзуфу.
[Закрыть]. Здесь обсуждались все злобы дня – литературные, общественные, политические; а когда началось это несчастное восстание турецких христиан, мы все возгорели ненавистью к их притеснителям и готовы были также ринуться в бой… Есть моменты, когда ради ближнего готов поставить жизнь на карту!
– Ты, как поэт, в особенности. Восстание это если и было бесплодно, то для тебя послужило новым предметом вдохновенья.
– Для поэта, мой друг, весь окружающий мир, вся жизнь представляют неисчерпаемый источник вдохновенья: садись только да пиши. Кишиневцы видели во мне, конечно, прежде всего опасного ветреника, который при случае может щегольнуть стихом. Для Инзова с его кружком я был еще добрым малым. Едва ли кто из них подозревал, что я живу двойною жизнью: одною – с ними, другою – с самим собой. Я вел постоянную переписку с петербургскими литераторами; я перечитал массу книг не только на русском языке и трех главных иностранных, но и на итальянском, на испанском. Как школьник, который взялся наконец за ум, я пополнял те пробелы, что оставил у меня лицей. А сколько я работал над своим слогом, над каждым стихом!.. Одну поэму, которая меня не удовлетворяла, я даже сжег[15]15
Поэму «Разбойники»; напечатанный затем отрывок из нее случайно сохранился у младшего Раевского.
[Закрыть].
– Зато твой «Пленник», твой «Бахчисарайский фонтан» читаются теперь с восхищеньем всей Россией. Но ты позволишь мне, как другу, сделать одно замечание?
– Говори, пожалуйста.
– Ты зачитывался ведь Байроном? И в поэмах твоих слышится как будто тот же Байрон.
Пушкин слегка покраснел.
– Я сам чувствую это лучше всякого! – вздохнул он. – Но что поделаешь против этого мирового гения? Как-то невольно поддаешься ему и вторишь! За новейшую мою поэму «Цыганы» меня тоже, пожалуй, упрекнут в «байронизме»…
– Так не пора ли тебе отделаться от него?
– Я и то здесь, в Михайловском, принялся за Шекспира и начинаю набираться от него совсем нового, свежего духа. Что за мощь, что за глубина, что за знание человеческих страстей! В нашей литературе нет, к сожалению, ничего подобного.
– В трагическом роде – нет; в комическом же есть нечто столь же, пожалуй, великое и притом совершенно самобытное, русское.
– Ты о чем это говоришь, Пущин?
– О грибоедовском «Горе от ума».
– Мне много писали уже об этой комедии из Петербурга, но я до сих пор так и не читал ее, потому что она еще не разрешена к печати.
– Так прочти ее в рукописи.
– Да откуда ее взять?
– Откуда? Из моего чемодана: я привез ее тебе в презент.
Пушкин, ходивший все время обнявшись с приятелем, схватил его теперь за плечи и крепко затряс:
– Вот человек! Привез с собой такую прелесть и хоть бы слово! Давай же ее сюда, скорей, скорей!
VI
Хотя драгоценная рукопись и появилась из чемодана Пущина, но читать ее сейчас же Пушкину не пришлось: няня, накрывавшая на стол, запротестовала и заставила их сесть, чтобы «каша не остыла».
– И ничего лучше каши для редкого гостя ты, няня, не придумала? – укорил ее Пушкин.
– Да не сам ли ты, родимый, не раз говаривал, что гречневая каша вкуснее всякой похлебки? – оправдывалась старушка.
– Разумеется, вкуснее, – поддержал ее гость, – гречневая каша сама себя хвалит. Еще в лицее у нас не было блюда почетнее.
Оба лицеиста обнаружили к любимому блюду такой «лицейский» аппетит, что хлопотавшая около них Арина Родионовна могла быть совершенно довольна. Когда же она подала второе блюдо – жареного гуся, начиненного капустой и яблоками, – торжество ее было полное: наперерыв уплетая за обе щеки, они только похваливали и гуся, и хозяйку-няню.
– Остается запить доброй домашней наливкой, – сказал Пушкин, протягивая руку за одной из стоявших перед ними бутылок.
– Погоди! – остановил его за руку Пущин и мигнул старушке.
Та только ожидала этого знака и юркнула за дверь. Вслед за тем рядом в коридоре хлопнула пробка. Пушкин, недоумевая, поднял голову.
– Это что такое?
– Салютная пальба, – усмехнулся Пущин.
Влетевший в это время Алексей поспешил наполнить им стаканы из завернутой в салфетку длинногорлой бутылки.
– Но откуда сие, Пущин? – спросил Пушкин, торопять отпить, пока пенистый напиток не перебежал через край.
– Из Шампаньи, от вдовы Клико.
– Это мы, ваша милость, по пути сюда, ночью в Острове раздобыли, – пояснил со своей стороны Алексей. – Насилу-то в винном погребе достучались!
– За царя и Русь! – возгласил Пушкин и звонко чокнулся с другом.
Второй тост был за процветание лицея, третий – за отсутствующих друзей.
– А теперь за няню из нянь, – сказал Пущин. – Алексей! Вторую бутылку!
Арина Родионовна стала было уверять, что не пьет этих заморских вин, но когда пригубила стакан, так не скоро уже отняла его от губ.
– После искрометного «аи»[17]17
Vin d'Ay – шампанское.
[Закрыть] пить домашнее варево как-то даже не пристало, – заметил Пушкин. – Вот что, няня: убери-ка эту наливку к себе в девичью и угости своих мастериц во здравье дорогого гостя.
– Помилуй, батюшка! Чтобы я сама их поила…
– А вот Алексей тебе поможет. Голубчик, Алексей, угости-ка их всех там хорошенько. Мы веселы – так пусть все веселятся.
Алексей знал, видно, свое дело: немного погодя из девичьей через две притворенные двери долетели женские голоса с раскатистым смехом и хоровая песня.
Между тем няня подала господам кофе и трубки.
– Вместо ликера упьемся теперь грибоедовским сладким «Горем», – сказал Пушкин и, взяв рукопись, стал читать ее вслух.
Во всей читающей России едва ли нашелся бы в то время больший знаток и ценитель изящной литературы, как Пушкин. Какое поэтому эстетическое наслаждение должен был он испытывать при первом чтении несравненной комедии! Не раз прерывал он сам себя, чтобы выразить свой восторг или сделать какое-нибудь меткое замечание.
Но чтение внезапно было прервано посторонним лицом. Кто-то подъехал к крыльцу. Пушкин выглянул в окно – и поспешно отложил в сторону рукопись, а вместо того раскрыл на письменном столе лежавшую тут же «Четьи-Минею»{«Четьи-Минея» – жития святых на каждый день месяца (в данном случае – на январь).}.
– Что это значит? – спросил Пущин. – Кто это к тебе пожаловал?
Пушкин еще не ответил, как на пороге показалось то лицо, которое произвело такой переполох, – пожилой монах низенького роста. Оба друга, один за другим, подошли под его благословение. Усадив нового гостя на диван, Пушкин шепнул няне, чтобы подала живее чаю с ромом. Монах между тем назвался Пущину настоятелем Святогорского Духова монастыря, отстоящего в пяти верстах от сельца Михайловского.
– Прошу извинить, буде помешал, – продолжал он. – Но до сведения моего дошло, что сюда прибыл гость по фамилии Пущин, и я чаял найти моего старого знакомца, уроженца великолуцкого, Павла Сергеевича Пущина, коего давно не видал.
Украдкой переглянувшись с Пушкиным, который что-то совсем присмирел, Пущин объяснил, что он – школьный товарищ Пушкина, однофамилец же его, генерал Пущин, командует бригадой в Кишиневе.
– Так-с, – проговорил отец игумен. – Тоже стишки пописывать изволите?
– Во всю жизнь ни одного стиха не сочинил, – отвечал Пущин.
– Хвалю. А то, в самом деле, что за радость в молодые годы из-за каких-то четырех строчек-с сидеть в четырех стенах четыре месяца… Ведь столько времени мы с вами здесь, кажись, уже знакомы? – отнесся он к Пушкину.
– Около того…
– Да-с, четыре месяца, из коих – почем знать? – могут стать и четыре года!
– О каких таких четырех строчках вы говорите, святый отче? – спросил Пущин.
– О четырех стрелах наиострейших и наиядовитейших… Да вот сам Александр Сергеевич лучше моего вам о сем доложит.
– Из Кишинева, как ты знаешь, я попал в Одессу в канцелярию графа Воронцова, назначенного новороссийским генерал-губернатором, а также и наместником бессарабским, вместо Инзова.
С этими словами Пушкин, в оправдание своего разлада с новым начальником, дал такую откровенную характеристику Воронцова, что отец настоятель счел нужным положить конец его объяснению:
– Не прекратить ли нам сию тему? Не вам, юнцу, наставлять на стезю правую мужа великородного и нарочито государственного, имеющего за собой многообразные заслуги.
– Да я их не отрицаю и даже охотно взял бы теперь обратно свою эпиграмму…
– И благо. Сам Сын Божий глаголет: «Радость бывает на небеси о едином грешнике кающемся…» Господину же наместнику, сами изволите видеть, ничего не оставалось, как просить о водворении вашем в гнезде родительском. Да, да! Воистину, язык мой – враг мой.
Наступило довольно тягостное молчание. Пущин попытался было завязать опять речь о чем-то постороннем; но разговор не клеился, и после второго стакана чаю отец игумен приподнялся с дивана.
– Прошу вдругорядь прощения, что помешал приятельской беседе.
И благословив опять хозяина и его приятеля, он удалился.
– А всему я виною! – воскликнул Пущин. – Без меня он и не подумал бы тебя беспокоить.
– Полно, любезный друг, – сказал Пушкин. – Ведь он и без того нередко меня навещает: я поручен его наблюдению. Теперь послушаем опять Грибоедова.
И чтение бессмертной комедии возобновилось.
VII
Стенные часы за стеною не раз уже били, а Пушкин все читал да читал с тем же увлечением, совсем забыв, казалось, что он еще у себя, в Михайловском, а не в грибоедовской Москве.
Не то – с Пущиным: уже во время последнего монолога Чацкого он подозрительно поглядывал на топившуюся днем, но давно уже закрытую печку и поводил в воздухе носом; при заключительном же возгласе Фамусова:
Ах, Боже мой! Что станет говорить
Княгиня Марья Алексевна! —
он вскочил на ноги и сам возгласил:
– Что станет говорить она – я не знаю, да и знать не желаю; но что мы оба с тобой здесь угорим – в этом, брат, для меня не может быть ни малейшего сомнения.
– А ведь и в самом-то деле, – сказал Пушкин, возвращаясь к действительности, – как будто дымом запахло.
– Не дымом, душа моя, а чистейшим угаром: у меня на этот счет собачье чутье. Сейчас пойду узнаю.
Как раз, когда он ступил в коридор, с противоположного конца показалась старушка няня с зажженною свечой.
– Матушка, Арина Родионовна! – взмолился к ней Пущин. – За какие такие провинности ты меня из дому выкуриваешь?
– А нешто и к вам уже туда запахло? – всполошилась она. – Для тебя же, касатик, нарочно две горницы истопила, которые всю зиму не топились, да, знать, рано трубы закрыла…
Пущин укорительно покачал головой:
– Ай, няня, няня! А зачем ты их зимой не топишь? Или дров жаль?
– Знамо, жаль.
– А своего барина не жаль? Из-за сажени-другой дров он, бедняга, всю зиму, как сурок, сидит в одном углу; ни в бильярд ему поиграть нельзя, ни прогуляться по собственному дому. Ай, няня, няня!
У пристыженной старушки на глазах навернулись слезы.
– Да он хошь бы словечко сказал мне…
– Он – взрослый младенец, так где же ему думать о себе? Кому печься об нем, как не той, которая его вынянчила, которую и сам он любит, кажется, более всех людей на свете?
Няня была окончательно растрогана.
– Да я для него, моего ненаглядного, хошь весь дом день и ночь топить буду!
– Ну, ночью-то, пожалуй, и не для чего. А теперь первым делом откроем-ка опять трубы.
Когда это было ими сделано, Пущин сам замкнул на ключ двери в угарные помещения, открыл форточку в комнате друга и вместе с ним перебрался временно к Арине Родионовне, откуда ее подначальная команда давно уже разбрелась на покой. Старушке было особенно горько, что гость, несмотря на все упрашивания ее и барина, решил-таки уехать восвояси тою же ночью. Перед отъездом, однако, он просил Пушкина познакомить его еще с последними цветами своей музы. Так, по возвращении их в «клетушку» поэта, началось опять чтение – уже собственных его произведений, еще не появившихся в печати, в том числе и поэмы «Цыганы».
– А этот Алеко – не сам ли ты, братец? – спросил Пущин. – Ведь Алеко – Александр?
– Александр.
– И, как твой герой, ты тоже кочевал по Бессарабии с цыганами?
– Об этом история умалчивает, – загадочно усмехнулся Пушкин. – Во всяком случае, я никого на своем веку не зарезал – разве что стихом. Так поэма, по-твоему, недурна?
– Весьма даже. Ты, Пушкин, все совершенствуешься. Пройдет немного лет – и вся Россия признает тебя отцом нашей литературы, с которого в ней началась новая эра.
– Эк куда хватил! – сказал Пушкин, но глаза его радостно заблистали.
– Верь мне, верь. А главное – верь в самого себя, в свой талант. Ты упиваешься теперь трагедиями Шекспира, и я предвижу, что не пройдет года, как ты сам примешься за русскую трагедию.
– Признаться, перечитывая на досуге «Историю» Карамзина, я, действительно, остановился на чрезвычайно драматическом сюжете – судьбе первого Самозванца.
– Что я говорю! Но то еще впереди; а до поры до времени дай-ка мне с собой твоих «Цыган» для «Полярной звезды». Рылеев[18]18
Поэт, редактор «Полярной звезды».
[Закрыть] будет счастлив.
– Вторая половина «Цыган» у меня еще не отделана…
– Так дай хоть начало. Ты диктуй, а я буду писать.
И подойдя к письменному столу, Пущин отыскал между разбросанными там бумагами чистый лист гусиных же перьев хотя и было несколько, но все – с обкусанными или обожженными бородками.
– Ты все еще, я вижу, не отделался от скверной лицейской привычки – писать оглодками, которых и в пальцах-то не удержать, – заметил Пущин. – Ну, как-нибудь нацарапаем. Начинай.
И под диктовку Пушкина он живой рукой «нацарапал» начало поэмы. Еще в начале чтения Пушкиным своих собственных стихов в комнату незаметно прокралась няня и уселась со своим чулком в уголке у печки. Едва смея шевелить вязальными спицами, она с благоговением не сводила глаз со своего питомца, готовая слушать его хоть до утра; если иное в его стихах и было ей недоступно, то их звучное сочетание как волшебною музыкою ласкало ее слух; ведь все-то это было сложено им самим, ее Александром Сергеевичем! Тут вошел Алексей.
– Не пора ли закладывать, сударь? Второй час ночи на исходе.
– И то пора! – спохватился Пущин. – Ведь третья бутылка у тебя еще не почата?
– Никак нет-с.
– Так подай ее сюда: разопьем на расставанье.
– Погоди, Алексей! – вмешался Пушкин. – Няня! А что же закуска?
И вот на столе опять закуска, в стаканах опять играет и пенится напиток Шампани… Но когда сдвинутые стаканы зазвенели, у обоих друзей упало сердце – обоим стало так невыразимо грустно, что хоть плачь.
– За скорое свиданье в Москве, – проговорил Пущин, но таким унылым тоном, точно сам он не верил в возможность встречи…
Пушкин молча только головой кивнул, осушил стакан до дна и затем крепко-крепко обнял друга, как бы предчувствуя, что им никогда уже не свидеться{…предчувствуя, что им никогда уже не свидеться. – Декабрист И. И. Пущин пробыл на каторге и в ссылке до 1856 г. Весть о гибели Пушкина привез в Сибирь тюремный офицер В. В. Розенберг. «Это был для меня, – вспоминал Пущин, – громовой удар из безоблачного неба – ошеломило меня, вся скорбь не вдруг сказалась на сердце. Весть эта электрической искрой сообщилась в тюрьме – во всех кружках только и речи было, что о смерти Пушкина – об общей нашей потере» (Пущин И. И. Записки о Пушкине. М., 1956).}.
– Лошади поданы, – объявил, входя, Алексей, и в подтверждение его слов от крыльца донесся перезвон колокольцев.
В то же время часы за стеной пробили три раза.
– Три – счастливое число, – сказал с притворною веселостью Пущин, насильно отрываясь от друга. – Спасибо тебе, брат, за чудный день!..
– Тебе, брат, спасибо! – отвечал Пушкин, еще раз целуя его и в лоб, и в губы. – В одиночестве моем на меня подчас находила не то хандра, не то отчаянье в самом себе; теперь же, благодаря тебе, я опять совсем ободрился. Спасибо, дружище!
Алексей, дожидавшийся барина в открытой двери с шубою, накинул ему ее на плечи. Арина Родионовна стояла тут же, утирая глаза.
– Смотри же, няня: хорошенько храни мне его! – сказал Пущин и, наскоро обняв, поцеловав старушку, выбежал на крыльцо, вскочил в сани.
Между тем Пушкин, светивший ему с крыльца нагоревшею свечой, говорил ему что-то; но за фырканьем лошадей и звяканьем колокольцев Пущин не мог расслышать его слов. Только когда сани тронулись, вслед ему явственно донесся последний привет:
– Прощай, друг!
Своим приездом в село Михайловское Пущин оказал другу-поэту, несомненно, двоякую услугу – и духовную, и материальную; поэзия воспрянувшего духом Пушкина расцвела еще пышнее, а няня уже перестала скупиться на дрова и топила весь дом.
Сам же Пущин, вскоре заброшенный обстоятельствами на край света – в Читу (в Сибирь), получил там, три года спустя, в январе 1828 года, следующие строки:
Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
Молю святое Провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.