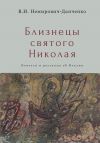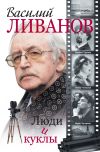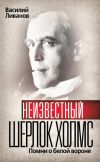Текст книги "Мой отец – Борис Ливанов"

Автор книги: Василий Ливанов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Василий Ливанов
Мой отец – Борис Ливанов
© ООО «ТД Алгоритм», 2015
Предисловие
Ливанов родился в 1904 году в Москве в семье актера. Театральное окружение, частые посещения спектаклей не могли не сказаться на его детских склонностях и интересах, которые с годами становились все осознаннее и определеннее.
Учась еще в реальном училище, он часто бывал на спектаклях, участвовал в школьных постановках. Видя это, родители мечтали только об одном: чтобы их сын, если уж и ему суждено стать актером, был бы артистом Художественного театра.
Великая Октябрьская социалистическая революция и годы гражданской войны не могли пройти мимо даже такого молодого поколения, к которому принадлежал Ливанов. Отошли в прошлое и его детские театральные увлечения, на смену им явилось горячее стремление принять непосредственное участие в тех событиях, которые происходили в стране. Шестнадцатилетним юношей вместе с двумя своими товарищами Ливанов отправился на фронт. Но добровольцев во время их пути в действующую армию обогнал приказ о демобилизации несовершеннолетних, и всех троих отправили домой, в Москву.
На обратном пути Ливанову удалось увидеть один красноармейский спектакль, который произвел на него сильное впечатление. Шла пьеса Писемского. Спектакль горячо принимался зрительным залом, и, видя это, Ливанов убеждался, что искусство необходимо народу не только в мирное время, но и в грозные годы войны. Поэтому домой он возвращался с твердым намерением стать актером.
Вернувшись в Москву и продолжая занятия в трудовой школе, Ливанов следит за всеми театральными событиями. Каждый вечер он бывает в театре, на симфоническом концерте или художественной выставке, посещает обсуждения спектаклей и диспуты об искусстве. Очень часто он не соглашается с выступающими и спорящими, по-иному иногда представляются ему и сцены из виденных постановок. И дома, давая выход своей фантазии и изобретательности, он по ночам рисует эскизы декораций и костюмов, увлеченно клеит макеты.
Сначала Ливанов поступает в школу театра бывш. Корша. Учащиеся этой школы имели возможность свободно посещать спектакли театра Корша, и Ливанов старался не упускать возможности видеть лучших мастеров этого театра. Там играли тогда такие актеры, как: Радин, Петровский, Климов, Шатрова, Топорков. Но спектакли в целом часто оставляли молодежь неудовлетворенной. Ливанова гораздо больше привлекал к себе Художественный театр, глубокое искусство его прославленных мастеров. Он по многу раз подряд смотрит лучшие спектакли МХАТ и мечтает стать артистом этого театра. Поэтому когда открылась Четвертая студия МХАТ, Ливанов, не задумываясь, пошел сдавать экзамены.
Занятия в студии увлекали Ливанова, и, как человек достигший поставленной перед собой цели, он отдавал им все свои силы, всю свою любовь к театру.
Четвертая студия возникла и начала свою работу во время заграничных гастролей Художественного театра 1922–1924 годов, поэтому такого непосредственного руководства, такой непосредственной опеки со стороны ведущих мастеров МХАТ, которые имели, например, Первая и Вторая студии, у нее не было.
Правда, на просмотрах спектаклей студии обычно бывал Вл. И. Немирович-Данченко. Он внимательно присматривался к молодым актерам – наиболее способных решено было взять в Художественный театр.
Из книги Е. Ивановой «Борис Николаевич Ливанов», 1955 г.
Борис Николаевич Ливанов
О создателях Московского художественного театра
Константин Сергеевич и Владимир Иванович
Наша обязанность – помочь молодым, не знавшим ни Константина Сергеевича, ни Владимира Ивановича, отчетливее представить себе их внутренний и внешний облик, их характеры, их жизнь, их спектакли, на которых мы воспитывались и которые являются гордостью национального русского искусства.
Взыскательная требовательность к себе и святое отношение к театру, понимание его высокого назначения – этому нас учили Станиславский и Немирович-Данченко. Взыскательность, вечная неудовлетворенность собой не делают жизнь очень веселой, потому что успехи не становятся окончательными, а огорчения – мучительно длительны. Но и огорчения, к счастью для художника, обогащают его знаниями, открывают новые пути и возможности в искусстве. Мы должны передать последующим поколениям эту взыскательность, эту веру в русский театр, ибо, если в артисте, режиссере не живет с годами возрастающая требовательность к себе и к искусству, он приходит к успокоенности, к консерватизму, к ремесленной технике, или к увлечению формой, к поискам внешней занимательности…
Я начал работать на театре в годы гражданской войны. Сначала ученик А. П. Петровского, затем актер бывшей Четвертой студии МХАТ, где я работал под руководством Н. В. Демидова, посещая одновременно и театральную школу при МХАТ, которой руководил тот же Н. В. Демидов. И, наконец, работа в составе коллектива МХАТ.
Выбрать иную, не театральную профессию мне было бы трудно. Я вырос в актерской семье. Сызмальства любимым занятием была игра в театр. Моя мать, гуляя со мной, часто проходила мимо Художественного театра и, показывая на него, говорила:
– Если станешь артистом, то обязательно таким, чтобы приняли в «художественники».
Правда, я мечтал стать еще и моряком – уж очень нравилась мне морская форма. Позже это желание сбылось: на сцене и в кино я был моряком буквально во всех чинах – от матроса до командующего флотом. И был польщен, когда, «дослужившись» до звания фельдмаршала, получил награду – офицерский кортик.
В МХАТ я пришел после театральной школы в 1924 году. Пришел, гордый тем, что меня приглашают сразу на роль Чацкого. Когда меня принимали, К. С. Станиславский был за границей. После его возвращения вновь принятых представляли ему. Подошла моя очередь. Константин Сергеевич посмотрел и сказал:
– Вы очень красивый молодой человек.
Я промолчал, но в душе был с ним, конечно, абсолютно согласен. Станиславский усмехнулся и продолжал:
– Знаете что? Подождите с «Горе от ума». У вас получится не Чацкий, а этакий герой-любовник в роли Чацкого. Сыграйте сперва что-нибудь острохарактерное.
Не будь этого разговора, артиста из меня бы не вышло. Нет ничего пошлее, когда актер рассчитывает в основном на свои внешние данные. Да и само понятие «характерность» включает в себя отнюдь не умение приклеивать нос из гуммоза. Характерность – это, прежде всего глубокое проникновение в душевный мир персонажа и органическое воплощение его индивидуальных качеств во внешнем облике.
Я начал сценическую жизнь в Художественном театре в то время, как я уже сказал, когда труппа во главе со Станиславским находилась в Америке. Экзаменовался не в экзаменационную пору, а отдельно, сначала группой актеров и режиссеров, оставшихся в Москве, а позже, по их аттестации – Немировичем-Данченко.
Никогда не забуду своей первой встречи с Владимиром Ивановичем. Нет надобности говорить, как я волновался. Было это в помещении Художественного театра, в репетиционном зале Комической оперы (К-О., как его называли).
В ожидании Владимира Ивановича я стоял один минут двадцать, пытаясь успокоиться, и отчетливо представлял себе свое жалкое положение. Ведь сколько Владимир Иванович видел на своем веку таких актеров, каким я только хотел быть, да и то лишь в своих далеких мечтах.
Помню, его секретарь, Ольга Сергеевна Бокшанская, сообщила мне, что Владимир Иванович выехал из дому. В эту минуту я совершенно неожиданно обнаружил, что очень хочу, чтобы он и вовсе не приезжал: я ощутил, что окончательно растратил свои силы на волнение. Единственная надежда, думал я, может быть, поддержат физические данные… А в общем, ай-ай-ай…
В эту минуту раскрылась дверь. Вошел Владимир Иванович. Поздоровался. Крепко пожал мне руку. Помолчал. Подумал. И сказал, что как раз именно сейчас занимается пополнением труппы Художественного театра, по крайней мере, на будущие сорок лет его деятельности, что театру нужны молодые актеры, но такие, которые рядом с прославленными артистами могли бы принять участие в жизни театра. И если он убедится, что я являю именно такой случай, он подумает о ролях для меня, помечтает о них вместе со мной. Как же мне стало весело после такого вступления!
Мне было девятнадцать лет. И меня, скажу по секрету, звал в свой театр Всеволод Эмильевич Мейерхольд. Он говорил: «Я вас и пробовать не буду, приходите ко мне прямо на репетицию в театр Революции, и будем играть центральные роли». Но душа моя рвалась в Художественный театр. И это немного придавало мне силы. Но состояние мое все же было растерянным, и, стараясь успокоиться, я стал рассматривать задумавшегося и даже, как бы, не замечавшего моего присутствия Владимира Ивановича.
Мужественная, крепкая фигура, с хорошо посаженной головой, сильной грудью, прямой спиной. Великолепный серый костюм, отличная серая рубашка, красиво подстриженная борода. И такой покой, такая величественная простота, и такая серьезность, которые покоряли сразу же. В нем не было никакой театральной эффектности, псевдоимпозантности, никакой заботы о «художественном облике». Ничего такого, что привычно характеризует внешность театрального деятеля, выдающегося режиссера…
Владимир Иванович выглядел так, как мог бы выглядеть доктор, профессор, министр, философ, ученый. Я задумался. И вдруг почувствовал на себе взгляд Владимира Ивановича. Действительно, серые пристальные глаза с несколько тяжелыми веками были устремлены на меня. От неловкости я перевел взгляд на галстук Владимира Ивановича. Галстук черный, в нем заколота красивая булавка.
– Вы смотрите на мой галстук. Я ношу его в знак траура по моему другу Южину.
И Владимир Иванович прошелся по комнате, как бы отдыхая в одиночестве. В этот момент я ощутил ясно, что меня здесь нет. Но это не было пренебрежением ко мне. Мне показалось, что это, скорее, вызвано заботой о том, чтобы я сумел обрести спокойствие.
Владимир Иванович начал меня расспрашивать, где и в какой семье я родился, кто мой отец, в каких театрах я бывал, какие спектакли мне нравятся, каких артистов Художественного театра я люблю, в какой степени я вообще люблю искусство, в какой степени знаю что-либо об искусстве и об искусстве Художественного театра в частности.
Я не ожидал, что буду экзаменоваться в этом смысле, и боюсь, что неудачно отвечал. Мне было что рассказать, но я пытался быть лаконичным и, вероятно, вследствие этого был сумбурным.
– Ну вот, пока как будто бы и все, – сказал Владимир Иванович и сел в кресло. Он поднял свою маленькую крепкую ручку, приложил ее к бороде и опять ушел от меня в свои мысли. Я был убежден, что думал он не обо мне. А он все думал. Расправил усы, поправил бородку и, снова задержав в ней свою руку (потом-то мы все хорошо знали этот его привычный жест), сказал, вернее, сделал короткое «ха». И еще раз «ха», которое было не громче первого, но от которого у меня упало сердце. «Что же это? – подумал я. – Может быть, впечатление обо мне сложилось такое, что не надо и экзамена?»
Пауза. Владимир Иванович погрузился в раздумье.
– У меня, – произнес он, наконец, – мало времени, но я должен сегодня посмотреть вас. Говорят, вы приготовили роль Чацкого. Может быть, покажете что-нибудь?
– Как показать? – испугался я. – У меня нет партнера.
– Это неважно. Мне не очень хотелось бы, чтобы вы читали монологи. Попробуйте поиграть с воображаемыми партнерами, – сказал Владимир Иванович деловито и энергично.
Вот положение-то!
– Так, может быть, начнем с первого акта, с появления Чацкого: «Чуть свет, уж на ногах…», – процитировал Владимир Иванович.
– А я могу двигаться?
– Как хотите, – сказал он спокойно и медленно. – Хотите – двигайтесь, хотите – садитесь. Ведите себя так, чтобы обрести хорошее самочувствие.
Помню хорошо, что я отошел в конец большого зала, но как вбежал уже Чацким, абсолютно не помню. Помню, что бросался на колени перед воображаемой Софьей, читал монолог Чацкого, каким-то образом общался с Софьей, Лизой, бормотал слова за Фамусова, потом опять пытался быть Чацким и снова Фамусовым.
Владимир Иванович меня не останавливал. Я понимал это как знак продолжать. Остановиться же самому у меня просто не хватало храбрости.
Помню, что, сказав «Как хороша…», я отошел в сторону и стал смотреть в окно. Больше у меня ни на что не хватило сил.
Наступила длительная тишина. «Ха», – раздалось вдруг. Я вздрогнул. «Ха». Обернулся и увидел Владимира Ивановича, облокотившегося на крышку рояля в элегантной, но дружеской позе. На строгом лице его я умудрился прочесть доброжелательную заинтересованность.
– Ну, теперь давайте из второго акта…
Я незаметно для себя сказал: «Пожалуйста» – и стал играть второй акт (роль я знал хорошо и давно мечтал о ней). Потом в МХАТе, спустя много лет, я играл Чацкого, но об этом позже…
Когда я закончил второй акт, Владимир Иванович стал рассказывать мне, каких он видел Чацких, перечисляя фамилии артистов – тех, кто играл в МХАТе, и тех, кто мне был известен лишь по истории русского театра, доверительно, при этом, спрашивая мое впечатление от Чацких, которых я мог видеть.
В строгих глазах Владимира Ивановича я читал добрый интерес ко мне. Но это не означало, что он расплывался в улыбке и что я ему понравился. Видно было лишь, что он находится перед решением трудной задачи, которая была гораздо шире, чем мой экзамен. Он осуществлял творческий план, и мой экзамен был маленькой частичкой этого большого плана. Его серьезность меня обязывала.
Владимир Иванович продолжал думать в моем присутствии, как если бы меня не было, и вдруг стал рассказывать о том, что сейчас в театре будут ставить «Горе от ума», и его мечта – сочетать в этом спектакле знаменитых актеров старшего поколения с молодыми, новыми. Его очень устроило бы, продолжал он, если Чацким будет новый молодой актер. После этого Владимир Иванович стал фантазировать о моем пути в Художественном театре. Назвал ряд ролей, которые, с его точки зрения, я мог бы играть. Да простят меня за нескромность – репертуар был солидный. И если бы я сыграл за всю свою жизнь половину того, что Владимир Иванович перечислил за полминуты, я был бы счастлив. Но…
Я не сообразил в ту минуту, что это означало решение моей судьбы…
– Я слышал о том, что вы хорошо рисуете. Нет ли у вас с собой рисунков? И говорят еще, что вы мечтаете стать режиссером…
Надо сказать, что я и по сию пору люблю решать пьесы, которые, может быть, никогда не поставлю, и думать о ролях, которые я никогда не сыграю. В деятельности такого рода у меня, прямо скажу, солидный опыт. Есть роли, сделанные до такой степени, что они могли бы совершенствоваться уже в общении со зрителем. Но не обо мне сейчас речь. К тому же, думаю, в нашем театре, к сожалению, я не единственный…
Я принес с собой папку. Там были эскизы костюмов и декораций к некоторым спектаклям, рисунки и планы постановок некоторых пьес. Владимир Иванович надел пенсне и очень серьезно все рассмотрел. Я был поражен вниманием Владимира Ивановича. Я давал пояснения к рисункам, а он слушал меня так, как будто пьесы эти я уже ставлю в Художественном театре, как будто они пойдут в моих декорациях и он, Владимир Иванович, является моим руководителем. Мечта – не жизнь!
Самочувствие мое менялось. Мне казалось, что я уже не экзаменующийся, а режиссер. Не поступающий, а уже деятель любимого мною театра. Но я почувствовал сразу, что дело не во мне, а в огромной, серьезной любви Владимира Ивановича к театру.
Воспоминания об этой любви потом, в минуты отчаяния, в трудные годы раздумий, огорчений и сомнений, являлись и являются по сей день могучей поддержкой, единственным моим утешением.
Я бы сказал так: отношение Константина Сергеевича и Владимира Ивановича к искусству, к людям искусства, ответственность артиста и руководителя перед театром, перед собой, перед обществом, перед своим временем до сих пор являются для нас всех высоким примером.
Но вернемся к тому памятному для меня дню.
Скоро приедет Константин Сергеевич. Я ему вас покажу, – сказал Владимир Иванович, чем поверг меня в радость и в отчаяние. – Труппа сейчас в Америке, но здесь моя музыкальная студия. А вы не поете?
Я сказал:
– Нет.
– Это неправда, – возразил Владимир Иванович, – и по вашему голосу, мне кажется, вы должны петь.
– Так, для себя, – сдался я.
– Ну, так и напойте что-нибудь.
К моему огорчению, я так и не могу вспомнить, что я пел. Но что я пел – это, несомненно. Видимо, я ничего не исполнил целиком. Эксперимент был чрезвычайно кратким.
– Ну, вот видите, я не ошибся, – сказал Владимир Иванович. И наступила пауза. Большая пауза.
Впоследствии мы, актеры Художественного театра, хорошо знали эти паузы, когда Владимир Иванович будто забывал, что он проводит репетицию, настолько эти паузы были длительны. Затем раздавалось его «ха», и репетиция продолжалась.
– Послушайте-ка, Борис Николаевич – так, кажется, вас зовут? У меня мелькнула одна мысль… В музыкальном театре я ставлю «Лисистрату»… Так вот, может быть, пока не вернулась драматическая труппа из Америки, будете участвовать в этом спектакле? Да-да, мне кажется, вы могли бы быть неплохим Кинезием. У вас и данные подходящие.
Это для меня уж было полной неожиданностью. Я опешил и даже не нашелся, что сказать. Если я еще и готовился к пути драматического актера, то петь, да еще в музыкальном спектакле, никак не предполагал. Но Владимир Иванович и не интересовался моей реакцией.
– Вы будете извещены о встрече со мной и Ольгой Владимировной Баклановой, исполнительницей роли Лисистраты. До свидания. – Владимир Иванович снова крепко пожал мне руку и вышел.
И тут я ощутил радость: может быть, в этот момент, на этом месте начинается моя жизнь в Художественном театре, жизнь артиста?..
Константин Сергеевич и Владимир Иванович…
Очень разные, полярные индивидуальности, объединившиеся для свершения одного подвига. Подвиг-то совершили они! Значит, в какой-то степени, эти два гиганта были друг другу нужны в своей разности, сложности, несочетаемости. При всей разности объединяли их одинаково ответственное и высокое понимание роли театра, вера в необходимость соответствовать передовым идеям своего времени. И еще – одинаковое понимание всех компонентов театра: драматургии, актерского мастерства, режиссуры.
Трудно найти «материнство» и «отцовство» в их искусстве. Оно принадлежит им обоим.
Станиславский велик тем, что он, как никто до него, высоко поднял значение искусства театра в жизни человека.
Мне довелось встречаться с людьми старшего поколения, с убеленными сединами представителями самых разнообразных профессий, которые при упоминании имени Константина Сергеевича становились сразу необычайно серьезными и говорили: «Я воспитанник Художественного театра. Если бы не Художественный театр, я никогда не достиг бы в своей области того, что удалось мне достичь».
Константин Сергеевич был неутомимым, исполненным неослабевающего энтузиазма искателем истины в искусстве. Он боролся с рутиной театра, с ремесленным театром, с актером-ремесленником. Он сумел указать актерам путь к наиболее полному и глубокому раскрытию их творческих индивидуальностей. Великий наследник реалистической школы русского театра, он учил создавать образ человека во всей его многогранности. Он указал актеру, как бесконечно обогащать этот образ, чтобы время не обращало его в ничего и никому не говорящий штамп, в памятную только по первому спектаклю актерскую удачу. Вот почему, в исполнении старейших мастеров Художественного театра созданные много лет назад сценические образы, не только не утеряли своей первозданной прелести, но с каждым годом становятся все прекраснее и прекраснее.
Станиславский был гневным борцом с актерским каботинством, с дурными, скверными наклонностями, живущими в каждом человеке, особенно в актере, по традиции привычном к дурным примерам. Но и не было такого друга и защитника актера, как Станиславский. Он требовал от всех руководителей, как художественных, так и административных, полного подчинения жизни театра интересам актера, то есть создания таких условий и такой атмосферы, которые устранили бы все мешающее его творческому самочувствию.
Прошедший в начале своей деятельности путь режиссера-диктатора, Константин Сергеевич в последние годы жизни мечтал о таком театре, в котором актер займет место, исключительное по своему творческому значению. «Актеры, – говорил он, – должны быть настолько выразительны, что никакой мизансцены, заранее предусмотренной режиссером, не должно существовать. Обстоятельства, мысли и характер действия образа сами подскажут актеру сценическое поведение, то есть и мизансцену».
Константин Сергеевич много работал над проблемой внешности спектакля, призванной только помочь выражению мысли, идеи автора. Он считал, что натуралистические декорации, отвлекая внимание своим мелочным правдоподобием, снижают возможность раскрытия главного в жизни человека. А условные, отвлеченные декорации вызывали у него улыбку. Глядя на них, он говорил: «Я не верю. Каким же должен быть человек при этих декорациях? Нужно, очевидно, подумать о создании особой психики у выдуманного человека среди этой выдуманной обстановки. Выразительность и движение людей, которых мы знаем, окажутся здесь чужими, чуждыми – здесь не будет целого». Константин Сергеевич считал, что главное назначение декораций – это создание такого фона, такой атмосферы, которые помогали бы раскрытию внутреннего смысла сцен, пьесы, спектакля. Не примитивного изучения «системы» требовал Станиславский от своих учеников, а преломления его учения в конкретной актерской индивидуальности. Он учил: «Не успокаивайтесь на достигнутых результатах. Ищите, ищите и ищите! Без взволнованности нет искусства. Если артист не взволнован большой мыслью, если драматург не написал своего произведения ради большой мысли, если художник не работает ради воплощения большой мысли, если эта мысль не захватила целиком, – не может быть искусства. Зритель уйдет равнодушным, так как не будет в этом спектакле того, что заставит волноваться, долго размышлять, жить виденным».
Никогда не забуду, как и прославленные актеры и мы, тогда молодые, направлялись на репетицию к Константину Сергеевичу в Леонтьевский переулок. Из театра, где собирались, мы выходили группой, разговаривая друг с другом. Но по Леонтьевскому мы уже шли на большом расстоянии один от другого. Затем очень медленно, шаг за шагом поднимались по деревянной лестнице в первую переднюю дома Станиславского. Мы словно боялись расплескать то, что должны были принести Константину Сергеевичу.
Мы работали над спектаклем «Мертвые души». Я готовил роль Ноздрева. Однажды за кулисами на доске объявлений появилось сообщение, что репетиция состоится на квартире Станиславского. В назначенное время я стоял в знаменитой передней, описанной теперь во многих мемуарах, и, волнуясь, ждал. Вскоре ко мне вышла медицинская сестра.
– Как вы себя чувствуете, Борис Николаевич? – спросила она меня.
В это время Константин Сергеевич был нездоров, очень ослабел, и врачи боялись, как бы визитеры не занесли инфекции.
Вообще-то ничего, – говорю я. – Если только насморк немножко, не очень, правда, но все-таки.
– Одну секундочку, я пойду, посоветуюсь с врачом.
К Станиславскому меня не пустили. И я собрался домой, честно говоря, немножко обрадовавшись, что мне не предстоит такая экзекуция: я считал себя не очень подготовленным к репетиции.
Спускаюсь по знаменитой также лестнице со скрипящими деревянными ступенями, вдруг сверху окликают меня:
– Борис Николаевич! Борис Николаевич! Вас к телефону.
– Кто меня спрашивает? – недоумеваю.
– Константин Сергеевич.
Я мгновенно взлетел по лестнице.
– Константин Сергеевич!
– Здравствуйте, голубчик, как ваше здоровье?
– Да насморк у меня, Константин Сергеевич, – говорю я, извиняясь.
– Гм, гм, плохо, очень плохо, надо беречься, нельзя же пропускать репетицию… А может быть, мы с вами будем репетировать по телефону?
Я понял – деваться некуда, придется репетировать. Знаками прошу гардеробщика помочь мне снять пальто.
– Голубчик, мы начнем с первой сцены, с прихода Ноздрева к губернатору в гости, первая встреча ваша с Чичиковым.
– Слушаю вас, Константин Сергеевич, сейчас.
– Только вы, ради бога, не спешите, подготовьтесь, и тогда, когда будете готовы, начните.
Надо представить себе эту тягостную тишину в телефонной трубке и необходимость мне, Ливанову, превратиться вдруг по телефону в Ноздрева.
Я начал. Проговорил все чичиковские слова. Кончил сцену. В трубке молчание. Спросить же Константина Сергеевича не хватало смелости. Мне казалось, прошел час, прежде чем я услышал:
– Гм, гм… Ну, как вы сами считаете, что у вас получилось, что не получилось? Какие ошибки вы сделали?
– Я, Константин Сергеевич, недостаточно ощущал Чичикова, партнера-то передо мной нет.
– Говорите с мнимым партнером, увидьте и почувствуйте. Пусть ваша артистичность вам подскажет действие с конкретным лицом, а не вообще. Я понимаю, что это очень трудно: обстановка, телефон, но все– таки. Давайте еще раз все сначала.
Я повернул голову и увидел позади себя в дверях артистов оперного театра, которые тоже были вызваны на репетицию. Все смотрели, затаив дыхание, как идет репетиция по телефону и как я выхожу из положения.
Репетировали мы час.
Нельзя забыть внешний облик Станиславского. Он сам был великим произведением искусства. Казалось, что гигантский мастер-ваятель Микеланджело создал этого исполина искусства. Он сам был выражением, символом прекрасного – с его гордо посаженной великолепной головой, с чудесно обрамляющими ее белоснежными волосами, с кристальными голубовато-серыми глазами и с улыбкой, подобной которой я не встречал ни у кого и никогда.
Закинув ногу за ногу, он садился в кресло или на диван. Мы все – и стар, и млад, – испытывали большое волнение, ждали, когда Константин Сергеевич пригласит всех начать репетицию.
– Ну-с, начнем.
Как менялось в течение репетиции его лицо! Это целая симфония, гамма сложных, отраженных впечатлений… Он как будто принимает непосредственное участие во всем, что перед ним происходит, подмечая все тонкости актерской работы. Он впивается глазами в актера, помогает ему взглядом, улыбкой, выражением лица.
Мы так боялись огорчить его, что любой из нас волновался не только за себя, но и за каждого исполнителя. Можно было прочитать по лицу Константина Сергеевича, когда ему нравилось то, что мы делали, и когда ему не нравилось. И если ему нравилось, он сначала чуть-чуть улыбался; если нравилось больше, то смеялся – и как смеялся! Это было так обаятельно и неожиданно, так щедро и широко – и так заразительно! Пенсне слетало с переносицы, он искал его, похлопывая руками по пиджаку, по брюкам, по дивану и, наконец, найдя, водружал на место под сень густых, белоснежных бровей…
Нет больше Леонтьевского переулка со Станиславским, а есть улица Станиславского без Константина Сергеевича. Туда, на Леонтьевский, можно было прийти, увидеть его, рассказать о своих муках и трудностях, получить заслуженный «разнос» или одобрение, или то и другое вместе.
Однажды Константин Сергеевич сказал: «Когда я умру, я хочу, чтобы мою урну поставили в театре и чтобы артисты приходили в эту комнату подумать об искусстве и проверить себя». Лучшим памятником Станиславскому будет наше стремление работать так, чтобы иметь право сказать: «Эту работу мог бы одобрить сам Константин Сергеевич!»
Все говорят о системе Станиславского. Она знаменита на весь мир. И никто не знает системы Немировича-Данченко. Ее как бы и нет. А Владимиру Ивановичу не было надобности ее писать. Он знал – у Константина Сергеевича это отлично получается.
Но мы все хорошо помним тонкие и точные методологические определения Владимира Ивановича: мужественная простота, психофизическое самочувствие, максимализм.
Владимир Иванович не играл на сцене. Это всем известно. Но мало кто знает, что он был блистательным актером. То, что он подсказывал актерам, было всегда удивительно точно, прозрачно ясно, поражало верным, единственно верным умением раскрыть жизнь героя в заданной автором ситуации, с единственным пониманием стиля авторского письма.
А как он работал над женскими ролями! Об этом можно много рассказывать, но, пожалуй, это лучше сделали бы сами актрисы, обязанные ему созданием блистательных образов – К. Еланская, А. Тарасова, О. Андровская, А. Степанова…
Несмотря на то, что много существует суждений о режиссерском показе, сомнений в нужности его и полезности, никто из нас не забудет, как показывали на репетициях Константин Сергеевич и Владимир Иванович.
Владимир Иванович вставал. Шурша крахмалом манжет, дотрагивался рукой до усов, расправлял бороду… Останавливался в раздумье… И вдруг мы, актеры, с замиранием сердца видели, как на наших глазах он превращался в героиню с таким точным постижением тайн женского характера, женской психологии, что присутствовавшие получали истинно художественное наслаждение.
Владимир Иванович, приходя на репетицию, всегда приносил с собой ощущение торжественности, праздничности. Он входил в репетиционный зал, как хирург на операцию, строгий и собранный. И мы, артисты, на эти репетиции шли как на большое испытание и на большой праздник. В присутствии Константина Сергеевича и Владимира Ивановича все были собраны, парадны – и внутренне и внешне. Да, каждая репетиция была торжественным актом.
Нахождение верхнего психофизического самочувствия при выходе героя на сцену помогает и сегодня нам, актерам, обретать состояние, нужное для жизни образа. Каково, например, психофизическое состояние Чацкого, когда он появляется перед Софьей: устал он с дороги – это одно, возбужден или раздражен – это другое и т. д.
Вместе с Константином Сергеевичем Владимир Иванович явился создателем и второго плана, сыгравшего такую колоссальную, еще по-настоящему недооцененную роль в развитии русского и мирового театра. Вторым планом Владимир Иванович владел блистательно и умел в совершенстве его выражать, всегда точно определяя жанр и стиль авторского письма. А Чехов разве был бы возможен без второго плана? Весь чеховский театр – это богатство и жизнь второго плана.
А присущие Художественному театру всем известные определения – сквозное действие, зерно, сверхзадача спектакля? Это все принадлежит Художественном театру, и порой очень трудно разграничить, что в этом искусстве от Константина Сергеевича и что от Владимира Ивановича.
Станиславский и Немирович-Данченко были большими поклонниками Малого театра. Станиславский, как известно, был учеником Г. Н. Федотовой и даже принимал участие в спектаклях Дома Щепкина. Немирович-Данченко тоже был другом Малого театра и его драматургом.