Текст книги "Уединенное. Смертное"
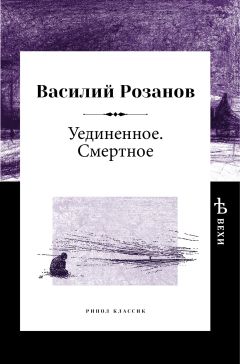
Автор книги: Василий Розанов
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 8 страниц)
Приложение
Розанов о себе
Ответы на анкету Нижегородской губернской ученой архивной комиссии

Отца потерял трех лет (в Ветлуге или Варнавине), – и одновременно мать с семью детьми переехала в Кострому ради воспитания детей. Здесь купила деревянный домик у Боровкова пруда. Только старшая сестра Вера и старший брат Николай († директором Вяземской гимназии) учились отлично; прочие – плохо или скверно. Также и я учился очень плохо. Не было ни учебников и никаких условий для учения. Мать два последних года жизни не вставала с постели, братья и другая сестра были «не работоспособны», и дом наш и вся семья разваливалась. Мать умерла, когда я был (оставшись на второй год) учеником второго класса. Нет сомнения, что я совершенно погиб бы, не «подбери» меня старший брат Николай, к этому времени как раз кончивший Казанский университет. Он дал мне все средства образования и, словом, был отцом. Он был учителем и потом директором гимназии (в Симбирске, Нижнем, в Белом Смоленск<ой> губ<ернии>, в Вязьме). Он рано женился на пансионерке Нижегородского института благородных девиц, времени директрисы Остафьевой – Александре Степановне Троицкой, дочери нижегородского учителя. Эта замечательная по кротости и мягкости женщина была мне сущей матерью. От нее я не слыхал не только грубого, но и жесткого слова. С братом же я ссорился, начиная с пятого-шестого класса гимназии: он был умеренный, ценил Н. Я. Данилевского и Каткова, уважал государство, любил свою нацию; в то же время зачитывался Маколеем, Гизо, из наших – Грановским. Я же был «нигилист» во всех отношениях, и когда он раз сказал, что «и Бокль с Дрэпером могут ошибаться», то я до того нагрубил ему, что был отделен в столе: мне выносили обед в мою комнату. Словом, все «обычно русское».
Учился я все время плоховато, запоем читая и скучая гимназией. Гимназия была отвратительна, «толстовская». Директор – знаменитый К. И. Садоков, умница и отличный, в сущности, директор: но я безотчетно или, вернее, «бездоказательно» чувствовал его двуличие, всячески избегал – почему-то ненавидел, хотя он ничего вредного мне не сделал, ни же неприятного. Кончил я «едва-едва», – атеистом, (в душе) социалистом, и со страшным отвращением, кажется, ко всей действительности. Из всей действительности любил только книги. В университете (историч<еско>-филолог<ический> факультет) я беспричинно изменился: именно, я стал испытывать постоянную внутреннюю скуку, совершенно беспричинную и, позволю себе выразиться, – «скука родила во мне мудрость». Все рациональное, отчетливое, явное, позитивное стало мне скучно «Бог весть почему»: профессора, студенты, сам я, «свое все» (миросозерцание) – скучно и скучно. И книги уже я не так охотно и жадно читал, не «с такою надеждою». Учился тоже «так себе». Вообще, как и всегда потом, я почти не замечал «текущего» и «окружающего», из него лишь «поражаясь» чем-нибудь: а главное была… не то чтобы «энергичная внутренняя работа», для таковой не было материала, вещества, а – вечная задумчивость, мечта, переходившая в безотчетное «внутреннее счастье» или обратно – в тоску.
Кончив – поступил учителем и к учительству относился, как ко всему: «Что-то течет вокруг меня: и все мне мешает думать». Уже с первого курса университета я перестал быть безбожником. И не преувеличивая скажу: Бог поселился во мне. С того времени и до этого, каковы бы ни были мои отношения к церкви (изменившиеся совершенно с 1896/97 г.), что бы я ни делал, что бы ни говорил и ни писал, прямо или в особенности косвенно, я говорил и думал, собственно, только о Боге: так что Он занял всего меня, без какого-либо остатка, в то же время как-то оставив мысль свободною и энергичною в отношении других тем. Бог меня не теснил и не связывал: я стыдился Его (поступая или думая дурно), но никогда не боялся, не пугался (ада никогда не боялся). Я с величайшей любовью приносил Ему все, всякую мысль (да только о Нем и думал): как дитя, пошедшее в сад, приносит оттуда цветы, или фрукты, или дрова «в дом свой», отцу, матери, жене, детям: Бог был «дом» мой (исключительно меня одного, – хотя бы в то же время и для других «Бог», но это меня не интересовало и в это я не вдумывался), «все» мое, «родное мое». Так как в этом чувстве, что «Он – мой», я никогда не изменился (как грешен ни бывал), то и обратно во мне утвердилась вера, что «Бог меня никогда не оставит». Кажется, этому способствовало одно мое чувство, или особенность, какой в равной степени я ни у кого не встречал: скромность, как бы вытекшая у меня из совершенной потери своей личности. Уже много лет я не помню, чтобы когда-нибудь обижался на личную обиду: и когда от людей грубых (напр<имер>, романист Всеволод Соловьев) мне приходилось испытывать чрезвычайные обиды, я не мог сердиться даже и в самую минуту обиды и потом долее трех дней не помнил, что она была. Это глубокое умаление своей личности у меня вытекало из тесноты отношения к Богу: «уничижения» (деланного) во мне тоже нет; а я просто ничего не думал о себе, «сам» – просто неинтересная для меня вещь (как, впрочем, и весь мир), сравнительно с «родное – Бог – мой дом», «мой угол». С этим умалением своей личности (и личности целого мира) связаны (как я думаю и уверен) моя свобода и даже (может показаться) бесстыдство в литературе. Я «тоже ничего не думаю» и о писаниях своих, не ставлю их ни в какой особый «плюс», а главное – что бы ни случилось написать и что бы ни заговорили о написанном – с меня «как с гуся вода»: просто я ничего не чувствую. Я как бы заснул со своим «Богом» и сплю непробудным счастливым сном.
«Чувство Бога» продолжается у меня (без перерывов) с первого курса университета: но характер чувства, и, следов<ательно>, постижение Бога изменилось в 1896/97 г. в связи с переменою взглядов на: 1) пол, 2) брак, 3) семью, 4) отношение Нового и Ветхого Завета между собою. Но рубрики 1), 2) и 4) были в зависимости от крепчайшего утверждения в семье. Разные семейные коллизии сделали, что мне надо съехать с почвы семьи, с камня семьи. Но тут уперлась вся моя личность, не гордым в себе, а именно смиренным, простым, кротким: это что-то «смиренное, простое и кроткое» и взбунтовалось во мне и побудило меня, такого «тихонького», восстать против самых великих и давних авторитетов. Если бы я боролся против них «гордостью ума» – я был бы давно побежден, разбит. Но «кротости» ничего нет сильнее в мире, кротость – непобедима: и как я-то про себя знаю, что во мне бунтует «тихий», «незаметный», «ничто»: то я и чувствую себя совершенно непобедимым, теперь и даже никогда.
Вообще, если разобраться во всех этих коллизиях подробно – и развернуть бы их в том, это была бы величайшая по интересу история, вовсе не биографического значения, а, так сказать, цивилизационного, историко-культурного. По разным причинам я думаю, что это «единственный раз» в истории случилось, и я не могу отделаться от чувства, что это – провиденциально.
Все время с первого курса университета я «думал», solo– «думал»: кончив курс, сел сейчас же за книгу «О понимании» (семьсот страниц) и написал ее в четыре года совершенно легко, ничего подготовительного не читавши и ни с кем о теме ее не говоривши. Я думаю, что такого «расцвета ума», как во время писания этой книги, – у меня уже никогда не повторялось. Сплошное рассуждение на сорок печатных листов – летящее, легкое, воздушное, счастливое для меня, сам сознаю – умное: это, я думаю, вообще нечасто в России. Встреть книга хоть какой-нибудь привет, – я бы на всю жизнь остался «философом». Но книга ничего не вызвала (она, однако, написана легко). Тогда я перешел к критике, публицистике: но все это было «не то». Это не настоящее мое: когда я в философии никогда не позволил бы себе «дурачиться», «шалить», в других областях это делаю; при постоянной, непрерывной серьезности, во мне есть много резвости и до известной степени во мне застыл мальчик и никогда не переходил в зрелый возраст. «Зрелых людей», «больших» – я и не люблю; они меня стесняют, и я просто ухожу в сторону. Никакого интереса с ними и от них не чувствую и не ожидаю. Любил я только стариков-старух и детей-юношей, не старше двадцати шести лет. С прочими – «внешние отношения», квартира, стол, деньги, никакой умственной или сердечной связи (с «большими»).
Сотрудничал я в очень многих журналах и газетах, – всегда без малейшего внимания к тому, какого они направления и кто их издает. Всегда относились ко мне хорошо. Только консерваторы не платили гонорара или задерживали его на долгие месяцы (Берг, Александров). Сотрудничая, я чуть-чуть приноровлял статьи к журналу, единственно, чтобы «проходили» они: но существенно вообще никогда не поддавался в себе. Но от этого я любил одновременно во многих органах сотрудничать: «Одна часть души пройдет у Берга.». Мне ужасно надо было, существенно надо, протиснуть «часть души» в журналах радикальных: и в консервативнейший свой период, когда, оказывается, все либералы были возмущены мною, я попросил у Михайловского участия в «Русск<ом> богатстве».
Я бы им написал действительно отличнейшие статьи о бюрократии и пролетариях (сам пролетарий – я их всегда любил). Михайловский отказал, сославшись: «Читатели бы очень удивились, увидав меня вместе с Вами в журнале». Мне же этого ничего не приходило в голову. Материально я чрезвычайно многим обязан Суворину: ни разу он не навязал мне ни одной, ни разу не внушил ни одной статьи, не делал и попытки к этому, ни шага. С другой стороны, я никогда в жизни не брал авансов, – даже испытывая страшную нужду. Суворин (сколько понимаю), тоже ценит во мне не-жадность: и как-то взаимно уважая и, кажется, любя друг друга (я его определенно люблю, – но и от него, кроме непрерывной ласки, ничего не видел за десять лет), – хорошо устроились. Без его помощи, т. е. без сотрудничества в «Н<овом> вр<емени>», я вот теперь не мог бы даже отдать детей в школы: раньше хватало только на пропитание и квартиру, и жена в страшную петербургскую зиму ходила в меховой кофте, не имея пальто. Но моя прекрасная жена никогда ни на что не жаловалась, в горе – молчала, делилась только «хорошим»: и вообще должен заметить, что «путеводной звездой» моей жизни служила всегда эта вторая жена, женщина удивительного спокойствия и ясности души, соединенной с тихой и чисто русской экзальтацией. «Великое в молчании».
Статьи мои собраны в книгах:
1. «Сумерки просвещения», 1899 г.
2. «Природа и история», 1899 г.
3. «Литературные очерки», 1900 г.
4. «Религия и культура» (два издания), 1900 г.
5. «Легенда о Великом Инквизиторе» Достоевского». Три издания.
6. «В мире неясного и нерешенного» (главная идейная книга). Два издания, 1904 г.
7. «Семейный вопрос в России», 2 тома, 1905 г.
8. «Около церковных стен», 2 тома, 1907 г.
9. «Ослабнувший фетиш», 1907 г.
10. «Место христианства в истории», 1901 г., брошюра.
11. «О декадентах», 1907 г., брошюра.
12. «Метафизика Аристотеля». Книги I–V.
Перевод и комментарии в сотрудничестве с П. Д. Первовым (учитель гимназии в Ельце).
Служил сперва учителем истории и географии (Брянск, Елец, Белый), потом в Государственном контроле, потом – нигде. Служба была так же отвратительна для меня, как и гимназия. «Не ко двору корова» или «двор не по корове» – что-то из двух.
В. Розанов
Мечта в щелку
…Нет, это ужасно. Быть трусом не только при жизни, но и после смерти! Ну, хорошо, я рос, сперва – мамаша, потом – брат, заступивший место отца, милый Коля, теперь покойник. Всегда обеспеченный стол, столь же обеспеченный, как плошка с молоком для комнатной собаки. В известный час дня, о котором я, конечно, знал, я входил в определенную комнату, садился на определенный стул, съедал две тарелки, жидкого и твердого, говорил куда-то в угол «спасибо» и возвращался в свою комнату, обыкновенно спал, затем пробуждался, приходил опять на тот же стул в той же комнате и выпивал два, а при смелости и три стакана чаю, опять повторял в угол «спасибо» и, вернувшись к себе, зажигал лампу. «Да, что такое? Завтра – уроки, надо приготовить уроки», и я раскрывал журнальчик, смотрел: «пятница» – такие-то «уроки», но, припоминая пять учительских физиономий, вместе с тем вспоминал, что один учитель что-то как будто задал, но не прямо, а косвенно, второй велел что-то повторить, третий задает так много, что все равно не выучить, четвертый – дурак и его все обманывают, пятый урок – физика и будут опыты. Тогда я облегченно вздыхал. О, это был радостный вздох, настоящий вздох бытия. «Значит, ничего не задано». Тогда я все пять книжек, по всем пяти урокам клал дружку на дружку и совал в угол стола, чтобы завтра не искать. «Значит, все готово к завтрому?!» И с аккуратностью Акакия Акакиевича, человека законного и исполнительного, я захлопывал журнальчик, всовывал его среди пяти книжек, чтобы завтра тоже не искать, энергично повертывался к постели, брал на всякий случай катехизис или алгебру, засовывал меж листов палец и, спустив книгу к полу, как бы в истоме усталости или пламенного зубренья (это на случай входа в комнату брата) закрывал глаза…
и бурно, моментально, фантастично – не то что уносился, а прямо как будто падаю в погреб – уносился в мир грез, не только не имевший ничего общего с Нижним Новгородом и гимназией, но и с Россией, Карамзиным и Соловьевым (воплощение истории), ни с чем, ни с чем…
Так, царства дивного всесильный властелин…
Сумел же Лермонтов выразить настроение… Но это было до утра. Утром я вставал – тихий, скромный, послушный, опять выпивал два стакана чаю с молоком, брал приготовленные вчера пять книжек и шел в гимназию. Здесь я садился на парту и, сделав стеклянные глаза, смотрел или на учителя, который в силу чарующей гипнотической внимательности моей объяснял не столько классу, сколько в частности мне; а на математике смотрел также на доску. Семь лет постоянного обмана сделали то, что я не только внимательно смотрел на учителя, но как-то через известные темпы времени поводил шеей, отчего голова кивала, но не торопливо, а именно как у вдумчивого ученика, глаза были чрезвычайно расширены (ибо я был ужасно счастлив в душе), и, словом, безукоризненно зарабатывал «пять» в графе «внимание и прилежание».
Конечно, я ничего не слышал и не видел. Когда меня вызывали – это была мука и каинство. Но все семь лет учения меня безусловно любили все товарищи (и я их тоже любил и до сих пор люблю), и едва произносилась моя фамилия, как моментально спереди, сзади, с боков – все оставляли друг с другом разговоры, бросали рассеянность, вообще бросали свои дела и начинали мне подсказывать. Я ловил слова и полуслова, и как Уллис умел же плавать с простыней (кажется) Лаодикеи, морской нимфы – так я отвечал на «три», на «четыре с минусом» или на «два с плюсом». Сам я никогда и никому не подсказывал, потому что совершенно ничего не знал и притом ни по одному предмету. Совестно признаться, но уж теперь дело кончено. И там, и здесь тоже было: «Так, царства дивного всесильный властелин»… Так же пролетели и четыре года филологического факультета. Этим только, то есть столькими годами мечты, воображения, соображений, гипотез, догадок, а главное – гнева, нежности, этой пустыни одиночества и свободы, какую сумел же я отвоевать у действительности, мелкой, хрупкой, серой, грязной, – и объясняется, что прямо после университета я сел за огромную книгу «О понимании», без подготовок, без справок, без «литературы предмета», – и опять же плыл в ней легко и счастливо, как с покрывалом Лаодикеи… Странная судьба, странная жизнь. Но я заговорил не об ней, не об этой полосе жизни и счастья, а о часах покорности, действительности, когда у меня не было стеклянных (блаженных) глаз, а глаза робкие, тихие, я думаю (так я чувствую в душе, так было с внутренней стороны), глубокие, но в чем-то вечно извиняющиеся и за что-то просящие пощады, а вместе – хитрые и готовые на злость, готовые на моментальное бешенство, если бы меня не «простили» и не пропустили к той маленькой щелочке, к какой-нибудь нужной вещи, к которой я пробирался, извиняясь на все стороны. Странно, сколько животных во мне жило. Шакал и тигр, а право же – и благородная лань, не говоря уже о вымистой (с большим выменем) корове, входили в стихию моей души. «Ему приснилось во сне, – говорится о каком-то литовском князе, заснувшем на берегу реки Вилии, – что он видит волчицу, вывшую таким страшным голосом, точно в ней сидело еще тысяча волченят». Вот это обилие в животном – еще животных, как в пасхальных яичках (подарки детям) вкладываются еще яички, все мельче и мельче, и так множество в одном – эта бездонность разумной и провидящей животности всегда была во мне, и отталкивала от меня, и привязывала ко мне. Мне случалось бывать шакалом – о, ужасные, позорные минуты, не частые, но бывавшие – вот бегут люди, отворачиваются: глубокая скорбь проходит по душе, и вдруг выходит лань, да такая точная, с тонкими ногами, с богозданными рогами, ласкающаяся, кладущая людям на плечи морду с такой нежностью и лаской, как умеет только лань.
Но бросим. Я все увлекаюсь. Это – перед старостью. Давно все это прошло. Давно все это не нужно. В конце концов я трус, ибо умел быть смелым только в мечтах, а жизнь прожил позорным ослом, не умевшим ни бежать, ни лягаться, ослом благоразумным, прошедшим неизмеримо длинный путь, и тут сказалась моя человекообразность: однако во весь путь я именно являл фигуру осла, которого бьют и который несет какую-то чужую проклятую ношу. Меня давит решительно мысль, что после наступающей старости я взойду и на «могильный холм» в этой же фигуре осла и, так сказать, печальная эмблема длинноухого и, главное, с чужою поклажею животного станет монументом над кучкой земли, которая вспухнет над моим гробом.
Нет, если я не умел или не смог жить, как хотел бы, я хотел бы по крайней мере умереть, как хочу.
Правда, первые дни пусть я буду по-прежнему ослом. «Никакого шума» – это было лозунгом моей тихой и кроткой жизни. Черт с ней – пускай так и останется. Т. е. пускай меня вымоют, наденут чистое белье – «ибо нужно на тот свет явиться чистым», ограбят мою душу… Это я говорю об одном, меня ужасно пугающем обыкновении.
Именно когда умирала моя старшая дочка Надюша, то я, с неким «зароком» (не исполнил) положил ей на глазки, уже закрывающиеся, носимый всегда на шее серебряный образок, маленький и квадратный. Потом одел его опять на шею, рядом со старинным и некрасивым золотым крестиком, которым тоже заветно обменялся с существом, которому обещался последней любовью (это исполнил). Так вот меня и тревожит, что так как это золото и серебро, то его, как обыкновенно, снимут с меня и взамен дорогого и милого здесь на земле оденут на шею двухкопеечный кипарисный крестик, «дабы идти к Судии Вечному в деревянном смирении, а не в золотой и серебряной гордости». Так поступали со всеми умершими, каких я видел. Всегда нательный крест снимали и надевали торговый, из лавки. Это я считаю позором и кощунством. Позвольте мне рассуждать при жизни и твердо заявить, что я хочу идти «туда» именно тем шагом, каким ходил по земле, ну, например, ослиным и трусливым, а главное – неся на шее именно те дорогие и точные эмблемы, какие здесь носил, а не торговые и деревянные, будто бы из «смирения и страха, как туда явиться».
Страх я точно имею, но не хочу «прощения» завоевывать, семеня ножками и просовывая вперед кипарисовый крестик не дороже двух копеек:
«вот-де, Господи, всегда был в рубище» и «сейчас в рубище». Вообще – как есть, так и желаю идти, а с «эмблемами» не хочу расставаться, в «рай» ли или «ад» меня пошлет Господь. Вообще, все, что любил здесь – желаю сохранить и там, не исключая даже слабо помнимые тени подсказывавших мне в Нижнем товарищей. Я принимаю «суд» только с моих точек зрения и уж непременно, во всяком случае, с горячейшими моими привязанностями.
Ну, об остальном, кроме этих двух крестиков, – я не спорю и все принимаю с ослиным равнодушием, т. е. и сроки, и времена, и звуки, и позументы. Я до того позорный трус и осел, что хотя вот уже годы придумал себе особое местечко для похорон, но так как это вызвало бы споры и, следовательно, «шум и разговоры» надо мной, то вполне соглашаюсь, что, напр., на третий день меня с надлежащими словами и проч., провожатыми и каретами и проч. отнесут туда-то и опустят в могилу между статским советником Иваном Ивановичем и мещанкою Анфисою Федоровною. Не протестую. Лежу и соглашаюсь. Все пусть течет «как следует». Вообще от «как следует» никаких отступлений. Я притворялся при жизни, пусть притворно сойду в могилу. Но когда все разойдутся и меня немножко призабудут, т. е. неделек через восемь (через шесть, кажется, поминают) или через год с месяцами, когда окончательно «помянут» и скажут «а ну его к черту, довольно возились и, кажется, все прилично»… тут, кто любит меня, пусть исполнит мою фантазию.
Прежде всего уважения во мне к людям и теплой благодарности – бездна. К счастью – я знал друзей и, конечно, и «там» их не забуду. Но дело в том, что только друзья мои подлинно и знают, что я был им друг. И пусть это будет интимно, вну-тренно. Пусть это будет одиноко и молчаливо. В общем же опять режущею несправедливостью было бы, если б с этими немногими друзьями смешались вдруг «вообще знавшие», ахавшие, хлопотавшие и проч., вообще «похоронная толпа» или «толпа помнящих людей». Я хочу войти «туда», так сказать, с пристально-определенными отношениями, в каких был и «здесь», т. е., в частности, не допуская до моей могилы. Поэтому через год с немногим, когда уже все забудется, я бесконечно хотел бы убежать с места моих «как принято» похорон и похорониться вновь по моей мучительной и одинокой фантазии. До сих пор были все «стеклянные глаза», а теперь пусть восстанут подлинные «внутренние животные».
Именно прежде всего я не хотел бы совершенно одинокой своей могилы. Но кто знает, с кем я хотел бы лежать, пусть догадается. Тут придется, или пришлось бы, вырыть и одну старую могилу. Меня тяготит, что это невозможно, вот уже много лет тяготит, и только утешает то, что все равно будет подземное сообщение. Но, затем, я отнюдь не хотел бы и решительно не хочу лежать на общем кладбище, где лежат люди-цифры, для меня – цифры, которых я не знаю и не могу ничего к ним чувствовать, хоть они, может быть, и хорошие люди. Факельщиком за чужими похоронами я не ходил не потому, чтобы не жалел, а потому – что не знал умерших. И лежать «среди гробов» считаю то же, что равнодушно и бессмысленно идти за гробом «не знаю кого», – и этим бессмыслием и равнодушием я не хочу ни оскорблять, ни оскорбляться. «Общее кладбище» пусть будет для кого угодно понятная вещь, а для меня оно не понятная – и отвергаемая всеми силами души.
Мечта моя – природа и одиночество, за исключением близости близких, вечной, несокрушимой. Но о близких, чьи гробы я зову, – о них я уже сказал. Теперь это кончено, и я воздвигаю мавзолей. Это должна быть высокой, сажени в полторы, кирпичной кладки стена, с заостренными гвоздями наверху, какие устраиваются в заборах, «через которые никто не должен перелезать». В этой стене вокруг могилы главная и упорная моя мечта, лелеемая, нежная, глубокая, как мои робкие глаза. Разделенность с живущими, как и «с окружающей жизнью», должна быть вторым вечным и несокрушимым моментом. Никакой связи с «Карамзиным и Соловьевым», выражаясь иносказательно, не должно быть. И как перерыв, как «лестница» – прочь! должны быть убраны всякие надписи на стене, а тем паче на (никогда никем не видимой) могиле; вообще никакой «прописи паспорта» не должно быть около тела. Самое тело должно быть не просто в земле, а в свинцовом ящике, и вообще червей, гнили и растаскивания костей – не нужно. Это – возмутительно, что мы отдаем тела родных микробам и червям; говорим над ними прелестные слова по смыслу, а затем опускаем их в какие-то «почвенные воды», в гниль, холод и мразь… Возмутительно. И этого возмутительного я не хочу. Только неприятно «историю над телом затевать», а то через секунду по смерти я хотел бы (в предупреждение микробов), чтобы меня обмакнули в коллодиум или в часто употреблявшийся мною при жизни гуммиарабик, и затем – в свинцовый гроб, с запаиванием. Одежд как можно меньше, и кроме прощальных эмблем на шее, вообще хоть ничего…
Сверху – никакого соединения стен кирпичных, т. е. никакого потолка. Небо должно быть надо мною. И солнце. Но ноги должны быть повернуты к востоку, дабы я как бы встречал солнце – приветствовал, говорил ему каждое утро «здравствуй». При полном исполнении моего желания стены должны бы быть не вертикальными, а отвесно-пологими, раздающимися вширь к верху (воронка, опрокинутая широким краем к верху); это дабы солнце не только один час стояло надо мной, а чтобы весь день или его значительную часть светило лучами на землю. Но это – трудно. И последнее – чтобы земля была засеяна какими-нибудь возобновляющимися цветами, т. е. чтобы, умирая, они осыпали на землю семена, которые и без посадки, без углубления в землю, вырастали бы к следующей весне новыми цветами.
Всего лучше – это в лесу или в поле. И всего бы лучше вне градусов северной широты и восточной долготы. (Посмотреть градусы России, вне градусов России, но России не упоминать.)
Много? трудно? Ну, оставьте так, «как следует». Терпел при жизни. Потерплю и после смерти. А мистические животные во мне пускай уж через пространства вопят как-нибудь к Богу…
В. Розанов









































