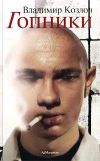Текст книги "Бергман"
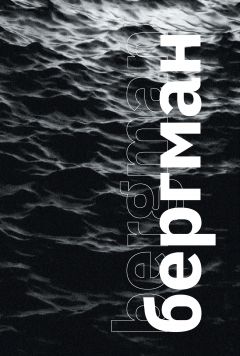
Автор книги: Василий Степанов
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Бергман в 1968 году
Ксения Рождественская
Фильм Ингмара Бергмана «Стыд» показали шведской прессе 21 августа 1968 года, в день ввода советских войск в Чехословакию. Считается, что это предопределило все последующие споры по поводу этой драмы. Позже режиссер говорил, что выпусти он фильм на полгода позже, фокус истории был бы другим. 1968 год стал чем-то вроде увеличительного стекла, поджигающего искусство: любое произведение немедленно должно было превратиться в актуальное высказывание.
В тот год Бергман выпустил два фильма. Оба, пусть и с оговорками, можно отнести к жанровому кино: «Час волка» – хоррор, «Стыд» – военная драма. Оба фильма – нечто вроде снов экранной пары Лив Ульман – Макс фон Сюдов, в первом случае сон сюрреалистический, дикий, ядовитый кошмар безумца, во втором – сон невыносимый.
В «Часе волка» три предисловия: предуведомление о том, что перед нами – экранизация дневника художника Йохана Борга; саундтрек со съемочной площадки под титры на темном экране; монолог героини, Альмы, которая вводит зрителя в историю. Публика должна одновременно верить в реальность происходящего – и не верить в нее. «Полезно пробудить зрителя на мгновение, чтобы потом вновь окунуть его в драму», – так Бергман объяснил этот прием.
Саму историю легче всего описать как экзистенциальный хоррор, фантасмагорию, в которой некоторые персонажи носят гофмановские имена, кошмарные видения художника, для которого творчество – это мучение, болезнь, оживающий ад. Альма мечтает, что когда-нибудь они с Йоханом будут похожи, как все долго живущие вместе пары, старается смотреть на мир, как он, и не только видит его «демонов», но и разговаривает с ними. «Час волка» – время, когда приходят кошмары, предутренний час, когда депрессия сильнее всего. «Было время, – говорит Йохан, – когда ночи были для сна: спать, проснуться. Без страха».
Фильм изначально должен был называться «Людоеды». Работа над сценарием началась еще в 1964 году, причем, по признанию Бергмана, история была «очень личной». Шведская критика приняла фильм довольно прохладно: признавая, что сделан он блестяще, указывали на абсолютную закрытость и асоциальность картины, Бергмана сравнивали с фокусником. В Америке дела шли лучше. Роджер Эберт, например, призывал «принять» хоррор, не задавая вопросов, и тогда фильм «сработает великолепно». Он остроумно сравнил зрителя «Часа волка» со зрителем диснеевской «Белоснежки»: как «Белоснежка» требует от детей «творческого акта воображения», «отказа от недоверия», так фильм Бергмана требует того же от взрослых.
Еве, героине «Стыда» (предварительное название – «Сны о стыде»), кажется, будто все это снится кому-то: «И это не мой сон. Чей-то чужой, а меня загнали туда силой. Нет вокруг ничего по-настоящему реального. Все выдумано. Как, по-твоему, пойдут дела, когда тот, что видел нас во сне, очнется и покраснеет от стыда за свой сон?»
Кто проснется? Бог? Глава семьи? Человек, начавший войну? Автор фильма?
«Стыд», как и «Час волка», начинается с закадровых звуков – с каши из радиосигналов, выстрелов, криков. «А радио у нас сломано», – снова и снова будет повторять героиня, Ева. Это фильм о семейной паре, музыкантах, которые пытаются жить вне войны, со «сломанным радио», но у них не получается. Война приходит и на их остров. «На чьей вы стороне?» – спрашивает у них военный. – «Ни на чьей, мы музыканты». – «Вы были музыкантами. Оркестров больше нет. Значит, вам безразлично, при каком политическом режиме вы живете?» – «Нет! Но война продолжается так долго… и нам так трудно…»
Война в «Стыде» условна, это долгое, изматывающее противостояние одних и других, неважно, кого именно. Музыканты – жертвы, гражданская война требует от них стать «сочувствующими», принять какую-нибудь сторону, а потом умереть за это. Или убить. Как ни глупо, но, когда этот фильм вышел, Бергман оказался в положении своих героев.
В «Стыде» критики искали ответ режиссера на войну во Вьетнаме. Но если в «Персоне» (1967) Бергман делает хронику самосожжения вьетнамского монаха важным эпизодом фильма, то в «Стыде» история полностью лишена конкретики, неизвестно даже, когда происходит действие. Вероятно, где-то в будущем. Это фильм, постепенно уходящий в апокалиптический сон, фильм о том, что принять любую сторону – значит проиграть.
Первую разгромную статью в Aftonbladet написала левая журналистка Сара Лидман, к тому времени она уже бывала во Вьетнаме и издала книгу интервью «Встречи в Ханое». Она восприняла «Стыд» как поддержку проамериканских военных сил, как оправдание войны, как «мечту всех западных производителей оружия». Она возмущенно писала: «Война никогда не закончится, если никому не будет дела до ее причин». Бергман ответил ей: «Насколько я вижу, не может быть благородной или низменной войны. Насилие, во имя чего бы оно ни совершалось, предосудительно и разрушает все человеческое».
Было еще много критики, справедливой и не очень. Фильм называли реакционистским и опасным, обвиняли в том, что «сама тема масштабнее, чем режиссер». И, наконец, вышло злое, резкое интервью француза Эрнеста Риффе с Ингмаром Бергманом. Сначала режиссер отворачивался от разговора: «Где вы находитесь с точки зрения политики?» – «Нигде. Если бы существовала партия трусливых, я бы к ней примкнул». – «Расскажите что-нибудь о „Стыде“». – «Я не обсуждаю мои фильмы». Разъярившись, интервьюер оскорблял Бергмана, называл его ничтожеством: «Все, чего я хочу, – сказать что-нибудь о вашем проклятом, отвратительном фильме, который я, конечно же, не смотрел, но который, по мнению многих тонко чувствующих людей, можно было бы с тем же успехом никогда и не снимать… Зачем вы продолжаете? Почему бы не сделать вместо этого что-нибудь полезное?» – «Почему птица кричит от страха? Да, я знаю, что ответ звучит сентиментально… Если хотите, запишите весь список слов: страх, стыд, унижение, гнев, ярость, скука, удовлетворение».
Эрнест Риффе – псевдоним Бергмана, уже знакомый читателям того времени. Бергман взял «шизофреническое интервью» у самого себя, сам на себя наорал, сам себя высмеял: «Знаете ли вы, что такое фильм? Откуда вам знать, вы же критик».
Критикам из 1968-го «Стыд» казался апологией войны. Потом в нем увидели и признание вины за нейтралитет Швеции во Второй мировой, и автопортрет трусливого человека, и – гораздо позже – картину о разладе в семейных отношениях: это не война, это просто любовь кончилась, и мир вокруг героев подстраивается под их чувства.
Но главное, что объединяет «Час волка» и «Стыд», – тема страха. Оба эти фильма рассказывают не о внешней угрозе – аристократических вампирах-каннибалах в «Часе волка» или гражданской войне в «Стыде», а о том, как постоянное давление, неважно, снаружи или изнутри, меняет человека, и о том, как страх делает человека фашистом. Убийцей. Не тяга к порядку, не желание силы: страх.
Страх – это когда время перестает работать. «Ох, эти секунды! Как они длинны», – в «Часе волка». «А радио у нас сломано», – в «Стыде». Страх – это когда умирают, становятся пылью семейные связи. Страх – это когда ты на лодке в открытом море плывешь по отравленной воде, и до развоплощения осталось совсем немного. Страх – это когда от тебя требуют принять чью-то сторону.
Но мы не знаем, чью. Радио у нас сломано.
2018
Уроки эгоцентризма
Татьяна Москвина
Совершенно очевидно только одно: что Бергман мог бы прекрасно обойтись без России, а Россия – без Бергмана, но так не получилось; существования пересекались к обоюдной, надо думать, пользе.
В качестве вступления замечу, что длиннолицего, печальноглазого Рыцаря из «Седьмой печати» зовут Блок; занятное совпадение. Моей сумрачной и мистической петербургской душе хотелось бы верить, что это наш Блок, Александр Блок и есть. Может, когда-то эти двое, Блок и Бергман, один – рыцарем, другой – конечно, предводителем шайки бродячих комедиантов, бродили по берегу холодного моря, творя известное нам средневековье. Блок всю жизнь был зачарован эпохой крестовых походов, и его драму «Роза и крест» нетрудно себе представить именно в постановке Бергмана, а лирические пейзажи блоковских стихотворений, особенно те, что рассказывают о «скуке загородных дач» и о коротких встречах среди сосен и дюн на берегу милого и убогого Финского залива, – их можно было бы претворить в духе поэтики бергмановских картин.
Впрочем, среди великих петербургских эгоцентриков и еще сыщутся родственные Ингмару Бергману души. Особенно среди тех, кто смог проникнуться смирением перед кошмарным мифическим образом «холодного моря» (холодное море мифологически равняется мертвой матери) или даже полюбить его «странной любовью». Образ «холодного моря» – мертвой матери замечательно прокомментировал в одном из интервью сам Бергман. Говоря о встрече Старого профессора из «Земляничной поляны» с его еще более старой, совсем древней родительницей, режиссер заметил: «А представляете себе эмбриона, замерзшего уже в холодном чреве матери?» Жизнь родилась возле теплого моря, подле холодного ей остается вопрошать «быть или не быть?», упорствуя в бытии и все же не совпадая с ним. Вряд ли можно говорить о феномене «прибалтийского» искусства, но строго определенный и своеобразный оттенок в мировосприятии культурного типа «прибалтийца» существует.
«Здесь, на севере грустном, у нас трудны деньги и дороги лавры», – писал Некрасов. Лавры в самом деле дороги, ибо редко кому из «прибалтийцев» удается сделать свое мировосприятие общим достоянием, как это удалось Бергману. Определение многонационального человеческого сообщества по его причастности к морю существует, кажется, только для жителей Балтики. И в нем уже заключен оттенок тоски и тишины: жизнь при-легла, при-ютилась, при-билась сюда, к холодному чреву вечной матери. Как большинство северян, прибалтиец терпелив и тверд, ибо добывать пропитание на Балтике – не то что подбирать сонных крабов на тихоокеанских островах, но он более нежен, чем суровые поморы. Прибалтиец тяготеет к рационализму, ему нужна простая, терпеливая, разумная, основательная, хорошо законопаченная вера, точно лодка, на которой можно выйти в море. Жить с трудом – в прямом и переносном смысле слова – лозунг прибалтийца. Но:
Жизнь, как загадка, темна,
Жизнь, как могила, безмолвна,
Пусть же пробудят от сна
Страсти порывистой волны…
(Александр Блок)
– и прибалтиец способен на внезапные и жестокие страсти.
Зная творчество Бергмана, можно возразить: но ведь как раз у него и нет «простой, основательной, хорошо законопаченной веры». Нет, есть. Бергман верит в себя. Вот как он говорит о годах своего становления: «Лоренс научил меня просматривать текущий материал абсолютно объективно, абсолютно трезво и с совершенною холодностью. Когда смотришь снятые тобой сцены, поневоле втайне желаешь, чтобы они были хорошими, чтобы производили впечатление, чтобы в них было именно то, что ты задумал… Лоренс научил меня быть объективным, смотреть совершенно холодно… перед нами просто материал, и нужно установить, что в нем хорошо и что плохо… Это правило должно сочетаться с другим правилом – кажется, это выражение Фолкнера kill your darlings, „убей своих любимых“. Это два основополагающих правила моей работы».
Не так ли «трезво и объективно», устанавливая, что хорошо и что плохо и убивая своих «любимцев», смотрит на «отснятый материал» наш Всевышний?
Особый род эгоцентризма, развитый и возведенный Бергманом в статус высокой художественной ценности, привил буржуазной культуре, в принципе обожающей все «горяченькое» и «тепленькое», вкус к холоду. К холоду как к средству от порчи материи.
Эгоцентрик очерчивает магический круг собственного пространства, страну своей личности и живет только в ней и только ею. Особость бергмановских эгоцентриков в том, что они не совершают при этом никакого насилия над собой, не страдают от одиночества (они страдают, но совсем от другого), не бросают вызов обществу, не бунтуют. Отчего?
Тут уместно привести хорошие слова петербургского мыслителя Алекандра Секацкого: «Ибо кто такой, в конце концов, человек? Это тот, кто, повернувшись вослед Божественному отливу, может сказать: я остаюсь. И, вместо привычного напутствия „С Богом“, услышать ранее никогда не произносимое: „Без Меня…“ – как последний отзвук вещих глаголов».
Сказать «Я остаюсь», то есть ответить положительно на великий вопрос главного прибалтийца всех времен, принца Датского Гамлета, можно только одному, только за себя. Немыслима толпа, хором говорящая вслед отливу Божественного Логоса «Мы остаемся». Хором надо говорить «Христос воскрес». Но «Я остаюсь без Тебя» – решение сугубо эгоцентрическое и делающее невозможным, в силу сути своей, слишком рьяные и тесные связи с обществом и другими людьми. Эгоцентрики Бергмана честно перетаскивают на себе всю тяжесть жизни, ни от чего не уклоняясь, и платят по всем счетам, не пытаясь обнаружить подлог. Совершенное отсутствие плутовства, обмана, лукавства в душевном составе бергмановских эгоцентриков делает их более чистыми, чем тьмы притворных альтруистов. Если они не могут сказать правду, то молчат, вслед молчанию Логоса.
Когда история о Старом профессоре («Земляничная поляна»), стала достоянием части образованного общества Страны Советов, отечественная кинематография отнюдь не представляла собой уединенный остров, на котором изумленные туземцы встречали ослепительных богов западного авторского кино, сошедших на берег во всем великолепии пробковых шлемов и зажигалок «Зиппо». В 1957 году мы получили свою первую и пока последнюю «Золотую пальмовую ветвь» – за «Летят журавли» Михаила Калатозова. На свой лад кинематография даже зацветала, однако формула «судьба человеческая – судьба народная» была главной, бесспорной и подавляюще основной. Где-то, на каких-то лирических обочинах, еще могли щебетать Машеньки, девчата и подруги, и то с согласия Его Величества Коллектива. Эпическое величие формулы «судьба человеческая – судьба народная» давала определенный простор искусству, но фигура эгоцентрика могла иметь одно лишь место: в углу, освещаемая негодующими взорами сообщества, коллектива или всего народа.
И для молодых студентов ВГИКа, и для мастеров советского кинематографа эффект восприятия «Земляничной поляны», я думаю, заключался прежде всего в уроках эгоцентрической этики, в поэтизации личностного пространства и в экзистенциальной чистоте художественного высказывания. Бергман никогда не был для России настолько любимым, близким и родненьким, как неореалисты и Феллини. Нет в нем ни бурного жизнелюбия, ни сочувствия к маленькому человеку, ни восхищения стихиями бытия. Никакой «народности»… и даже элементарной соотнесенности человека с общежитием. Но эта эгоцентрическая отдельность частного человека и зацепила довольно сильно наше отечественное художественное подсознание.
Рубеж 1950–1960-х годов Григорий Козинцев, Иван Пырьев, Михаил Ромм, Иосиф Хейфиц встречали почти что «старыми профессорами». Они, увидевшие революцию в возрасте 12–16 лет и соблазненные затем кто личным творчеством мифологии тоталитаризма, кто социалистической идеей, кто этикой коллективизма, кто смачной фактурой вздыбленного времени, возвратились вместе с Бергманом к «Скучной истории» Чехова – а «Земляничная поляна» кажется экранизацией некоторых ее мотивов. Конечно, не бергмановский фильм виной тому, что отныне в творчестве этих мастеров не стало и помину социалистической идеи или этики коллективизма; вряд ли благодаря ему они поняли, что «каждый умирает в одиночку». Тут речь идет о тектонических сдвигах в художественном подсознании, в которых участвовал и Бергман и которые «старые профессора» нашего кино осуществляли: Пырьев – экранизируя Достоевского, Хейфиц – Чехова и Нилина, Козинцев – Шекспира, Ромм – создавая документальные фильмы о том, что коллектив может глубоко заблуждаться, а светлые идеи – вести людей в непроглядную тьму.
«Гамлет» Григория Козинцева – наверное, самый «берг-мановский» фильм отечественного кинематографа. Козинцевский Гамлет живет, мыслит и погибает на берегу холодного моря; образ «холодного моря» становится чувственной доминантой фильма, а идейной – знаменитое смоктуновское: «Но играть на мне нельзя!», ставшее лозунгом шестидесятников. Графически резкая очерченность фигур в пустынном пространстве, наполненном особым разреженным воздухом, значительность речи и музыки, возникающих из молчания, а не нарушающих его, аскетизм в выборе вещей, деталей – тоже бергмановские частички, конечно, я имею в виду Бергмана 1950–1960-х годов.
Парадоксальным образом мышление шестидесятых и Ингмар Бергман сошлись в общей точке: в позиции человека, говорящего «Я остаюсь без Тебя» вслед убывающему Логосу. Но для Бергмана то был традиционный Бог, для шестидесятых – Логос, возвещавший идеалы общественного переустройства. Реабилитация личностного пространства могла, художественно оформляясь, питаться бергмановской эстетикой. Но горделивая этика эгоцентризма, выросшая на полном осознании богооставленности, – такое, я думаю, осуществиться в русском мышлении не может. Невозможен до сих пор, например, русский вариант «Причастия» – истории пастора, потерявшего веру. Священник в нашем искусстве будет идеально возвышен или насмешливо снижен, но в подобной трагедии ему решительно отказано. Невозможно столь смелое и свободное отношение к еврейству, какое проявил Бергман в фильме «Фанни и Александр», где, кроме традиционно доброго и мудрого дядюшки Якоба, существуют еще двое его племянников – загадочно кривляющийся Арон, насмешник и алхимик, и сидящий взаперти сумрачный ангел-истребитель Исмаил. Насколько заворожило русских художников бергмановское пространство отдельного человеческого лица и отдельного человеческого духа, настолько же они сопротивлялись его системе ценностей.
Пространство личности в нашем кинематографе расширялось, но – до известного предела. Стали возможными длинные монологи от первого лица. Но в них личность в основном предавалась тоскующему самобичеванию, богоискательству и постановке общих для человечества задач. Пример очевидной и крупной встречи Бергмана с русским мышлением – Андрей Тарковский.
Тарковский в русском кинематографе был тем, кто расширил до предела пространство человека, отдельного человека. Он наградил его всеми правами – острым сознанием и самосознанием, свободой выбора, тяжкой судьбой и совестью. Любимые герои Тарковского, одинокие эгоцентрики, зачастую губящие жизнь своих отважных возлюбленных, – неистово и преданно служат Делу. В первых фильмах Тарковского Дело еще можно назвать, обозначить, хотя ни борьба с захватчиками, как в «Ивановом детстве», ни роспись соборов, как в «Андрее Рублеве», не предполагают подобной исступленной страстности. Затем конкретность Дела вовсе исчезает. Речь впрямую ведется о спасении мира. Человек, повернувшись вслед Божественному отливу, кричит: «Вернись! Не могу без Тебя!»
Позиция отчаянного крика – напряженная, мрачная, но и величественная. Если бы только спасение мира зависело от степени отчаянности наших криков или от того, сколько раз мы сумеем пройти по водоему, не задув свечу. Впрочем, оно может именно от этого и зависеть. Кто знает-то?
Русское мышление способно на любые обольщения и в высшей степени склонно принимать речи антихриста за Божественный Логос; однако даже в сочинениях наших первостатейных эгоцентриков всегда будет поиск того, что Чехов в «Скучной истории» назвал «общей идеей или Богом живого человека» – таков, скажем, Бердяев. Комфорт прибалтийского эгоцентризма – комфорт заключается в искренности, истинности существования, отказе от высокопарной лжи, честности экзистенции, как честны даже в своем аморализме милые буржуи из «Фанни и Александр» – не сможет быть поводырем в приключениях нашего художественного самосознания. Как бы ни ловил наметанный глаз бергмановское молчание, бергмановскую задумчивость, бергмановскую графику лиц, бергмановскую почти шахматную точность в расстановке фигур, бергмановские мучения от близости Другого, бергмановский лаконизм жеста – в фильмах Муратовой, Авербаха, Панфилова, Тарковского, Хейфица и других, – нельзя не задуматься о парадоксах влияния чего бы то ни было на русских художников…
А что же другая сторона вопроса – Бергман и Россия? Кажется, он любил Чехова. И однажды поставил «Бесприданницу».
1996
Прощание с театром в присутствии кино
Ирина Цимбал
С середины 1990-х Бергман начал подводить итоги, навсегда, казалось, прощаясь с театром и кино. Один за другим возобновлял старые спектакли – уточнял, укрупнял, переставлял акценты, менял актерский состав. Ставил почти заново.
Третью редакцию «Мизантропа» посвятил Ариане Мнушкиной, внесшей неожиданные обертона в его молье ровидение после фильма «Мольер», о чем режиссер уведомил зрителей в программке 1995 года. Пьесу-фарс Витольда Гомбровича «Ивонна, принцесса Бургундская» поставил вторично с большим сарказмом и размахом театральной многокрасочности. В третий раз – после оперной версии на музыку Даниэля Бёртца (1991) и одноименного телефильма (1993) – обратился к «Вакханкам» Еврипида (1996). Одна из двух последних трагедий великого грека удачно рифмовалась с раздумьями о трагизме человеческого удела режиссера, завершающего длинный путь. Критики соблазнялись этой «рифмой»: последняя трагедия Еврипида могла прозвучать итоговым посланием Мастера перед его окончательным отбытием на Форё, чтобы закрыться в своем кинотеатре и по мере сил держать оборону в борьбе с утренними демонами.
Но это случится еще нескоро.
На роль юного и дерзкого бога Диониса, провокатора и вдохновителя кровавых экстатических забав, режиссер пригласил начинающую актрису Элин Клинга. Тогда-то и зародилось смутное предчувствие, что золотоволосой и длинноногой исполнительнице уготовано что-то еще в тайниках режиссерских замыслов. Старейшина критического цеха Лайф Зерн из «Дагенс нюхетер» пророчил молодой актрисе блестящее будущее на любом поприще, хотя сам режиссер сознавал, что идет на риск. Бог-андрогин соблазнял анархией и вспенивал неостановимый поток жизни, бьющий через край ее беспощадного и насыщенного напряжения. Заочный философский спор Диониса, с рассудочной мудростью прозревающего очередной виток истории Кадма, озарял трагедию надеждой, но не убавлял ее трагизм.
В преддверии своего восьмидесятилетия режиссер выпускает на телевидении фильм «В присутствии клоуна». В основе – собственная пьеса Бергмана пятилетней давности с прямой отсылкой названия к монологу из «Макбета». Ни одна трагедия английского барда так не преследовала режиссера, не будоражила его воображение во сне и наяву, как история кавдорского тана. Буквальный перевод названия – цитата из монолога «Макбета», самого горького из шекспировских прозрений о жизни и смерти: «Жизнь – только тень, она – актер на сцене. Сыграл свой час, побегал, пошумел – и был таков». Бергман вкладывает в слова Макбета дополнительный смысл. Эфемерность актерских созданий сродни эфемерности самой жизни. «Макбета» Бергман ставил трижды, начиная с театров Хельсинборга и Гетеборга, где он превратил трагедию в ученический полигон, «списывая» театральные приемы, по откровенному признанию, у Улофа Муландера и Альфа Шёберга. Но макбетовские призраки не оставляли его.
«Как-то поздно ночью я возвращался из театра и вдруг сообразил, как нужно сделать сцену с ведьмами в конце трагедии. Макбет и леди Макбет лежат в постели, она погружена в глубокий сон, он в полудреме. По стене лихорадочно пляшут тени, из-под пола в изножье кровати появляются ведьмы, сплетаясь в клубок, они перешептываются и хихикают, тела их извиваются, как водоросли в реке», – читаем мы на страницах «Латерна магика». Упоенный находкой автор нарочито микширует смежные искусства – театр и кино. Это его почерк, его установка: «То, что выглядит театральной пьесой, с таким же успехом может стать кинофильмом» («Монолог»). И наоборот.
В литературной основе телефильма спаяны трагическое и карнавальное, реальное (персонажи извлечены из «архивов» автобиографической саги) и фантасмагорическое. Главный герой одержим навязчивыми идеями: проекцией судьбы Шуберта на его собственную и изобретательством к вящей славе киноискусства. Весь этот психосоматический анамнез частично уравновешивает ироническая автопародия режиссера – в одном из эпизодов он оставит подлинный автограф, запечатлев себя в кадре. Где бы ни оказывались герои: в психиатрической лечебнице или в странствиях-гастролях, демонстрируя новоизобретенный кинескоп, – их неотступно будет преследовать присутствие смерти в обличье клоуна. Клоун-смерть так осязаем и материален, что становится предостережением о возможном наступлении «часа волка». У Бергмана кочуют не столько сквозные герои, сколько универсальные идеи…
В 1998-м, когда в руках у Бергмана оказался текст Пера Улова Энквиста «Изображатели», он тут же произнес: «Ставить это должен только я». Так говорят. Впрочем, существует и менее пафосный вариант этого апокрифа: завлит Бергмана (его «драматург», как эту должность называют в Швеции) самолично передала ему рукопись Энквиста, видя в ней перспективу продолжить размышления Мастера о «Вознице» Виктора Шёстрёма. Так на Малой сцене Драматена родился спектакль Ингмара Бергмана «Изображатели» (1998) об истории создания фильма-легенды «Возница», настоящей «зимней сказки» со счастливым концом.
После визионерского «Клоуна» с его воспаленными фантазиями, поддержанными аккордами Франца Шуберта, на сцене – эпизод из жизни реально существовавших соотечественников, создателей «Возницы»: Сельмы Лагерлёф и Виктора Шёстрёма. Пьеса о возможной встрече двух великих художников – почти документальное повествование, опирающиеся на скупые факты, дотошно собранные драматургом.
Пер Улов Энквист – классик современной шведской литературы, автор десятка романов, известен своими извлечениями психологически насыщенных квазиправдивых историй из личной жизни скандинавских корифеев: Стриндберга, Гамсуна, Андерсена. Его пьесы «Ночь трибад» (по мотивам скандального развода Стриндберга и Сири фон Эссен) и «История дождевых червей» (о трагической любви датского сказочника к актрисе Иоханне Хейберг) поставлены во многих странах, включая Россию.
Настал черед Сельмы Лагерлёф. На ее романах, повестях, рассказах, включая откровенно или зашифрованно исповедальные, выросло шведское немое кино (1917–1924).
Девять фильмов, поставленных Шёстрёмом, Стиллером, Хедквистом по прозе Сельмы Лагерлёф, принесли этому кинематографу мировое признание. Отважусь предположить, что и единственная киноэпопея (семейная хроника) Бергмана «Фанни и Александр» не обошлась без Сельмы Лагерлёф, как сама она не осталась равнодушной к урокам Толстого и Достоевского.
«Изображатели» начинаются с «подношения» театру от имени кинематографа (эротическое танго, списанное с нестареющих кинообразцов) и заканчиваются кинопрощанием. На занавесе, как на экране, перед тем как высвечивается короткое SLUT («КОНЕЦ»), возникают силуэты вышедших на поклон артистов, которые на глазах у зрителей бликуют и растворяются в отражениях своих экранных двойников.
В программку к спектаклю включен многостраничный текст пьесы Энквиста «Изображатели». (Недавно она стала доступна российскому читателю в прекрасном переводе Александры Афиногеновой.)
Хотя Бергман никогда не воздвигал непроницаемых преград между театром и кино, к приемам кинофикации прибегал впервые, иллюстрируя живое сиюминутное актерское существование спроецированными кадрами немого кинематографа. Этих кадров немного, Бергман тщательно их отбирал. С детства бредящий проекциями волшебного фонаря, режиссер захвачен профессиональным (техническим) блеском фильма, умением актеров одним жестом заменить мелководье слов. И все это на фоне ничем не маскирующей себя примитивной незамысловатости сюжета.
Шёстрёму (в исполнении Леннарта Юльстрема) удается превратить «бульварное чтиво», как он сгоряча окрестил роман, в киношедевр сочетанием технических новаций (в первую очередь, двойной экспозиции) с многомерностью режиссерских открытий. За кадром осталась предыстория пьесы, реальный эпизод, в котором Шёстрём привозит писательнице сценарий задуманного фильма. Он работал над ним как над собственной исповедью. Раскадровка текста составила более шестисот эпизодов. Прочитав его, писательница лишь спросила: не желает ли автор перекусить? Обещала подумать и ответить письменно. И, действительно, прислала два замечания, на одном из которых она готова была настаивать во всеуслышание. Ей хотелось назвать будущий фильм «Воскресший», намекая на мистически благополучную развязку в судьбе пропащего человека. Такое диккенсовское единборство с неравными силами зла, завершившееся их поражением. Узнавшим о ее пожелании критикам тотчас припомнился подобный апофеоз лицемерия – Приют имени капитана Алвинга из ибсеновских «Привидений». Победил Шёстрём, и Лагерлёф пришлось согласиться.
Действие спектакля «Изображатели» начинается уже в просмотровой студии, куда Сельма Лагерлёф (Анита Бьёрк) приглашена, чтобы дать авторскую оценку нескольким эпизодам будущего фильма. Молодые создатели киноверсии волнуются перед встречей с классиком шведской словесности. Тем временем оператор в кинобудке начинает снимать публику, уже ставшую участницей метаспектакля. Похоже, что спроецированные на экран кадры не вызывают у писательницы восторга, как не вызвала его и раскадровка текста. Никаких следов ее непосредственной реакции зритель не улавливает. Анита Бьёрк царственно непроницаема, какой была Предводительница хора в недавно сыгранных «Вакханках».
Виктора Шёстрёма сопровождает его постоянный оператор Юлиус Иенсен (Карл Магнус Деллув), имеющий виды на любовницу Шёстрёма Тору Тейе, у которой будет блистательная карьера, а пока она унижена неучастием в фильме. На роль будущей звезды Бергман приглашает Элин Клинга.
В фокусе режиссерских усилий – весь ансамбль персонажей, сбивчивый ритм их профессиональных, человеческих, интимных столкновений и пересечений. Бергман занят аранжировкой этих отношений. Он ставит театральный спектакль, в котором не забывает о кино. Хорео-графическая пластика первой части, томное заигрывание Торы Тейе с вожделеющим оператором, эротическая цветовая подсветка облика в целом (свитер, косметика, даже перстень цвета перезрелых вишен) – отработанные приемы старлетки, мечтающей о настоящей роли. Но Тора Тейе в исполнении Клинга не старлетка. Образ соблазнительницы-вамп с длинным мундштуком в эстетике немого кино – это ее «театр в театре». Она мечтает не остаться за бортом фильма по нескольким причинам. Для зрителя они на поверхности сюжета: не расстаться с режиссером-любовником в первую очередь. Проницательная актриса, несмотря на свою молодость и вызывающую (на грани приличия) безудержную раскованность, видит и трактует незамысловатый сюжет пьесы на свой лад. Для нее это история любви. Показанный в спектакле кадр с двумя главными героинями, образы которых примеривает на себя Клинга, больше, чем сюжетный ход, использованный Бергманом. Это ключ к возможной интерпретации глубоко заложенного подтекста. Историю Лагерлёф создатели фильма «варганят», по словам оператора Иенсена, на все лады: у каждого подавленные желания, каждый пытается разобраться с собственным прошлым.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!