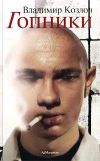Текст книги "Бергман"
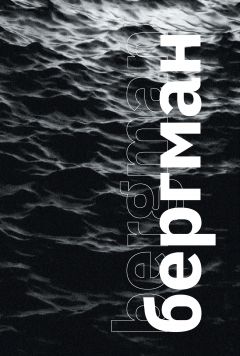
Автор книги: Василий Степанов
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Сон в летнюю ночь
Аркадий Ипполитов
«После Италии, Англии и России мало стран кажутся столь же заслуживающими внимания, как Швеция», – с этой фразы начинается одно из произведений маркиза де Сада под названием «Эрнестина» и подзаголовком «Шведская повесть». Это достаточно нудное и достойное повествование о глубинах порока и высотах добродетели, быть может, и не заслуживает внимания читателя, однако то, что де Сад, просвещенный интеллектуал XVIII века, особо отмечает шведский антураж и переносит действие своей истории именно в эту страну, свидетельствует о том, насколько важной и интересной для него была мифологема скандинавского севера. Нет сомнений, что маркиз де Сад в Швеции никогда не бывал, а его шведский колорит мало чем отличается от подобного колорита фантастических стран Вольтера и Свифта. В том, что де Сад рассказывает об Упсале и Стокгольме, трудно выделить черты, которые, в его понимании, были бы характерны именно для Швеции, – настолько невероятными и выдуманными кажутся те немногочисленные приметы реальности, которые маркиз считает нужным упомянуть. Взять хотя бы «особый сорт шведского хлеба, весьма распространенный в шведских деревнях и выпекаемый из еловой хвои и березовой коры, смешанных с соломой, дикими кореньями и овсяной мукой». Этим чудным хлебом де Сада накормили в огромном подземном городе на глубине двухсот сорока метров вблизи Упсалы. В этой небольшой подробности – в садовском описании шведского хлеба – можно различить тот смутный образ, что туманной неясностью проступал в сознании каждого просвещенного европейца конца XVIII века. Суровая страна с природой скудной, скупой и подлинной, населенная людьми с душой простой и крепкой, людьми, пребывающими в одно и то же время в состоянии борьбы с ней и в полном с ней единстве. Швед по сути своей – это европейский гурон из вольтеровского «Простодушного», обладающий прямотой и ясностью не испорченного европейской цивилизацией ума и при этом лишенный гуронской дикости, своего рода образованный естественный человек. В европейском сознании скандинавские страны долгое время образовывали нечто наподобие зеленой зоны, где царила дикая природная стихия и где, дыша свежим воздухом, можно было полюбоваться скалами и лесами, где не ступала нога человека. Привитая романтизмом любовь к скандинавскому эпосу придала сумрачному гористому ландшафту привкус божественности, а Балтийское море стало восприниматься как антипод Эгейского. В этом противопоставлении они были уравнены, и Скандинавия в XIX веке стала восприниматься почти так же, как и Греция, – в качестве древней колыбели европейской цивилизации, которая была покинута столь давно, что приобрела некоторое сходство с могилой.
В первую очередь от этого заповедника требовалось, чтобы в нем не было движения. Могучие скалы, вековые леса, холодные фьорды и простодушный народ не должны меняться, чтобы в сутолоке современной жизни не утратить своей величавости. Скандинавию, так же как и Грецию, европейский миф обязал оставаться вне современности. Тем неожиданнее оказались мощные импульсы художественных идей, что в конце XIX века вдруг все настойчивее стали проникать в европейское сознание из этого района вечной мерзлоты. Скандинавия перестала быть белоснежным полотном, на котором более изощренные европейские культуры вышивали свой собственный орнамент, используя притягательность северной экзотики.
Кнут Гамсун, Генрик Ибсен и Август Стриндберг в своем творчестве создали мир, интересный остальной Европе не потому, что в нем преобладали какие-либо специфические местные черты, но потому, что любой цивилизованный европеец ощущал, что этот мир не менее изощрен, утомлен и развит, чем его собственный, и что он при этом сохраняет все очарование местного колорита, во много раз усиливая тем самым художественное воздействие произведений скандинавских авторов. Скандинавская литература и скандинавское мышление не просто вошли в моду в Париже и Берлине – сама Скандинавия стала восприниматься уже не только как природный феномен, но в первую очередь как феномен культурный.
Сам образ Скандинавии при этом мало изменился. Льды, огромные сугробы, ели, покрытые снегом, долгие ночи и суровое море по-прежнему оставались отличительными приметами ее пейзажа. Только теперь оказалось, что в Скандинавии есть не только подземные города, что там не едят хлеб из березовой коры и еловых шишек и что медведи не ходят по улицам Стокгольма. Со Скандинавией произошло то же, что и с Россией примерно в это же время: она оказалась включенной в Европу в прямом и переносном смысле этого слова. Швед в Венеции и Ницце перестал вызывать то удивление, с каким Рим встречал королеву Кристину, и поездка в Скандинавию оказалась весьма обычным делом: связи Гогена с Копенгагеном никого уже не поражали, в отличие от его поездок на Мартинику или на Таити. Однако именно тогда, когда национальная культура добивается равноправия и вступает в непринужденный диалог с другими, более «опытными» культурами, остро и болезненно начинает проявляться проблема национального своеобразия. Нередко это ведет к довольно грубому педалированию своей уникальности, чаще всего неприятному, но совершенно необходимому на определенном этапе. Этим объясняются вспышки национализма, с различной силой проявившиеся в искусстве каждой европейской страны на протяжении XIX века. Чем чаще скандинавские художники ездили в Париж, тем с большей настойчивостью они утверждали свой собственный, отличный от всей остальной Европы, дух.
В это время, в начале века, в шведском искусстве и появляется свой, особый образ Швеции, непохожий на тот трафарет, что наложила на природу этой страны остальная Европа, начиная с маркиза де Сада. Все художники, ездившие в Скандинавию, в первую очередь писали снега и зиму. В шведской живописи рубежа веков, напротив, особенно усиленно стала эксплуатироваться тема короткой и светлой летней ночи, особого холодного солнечного света, этого странного короткого летнего сезона с его меланхоличной отчужденностью, острым ощущением скоротечности, как будто подстегивающим человеческие чувства, делающим все переживания более напряженными и острыми, а счастье более полным именно потому, что конец его близок и неизбежен. Ощущение запутанности и сложности страстей, похожих на игру, нервное ожидание любви, резкий переход из одного состояния в другое, счастье, всегда готовое обернуться несчастьем, – таковы северные коллизии жизни. Конечно, дух прохладной летней ночи с ее томительным эротическим символизмом был столь гениально воплощен в шекспировской комедии, что тут трудно прибавить что-нибудь новое. Хотя действие этой феерии происходит в окрестностях Афин, лес, окружающий греческий город, напоен созданиями северной фантазии, и шепоты эльфов, резвящихся среди берез и елей, ничем не походят на звуки, наполняющие оливковые рощи Аттики. Шекспировская условность, объединяющая северный фольклор и античную мифологию, предвосхищает параллелизм Севера и Юга, Скандинавии и Греции, провозглашенный романтизмом. Греческая ночь Шекспира – это светлая ночь короткого северного лета. Бесконечные вариации на эту тему заполнили шведское искусство, тем самым превратив сон в летнюю ночь в неотъемлемую часть образа Швеции, необычайно важную для каждого шведского интеллектуала.
Европа в то же время оказалась достаточно безразличной к скандинавским художественным новациям и обратила на шведскую летнюю ночь очень мало внимания. Никто не хотел отказываться от фьордов, северных ветров и громадных сугробов. Улыбки летней ночи осветили Европу несколько позже, уже благодаря кинематографу Бергмана, воспитанного на отечественной культуре модерна и с детства влюбленного в мучительно тягучее счастье шведского летнего света. Образ светлого и короткого отдыха, в его предельной напряженности и высветленности, как нельзя более подошел к новым очертаниям образа Швеции, претерпевшего сильные изменения в европейском сознании XX века. Швеция оказалась мало вовлеченной во все ужасы европейской истории этого столетия и для многих стала олицетворением земли обетованной в буквальном смысле этого слова. Установившийся впоследствии социал-демократический рай тотального благополучия был естественным следствием шведской обособленности. Никто уже не воспринимал Швецию как страну суровых скал и тяжелого труда, где едят хлеб из березовой коры. Напротив, она стала чуть ли не символом грядущего европейского благополучия. Однако с самого своего появления шведский путь подвергся резкой критике со стороны большинства западных интеллектуалов. Неблагополучие этого нового рая, чьи праведные обитатели обречены на скуку вседозволенности, алкоголизм, наркоманию и групповой секс, было весомым доказательством повсеместного заката Европы. Нервозное лето, короткое счастье, обреченное на трагическую развязку, психопатическое одиночество вдвоем, втроем и так далее – как нельзя лучше соответствовали образу сбывшейся новой утопии. Летняя ночь, тихо и грустно глядящая в зеркало Belle Epoque в «Улыбках летней ночи», и она же, с искаженным гримасой боли лицом оборачивающаяся к современности в «Персоне», – стала одной из любимых тем кинематографа Бергмана, естественно продолжившего шведскую живописную традицию времени модерна.
1996
Портрет в зеркале
Ирина Цимбал
Для меня Бергман и Стриндберг по-особому связаны. И не только как драматург и режиссер. В Швеции вообще все тесно связано и переплетено. Маленькая страна с высокой плотностью культурного слоя. В числе своих «наставников» Бергман неизменно называет три имени (хотя, строго говоря, он ни у кого не учился) – это Улоф Муландер, Альф Шёберг и Виктор Шёстрём. Муландеры – настоящая театральная династия. Брат Улофа Муландера, Густав, поставил несколько фильмов по сценариям Бергмана. И такую цепочку можно продолжать. Альф Шёберг – это связь с Шекспиром, и Бергман, всякий раз берясь за английского барда, напоминал об этом и себе, и актерам. А место Стриндберга в творчестве каждого из предшественников – отдельная тема. Альф Шёберг дважды обращался к «Фрекен Юлии» с Ингой Тидблад в главной роли. На Каннском фестивале 1951 года режиссер получил премию за киноверсию пьесы Стриндберга, которую разделил с Анитой Бьерк в роли фрекен Юлии. Много позже Бергман поставил «Фрекен Юлию» в Мюнхене, вступив в посмертный диспут-диалог со старейшиной шведской режиссуры.
Но я хотела бы выделить имя Виктора Шёстрёма. В 1921 году вышел на экраны легендарный фильм «Возница» в постановке Шёстрёма, где он сыграл главную роль. Сценарий написан им в соавторстве с Сельмой Лагерлёф по ее повести. Фильм мистико-фантастический, с кружащимися над ним тенями и Стриндберга, и Сведенборга.
Когда я работала в Швеции, мне однажды вечером позвонили, один за другим, двое моих коллег. С тысячью извинений (в такое время звонить не принято) они настойчиво рекомендовали включить телевизор – шел фильм «Возница». Не понимая языка, не зная сюжета, я смотрела не отрываясь эту очень сумрачную, очень шведскую не то легенду, не то притчу о вечном. О смерти – в первую очередь. О любви на пороге смерти – во вторую. О грешниках и праведниках, как лейтмотив происходящего. Все это темы и Стриндберга, и Бергмана.
«Возница» неизменно остается в списке десяти любимейших фильмов Бергмана. Каждый год он его пересматривает, блуждая, по его собственному выражению, «в темных комнатах наших душ». И когда в 1957 году он приступил к съемкам «Земляничной поляны», на роль главного героя – профессора Борга – ему удалось пригласить уже немолодого Виктора Шёстрёма, хотя тот категорически не соглашался. Но и на этом сюжет связи времен не завершился. В конце прошлого века Бергман отдает дань своим кумирам, поставив на сцене Драматена спектакль «Изображатели» («Творцы образов».) Его герои – реальные творцы и вдохновители искусства.
Оба, и Стриндберг, и Бергман (хотя и по разным причинам), много времени проводили в Европе. У шведов – постоянный страх оказаться окраиной Европы, удаленными от нее островитянами, говорящими на одном из «мертвых» языков. Маленьким странам в центре Европы ничего не надо доказывать, никуда не надо стремиться. Они и есть Европа, а Швеция хотела быть Европой. И, во многом благодаря Стриндбергу и Бергману, стала восприниматься таковой. С другой стороны, это включение в европейский контекст было обеспечено тем, что у шведов никогда не было ощущения молодости культуры, ощущения чистого листа. Весь скандинавский ренессанс, который мы наблюдаем в конце XIX века в литературе, философии, музыке, театре, живописи, пропитан национальной фольклорной и в то же время европейской культурной традицией, Я говорю об этом как бы через запятую, потому что это очень важные противопоставления. Скандинавия – это почва, воздух, вода, вечность. Саги. Европа – это культура. В Европе можно «спрятаться», оставаясь узнаваемым, но не узнанным. Европу нужно завоевывать, но не изнутри, а сохраняя некоторую дистанцию. Иными словами, сохраняя свою идентичность.
Стриндберга, естественно, как всякого пророка, недолюбливали и недопонимали на родине. За то, что много времени проводил за пределами Швеции и за то, что выносил на всеобщее обозрение свою абсолютную шведскость. За то, что писал по-французски, пьянствовал с парижской богемой, поносил шведов, считая всех их своими врагами, и непременно возвращался к этому шведскому островному существованию, утверждая, что лучше шхер нет ничего на свете.
Бергман в этом смысле очень на него похож. Он не говорил слово «шхеры», но он говорил «остров Форё». Ему и Швеция недостаточно остров, ему еще нужен «остров в острове». И покидал он Швецию не по своей воле. Хотя тяга к Европе несомненна, но только не к Голливуду. Впрочем, Голливуд – это не вся Америка. С американцами (с Бруклинской академией музыки) сложился прочный творческий союз. С конца восьмидесятых Бергман каждый год привозит туда свои премьеры, там проводят его фестивали, устраивают конференции и диспуты. Ни одной иноязычной газете Бергман не дал столько интервью, сколько опубликовано на страницах «Нью-Йорк Таймс». В известном смысле он выступает как наследник Стриндберга.
Имя Стриндберга прочно вписано в американскую культуру благодаря Юджину О’Нилу. И шведы, и американцы этого не забывают. «Первый драматург Америки» объявил Стриндберга «отцом» всего современного в нынешнем театре в еще большей степени, чем Ибсена, занимавшего это место двадцатью годами раньше. В Нобелевской речи (1936) О’Нил разовьет свою мысль, сославшись на собственное творчество, и еще раз подтвердит, сколь многим он обязан именно великому шведу.
То, что сами шведы сегодня отказываются считать и Стриндберга, и Бергмана безоговорочно признанными гениями – это и есть отражение национального характера. Шведское неприятие превосходных степеней и «множества» абсолютов. Абсолют – един на все времена. И, конечно, шведская склонность к золотой середине. Истовость – не протестантская черта.
Нельзя сказать, чтобы Стриндберга не ставили при жизни: и Отто Брам, и Андре Антуан, и Макс Рейнхардт, и другие. Но по-настоящему его драматургический и театральный потенциал шведы осознают после того, как драматурга «импортируют» из Германии. В 1917 году, как раз незадолго до появления на свет Ингмара Бергмана, Макс Рейнхардт привозит в Стокгольм свою «Сонату призраков». Так совпало, что только после этого к творчеству Стриндберга обратится шведский театральный мэтр Улоф Муландер.
Как для протестантов (протестантов со всеми необходимыми оговорками, когда речь заходит о больших художниках) для Бергмана и Стриндберга главной темой становится тема Греха и Искупления. У Бергмана она определяет поэтику названий. Но, по сути, Стриндберг писал о том же (особенно в «камерных пьесах») – и в «Сонате призраков», и в «Пляске смерти» и, конечно, в «Пеликане». Кроме того, они оба вступают в прямой, бесстрашный, незашифрованный диалог со смертью. Стриндберг постоянно занят мыслями о ней, они не оставляют его и в период его закавыченного безумия The Inferno. Ощущение, что смерть рядом, сходно с настроением бергмановской «Седьмой печати». Смерть остается для каждого еще одной, при том совершенно реальной, формой бытия, с которой человек рождается. Это трагедия, на которую он обречен. Поэтому в интерьере Интимного театра зрителей должна была встречать картина Арнольда Бёклина «Остров мертвых». Для более глубокого понимания сошлемся на высказывание другого известного писателя, выразившегося по иному поводу, но на ту же тему. «Что такое чума?» – задавался вопросом экзистенциалист Альбер Камю. – «Чума – это тоже жизнь». И по Стриндбергу смерть – это тоже жизнь. Разве смерть и чума – не синонимы?
Ничего инфернального в смерти не заключено, это накакая не тайна. Это реальность, которая всегда рядом, всегда стоит за спиной. Только молодость может вступать со смертью в фамильярно-непочтительные отношения, потому что только в молодости это неопасные игры, вернее, игры, которые кажутся неопасными. А дальше нужно было каким-то образом привыкать к тому, что смерть не существует отдельно. Она неотчуждаема. И оба художника не отгораживаются от нее, а она, в свою очередь, не сокрыта за семью печатями.
На обложке одного научного сборника, посвященного скандинавскому театру и кино, – выразительный коллаж. Стриндберг за шахматной доской с Виктором Шёстрёмом. Прямая аллюзия на «Седьмую печать» – поединок Рыцаря со Смертью. Авторы задумали вторым шахматистом Ингмара Бергмана, а тот категорически отказался. «Я интерпретатор Стриндберга, а не его оппонент». Эти слова лаконично прокомментировала дочь режиссера Линн Ульман: «На самом деле, Бергман на протяжении всей жизни играет со Стриндбергом в шахматы».
Что воистину объединяет Стриндберга и Бергмана – это их немаскируемый автобиографизм. Художники, в принципе, автобиографичны, такова их природа. Это очевидно. «Разве „Фауст“ не автобиография?» – риторически недоумевает Стриндберг. Но в XX веке эта тема звучит громоподобно. Три великих писателя прошлого столетия – Пруст, Джойс и Кафка – абсолютно автобиографичны. Об этом говорится без обиняков, и сама тенденция становится общеевропейской. Бергман декларировал это впрямую, и Стриндберг признавался, что вся его жизнь – лишь материал для драматургии. Он был истерзан необъятностью своих возможностей, отпущенного ему таланта, и в этом смысле он страдалец и вечный мученик. Английский скандинавист, профессор Майкл Робинсон предварил свое исследование «Стриндберг и автобиография» прекрасной цитатой из Томаса Карлейля: «Он [герой. – примеч. автора] нырнул в автобиографический хаос, и Бог знает, где оттуда выплыл». Точнее о Стриндберге и не скажешь.
Но ведь это приложимо и к Бергману. «Я хочу снимать фильмы о настроениях, психологическом напряжении, образах, ритмах, персонажах, которые живут во мне самом».
Лучшие мифы о Стриндберге, как и его лучшие фотопортреты созданы им самим. Фотоснимки, на которых он запечатлевает самого себя, автопортреты и автобиографии, экзистенциальный опыт, переплавленный в опыт эстетический, – вот, к чему стремились эти двое. Стриндберг и кино – отдельная тема, и мы ее касаться не будем. А лучший бергмановский кинематограф – по сути, театр, снятый на пленку. Похоже, что Стриндберг пользовался монтажом, ничего еще о нем не зная. Как пользовался монтажным принципом, по утверждению Эйзенштейна, один из любимых писателей Стриндберга – Чарльз Диккенс. Ведь пьеса «Игра снов» – это замечательный литературный монтаж. И потом не стоит забывать, что сильнейшее увлечение Стриндберга, помимо оккультных опытов, – это увлечение изобразительным искусством: живописью и фотографией. Может быть, еще и более сильное. Он очень любил снимать себя, и это его лучшие «операторские» работы. В этом смысле его отношение к жизни и к своему творчеству созвучно с бергмановским. Секунды, проносящиеся между установкой кадра и щелчком фотоаппарата, между отчаянием человека и энтузиазмом художника – преобразовывали частное в общее. Искусство не исчезнет, даже если исчезнут все биографии его творца. Можно вообще ничего о нем не знать; рядовой зритель и не должен знать. Жизнь здесь – это черновик, что-то неокончательное, не получившее ни формы, ни огранки. И потому подлинная для зрителя жизнь проходит там, на сцене или на экране.
Стриндберг все стремился к автопортретам – не только визуальным. В любимой пьесе Бергмана «Путь в Дамаск» Незнакомец – и есть Стриндберг. По сути, автор никаких подсказок не предлагает: это он и есть. Это его муки, его расщепленное сознание: будь то «Пляска смерти», «Одинокий», или «Исповедь глупца».
В такой же ситуации находится Бергман, который не боится очевидности. И только необъятность таланта, отпущенного обоим – и Стриндбергу, и Бергману, – не позволяет им стать эксгибиционистами, хотя до такого самообнажения было бы рукой подать.
Меня поначалу несколько удивило, что, найдя в лице Макса фон Сюдова идеальное alter ego, и много лет с ним сотрудничая, Бергман заменяет его Эрландом Юсефссоном. Но, увидев Юсефссона на сцене и на экране, кое-что поняла. В последние годы актер стал очевидным двойником режиссера. В театре это «Вариации Гольдберга» Табори, «Время и комната» Бото Штрауса, не говоря уже о таком странном персонаже из «Фанни и Александра», как старик Исак. Похоже, что Бергману не обойтись без актера, которому он готов бы передать полномочия себя самого, сделать его своим более подлинным, точнее оформленным «Я», чем его собственное. Иногда Бергман находит для этой цели женский характер, всегда более сбивчивый и изощренный, нежели мужской. Выбрав женский тип в виде резонатора собственных психологических вибраций, он делит его на две ипостаси. Потому что только вместе они образуют целое. И эта идея тоже идет от Стриндберга, от его монодрамы «Кто сильнее» (в дословном переводе – «Сильнейшая»). Этот расщепленный женский характер отзовется у Бергмана напрямую в фильме «Персона». А в нескольких драматических спектаклях станет не только режиссерским ключевым приемом, усложнившим актерскую задачу, но и позволит глубже проникнуть в литературный первоисточник, заглянув за его верхний, традиционно исчерпанный слой.
Трудно было с таким стриндберговским ходом не согласиться в интерпретации трагической истории двух королев («Мария Стюарт»). Бергман уравнял героинь и в актерских правах, и пьеса прозвучала мощнее и современнее. Елизавета или Мария? Кто сильнее? Но Бергман пошел еще дальше – в спектакле по ибсеновским «Привидениям» (он сам перевел пьесу на шведский), он отказался от «страдалицы» Фру Алвинг, обнаружив ее силу в скрытых инстинктах молодой соперницы Регины.
Склонность стриндбергизировать Ибсена с годами проступала у Бергмана все отчетливее. Скромная монодрама Стриндберга оказалась для Бергмана неисчерпаемым источником созвучных ему театральных открытий.
Есть еще одна тема, соединившая двух национальных гениев. Это музыка. В иерархии искусств у обоих художников она на главном пьедестале. «Духом музыки» пропитаны и драматург, и режиссер. Где бы ни оказывался Стриндберг, там оставалась музыка. Так считал Бергман, поселившись в том месте, где когда-то жил Стриндберг. Приветом от Стриндберга прозвучало «Исчезновение» Шумана, долгое время преследовавшее режиссера. Я сама, живя в доме на Дроттнинггатан в квартире, примыкающей к последнему жилищу Стриндберга, проснулась ночью от мощных музыкальных аккордов. И куратор музея Стриндберга ничуть не удивилась этим музыкальным галлюцинациям.
И, наконец, обоих соотечественников объединяет высокая самооценка. Стриндберг иначе, как «великим», себя не называет. Бергман подтверждает собственную гениальность без иронии и без лукавства.
В одном из фильмов Бергмана в финале звучит такая фраза: «На этот раз героя звали…» и дальше имя, которое я не помню, и не помню вполне закономерно, так как в данном случае всего важнее, что – именно в этот раз. То есть у этого героя могут быть разные имена, но всякий раз – это один и тот же герой. Я думаю, что Стриндберг с полным основанием мог бы под этим подписаться…
Записали Любовь Аркус и Анна Королева, 1996–2018