Текст книги "К «последнему морю»"
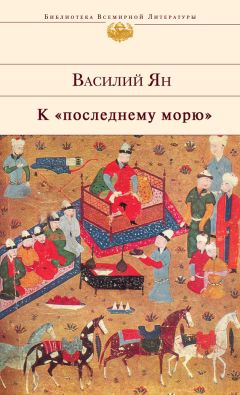
Автор книги: Василий Ян
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Глава пятая
Скорбный путь
Когда прибыли воины с обещанными конями, Гаврила Олексич был уже готов к приему. Он надел блестящую кольчугу, подпоясался широким серебряным поясом с золотыми бляшками. На нем слева на перевязи висел меч в зеленых ножнах, отделанных серебром, с рукоятью из «рыбьего зуба» – моржовых клыков. На голове сверкал шлем с узорчатой насечкой, из-под которого виднелись слегка вьющиеся светло-русые волосы. На ногах были расшитые узорами красные сафьяновые сапоги с загнутыми кверху носками.
Дружинник подошел к Олексичу, остававшемуся в шатре, и, заикаясь, с тревогой сказал:
– Там кони ханские пришли, только… не серчай… никудышные они! Негоже тебе будет садиться на такую скотину! Сами же татары засмеют! – И дружинник отогнул ковер, прикрывавший вход.
Перед шатром действительно стояла чалая, полуседая кобыла с отвисшей нижней губой, показывая желтые стертые зубы. Седло было ханское, но крайне ветхое, с красным бархатным чепраком; вся сбруя тоже старая, выцветшая; хвост лошади полуоблезлый, а ноги она держала растопырив, того и гляди свалится. Присланные другие два коня были такие же, – не к чести удалого всадника, хотя этих коней торжественно держали под уздцы нарядно одетые молчаливые татарские воины.
Гаврила Олексич опустил полог шатра. Он снял шлем и в гневе сорвал кольчугу. Приказал дружиннику стянуть сафьяновые сапоги. Он переоделся и вышел из шатра в голубой шелковой рубашке, обшитой по воротнику мелким жемчугом, гладком синем суконном охабне, подпоясанном кожаным ремнем. На ногах были простые булгарские сапоги. Никакого оружия он с собой не взял.
– Позвать сюда Никодима!
– Я здесь, мой господине! – отозвался и подошел степенный казначей, спутник Олексича.
– Слушай, Никодим, внимательно и сделай, как я скажу: ты покроешь кобылу лучшим куском заморского аксамиту, перетянешь, как подпругой, золотым поясом, – выбери, какой понарядней. Морду кобыле перевьешь жемчужными нитями. Другого коня покрой двумя куньими женскими шубами и перевяжи нарядными поясками, чтобы по пути не растерять.
Никодим вскинул глаза на Гаврилу Олексича, но перечить не посмел.
– Будет сделано, господине! Повремени немного, пока распорю дорожные сумы.
Олексич увидел в стороне прибывшего в Орду вместе с ним княжеского летописца и книжника отца Варсонофия.
– Послушай, отче! Надень на себя благообразную рясу получше, захвати кадило. Ты сейчас пойдешь со мной. Может быть, придется нам испытать с тобой часы тяжелые, судьбу горькую и даже домой не вернуться.
– Слушаю, сын мой! Только я возьму еще с собой глиняный горшочек с горящими углями, чтобы раздувать кадило.
Монгольские воины стояли словно каменные, лишь брови их то поднимались, то опускались, пока Никодим с дружинниками украшали приведенных коней. Гаврила Олексич вернулся в шатер, но вошедший к нему без доклада Батыев толмач сейчас же вылетел обратно, с трудом удержавшись на ногах. Наконец казначей приподнял полог шатра и сказал:
– Все сделано, как ты повелел!
Тогда Гаврила Олексич вышел и, надвинув на лоб бобровую шапку, сказал монголам:
– Эти кобылы присланы мне по ошибке. Я знаю, что ханы татарские и русские князья ездят только на жеребцах. А на таких кобылах ездят женщины и перевозятся вьюки. Поэтому отведите этих кобылиц к почтенной и мудрой матери светлейшего владыки татарского, – при этих словах он снял бобровую шапку, – и скажите ей, что по скудности моей лучших подарков я прислать не смог. Прошу-де принять их от ее преданного слуги, посла новгородского.
Оба Батыевых сановника стали что-то возражать, но Олексич ответил им сурово:
– Хан двух слов не говорит, русский витязь – тоже! Как я сказал, так и будет сделано! – И он пошел медленно и задумчиво к своей новой, загадочной судьбине. Он шел не оглядываясь, тяжелой поступью, а за ним потянулись люди, кони и повозки с дарами, которым задолго было приказано быть наготове, в случае если Бату-хан вызовет своего северного гостя.
Идти пришлось берегом, неровной дорогой, мимо строившихся домиков и лавчонок, где продавалась жареная рыба, копченая вобла, ржаные и пшеничные лепешки. Всюду работали толпы крайне изможденных русских пленных.
Затем дорога стала подниматься в гору, и шедший близ Олексича толмач указал рукою вдаль:
– Там, за холмом, ты увидишь лагерь и маленький золотой дворец повелителя монголов.
Вот показался «золотой домик» с высокой башенкой из пестрых изразцов, горевший, как пламя, на солнце. Дорога повернула в сторону, и Гаврила Олексич увидел странное зрелище, от которого холод побежал по спине. Вдоль дороги, на расстоянии нескольких шагов один от другого, тянулись колья вышиной в рост человека. На каждом из них была воткнута человеческая голова. Гаврила Олексич замедлил шаг и наконец остановился. Следовавшие за ним спутники тоже остановились.
– Отец Варсонофий! Где же ты?
Старый монах подошел, сжимая в дрожащих руках серебряное кадило и качавшийся на веревочке глиняный котелок с углями.
– Что же, отче, давай помолимся!
– Все готово…
– Ведь это наши… те, кому Батый должен был дать волю и отпустить со мной на родину…
Порывистый ветер трепал русые, полуседые и черные бороды и длинные кудри отрубленных голов. Их было много. Колья тянулись вдоль дороги, покуда хватал глаз.
Вороны и крикливые сороки сидели на дальних головах и, ссорясь, клевали застывшие очи.
Варсонофий читал молитвы нараспев, размахивая кадилом, и голубоватый дым легким облачком поднимался к мертвому лицу, точно лаская, дарил прощальный привет.
Гаврила Олексич медленно двинулся дальше, осеняя себя крестным знамением, и вдруг остановился перед одной головой. Полузакрытые, еще не выклеванные глаза, казалось, пристально глядели из-под густых, черных, сросшихся на переносье бровей. Бороды не было, и длинные седые усы шевелились на ветру. Полуоткрытый рот как будто не договорил последних слов.
– Ратша! Дедушка, родимый!..
Олексич покачнулся, закрыл лицо рукой, потом еще раз посмотрел на голову и твердыми шагами, не останавливаясь и не оглядываясь, пошел вперед.
Отец Варсонофий шептал заупокойные молитвы, размахивая кадилом, и слезы медленно катились по его старческому лицу.
Глава шестая
Милость Батыева
С того дня, когда Бату-хан захотел обласкать своего гостя, жизнь Гаврилы Олексича пошла по-новому. Степные слуги в длинных цветных халатах провели русского витязя в пестрый шатер, стоявший среди рощицы на высоком берегу. Виднелось там поблизости много и других переносных юрт, около которых ходили и сидели монгольские женщины в ярких одеждах, с белыми тюрбанами на головах. Гаврила шел, закусив губу, стараясь сохранить беспечный вид, но в то же время ничто не ускользало от его внимательного и зоркого взгляда.
Шатер, предназначенный для жилья Олексича, был выше и роскошнее остальных. Возле входа, завешенного шелковым ковром, выстроились монголы и пели хвалебную славу по случаю прихода пресветлого гостя.
В нескольких шагах от большого шатра Гаврила остановился, решив выполнить все татарские обычаи и причуды, помня, что на чужом пиру надо покоряться хозяину. Слуги разостлали на дорожке, ведущей к шатру, полосы шелковой розовой ткани, незримая рука отодвинула ковер, и вдруг из шатра выскользнула гибким движением пантеры молодая женщина и замерла, настороженная. На ярком солнце сверкали золотые и серебряные запястья и браслеты, украшавшие тонкие руки и щиколотки стройных ног. Легкими шагами она подбежала к Олексичу и, опустившись на колени, обняла его узорчатые сафьяновые сапоги. Стоявший рядом, почтительно склонившийся рыжебородый толмач тихо подсказал Олексичу, что тот должен делать.
– Обними прекрасную невесту! Поцелуй ее звездоподобные глаза! Возьми на руки и отнеси в твой шатер!
Гавриле Олексичу стало весело. Он смотрел на все происходящее, как на диковинный сон, как на невиданную забаву. И он легко поднял свою новую суженую, а она, собравшись в комочек, прижалась к его богатырской груди.
– Целуй! Целуй! – шептал рыжий толмач.
– Не учи! Сам знаю! – И он шагнул внутрь шатра, помня, что нельзя зацепить каблуком порога.
Посреди шатра тлел небольшой костер. Обойдя его, Олексич опустил девушку на груду шелковых подушек. Решительно и властно он откинул покрывало, опущенное на лицо, и бережно и нежно поцеловал черные, вспыхнувшие радостью глаза и красиво изогнутые алые губы.
Толмач что-то шептал, но Гаврила нетерпеливо махнул ему рукой.
Кругом слышались пение, удары в бубны и медные тарелки. Девушка оттолкнула Олексича, выскользнула из его объятий и, подобрав под себя ноги, уселась у задней стенки шатра.
– Сядь рядом! – прошептал переводчик, опустившись на колени неподалеку от Олексича. – Принимай подарки! Великий Саин-хан хочет оказать тебе высокую милость.
В шатер стали входить старые и молодые монголы и кипчаки. Каждый, произнося несколько пышных приветствий, клал на ковер серебряные и бронзовые кувшины, чаши, куски шелка, цветные одежды и, пожелав долгой и счастливой жизни, пятясь спиной, выходил из шатра. Для всех приходивших в соседних юртах были разостланы ковры и на больших бронзовых подносах стояло обильное угощение.
Последними в шатер Олексича вошли лихого вида два молодца воина и громко прокричали:
– Блистающий Бату-хан, – да живет он тысячу лет! – тебе прислал в дар самого быстрого коня в мире.
Толмач прошептал:
– Ты должен выйти, взять коня за повод и сам привязать его около своей юрты.
Услышав о коне, Олексич вскочил и, полный радости, вышел из шатра. Перед входом, на розовой шелковой ткани, стоял, нетерпеливо перебирая ногами, пятнистый могучий жеребец, грызя удила и разбрасывая клочья пены. Два конюха, вцепившись в поводья с золотыми бляшками, оглаживали коня, стараясь успокоить. Олексич подошел. Он не стал брать поводья, а только протянул руку к ноздрям коня. Тот ударил ногой по разостланному шелку и фыркнул. Олексич велел принести большой медовый пряник и протянул его коню. Конь недоверчиво скосил глаз и мягкими теплыми губами взял пряник с ладони.
На следующий день Олексича навестили разные люди, также подносившие подарки: шелковые ковры, серебряные кумганы и другие замысловатые серебряные вещи, с которыми Гаврила не знал, что делать…
Он в свою очередь всех одаривал ответными подарками, думая только об одном: как бы поскорее вырваться из Батыевой ставки, чтобы вернуться на север.
Среди гостей Олексича одним из первых навестил молодой арабский посол Абд ар-Рахман. Он долго говорил о том о сем, видимо, крутил вокруг да около, желая что-то сообщить, но не решаясь приступить прямо к разговору.
Гаврила, заметив это, сам его спросил:
– Объясни мне, преславный эмир, одно страшное дело, о котором здесь, может быть, все знают, но никто мне не говорит…
– Не о старом ли русском воеводе Ратше ты спрашиваешь?
– Да. Не могу я понять, чем дед мой, Ратша, такой опытный и осторожный, мог навлечь на себя беспощадный гнев великого владыки?
– Сейчас я тебе все расскажу. Бату-хан знал, что Ратша прославленный русский воевода, и он захотел выказать ему особый почет. Самый высший почет в этом войске – это когда Бату-хан назначает кого-либо из иноземных воинов начальником монгольского отряда. Однажды Бату-хан призвал Ратшу к себе и предложил ему: выкажи свою доблесть и вступи в мое войско.
«А потом?» – спросил Ратша.
«Ты соберешь полк из пленных урусов. Сделай этот полк надежным, чтобы я мог раздать воинам оружие и посадить на коней».
«Против кого ты хочешь послать нас?»
«Вместе со мной вы пойдете покорять упрямые города урусов».
Ратша даже не задумался, а прямо ответил:
«И сам не пойду и других не стану уговаривать!»
Разгневанный Бату-хан приказал посадить Ратшу в яму, чтобы он там одумался, но, когда через несколько дней вызвал его снова – ответ старого воина был все тот же. Тогда были отрублены головы сотне русских пленных, и первым, кого казнили, был Ратша…
– Да, – тихо сказал Олексич, – ничего другого я от бесстрашного деда своего и не ожидал.
Начались у Олексича дни, полные тревоги и беспокойства. Он собирал пленных партиями, по двадцать-тридцать человек, давал им вьючных коней, нагруженных мукой, житом, сушеной рыбой, караваями хлеба, и посылал одну за другой сперва вверх по Волге, а затем через степь на Рязань. На некоторых конях сидели, согнувшись, больные и крайне истощенные пленные.
– Скорей, ребятушки, уходите, добирайтесь до родных мест! – торопил Олексич. – Татарский хан может передумать и всех нас задержать для новых своих построек или для дальнего похода.
Иногда Бату-хан призывал Гаврилу Олексича на свои военные советы, где обсуждались планы похода на «вечерние страны». Тяжело было Олексичу слышать, как Бату-хан и его соратники готовятся напасть на Киев, Чернигов и другие русские западные города… Поход был близок, передовые татарские войска уже начинали уходить на запад через половецкие степи. Олексич опасался, что Бату-хан и ему прикажет быть в походе около него.
Проходили дни… Олексич с рассветом покидал шатер, спускался к реке, где вдоль берега горели костры. Вокруг них сидели знакомые плотовщики и, склонивши взлохмаченные головы над глиняными горшками, степенно хлебали деревянными ложками свое незатейливое варево.
– Ушицей подкармливаетесь? – спросил Олексич, присев на бревне близ старика в изодранном до крайности бараньем полушубке. Сквозь дыры местами просвечивало загорелое тело.
– А то чем же? Здесь рыбки вволю, сама на берег лезет. Только вот соли нет.
Гаврила свистнул и повернулся. За его спиной вырос угрюмый татарский слуга, повсюду неотступно сопровождающий гостя.
– Есть ли у тебя соль, Шакир? – спросил Олексич. Он уже немного научился говорить на языке ханского окружения.
– Все есть, что ты прикажешь, мой хан! А нет, так достану! – И он пошарил в ковровом мешке, который носил за Олексичем. Оттуда он достал кожаную коробку. Гаврила взял из нее горсть соли и хотел высыпать в горшок с ухой, но старик задержал руку:
– Стой, стой, добрый молодец! Соль-то у нас теперь дороже золота. Я ее приберегу в моем рукаве, посолить краюшку.
Старик вытащил из-за пазухи оторванный рукав, завязал узлом конец, и Гаврила всыпал в него несколько горстей соли.
– А где же твоя рубаха?
– Да поистлела вся. Один рукав и остался. Вот вернусь домой, старуха мне новую сошьет.
– Шакир, достань новую рубаху!
Слуга, метнув недоверчивый взгляд, вполголоса ответил:
– Есть, мой хан! Только не для такого оборванца.
– Что я тебе приказал?
Шакир с обиженным лицом вытащил малиновую шелковую рубаху и, поставив мешок на землю, встряхнул ее и подал Олексичу.
Старик вскочил и замахал руками:
– Что ты, что ты, Гаврила Олексич! Не по купцу товар даешь! Такую богатую рубаху носить бы именно боярину, а с меня хватит и дерюги.
– А коли тебе рубаха не по нраву, так ты ее обменяй.
– Да мне за такой товар пять холстинных рубах дадут… Только стану ли я твой подарочек менять? Вернусь домой, в шелковой рубахе в избу войду, то-то моя старуха начнет причитать да дивоваться!
Другие плотовщики, сидевшие у костров, вскочили и, подойдя, осторожно щупали огрубелыми пальцами добротность ткани.
– Ладно! – сказал Олексич. – Рубаха твоя, что хочешь, то с ней и делай!
И он отошел к другим кострам. Подсаживался к плотовщикам и всех расспрашивал об их житье-бытье… У всех на уме были только родная сторона, седой Волхов, суровое, угрюмое Ильмень-озеро.
– Маленько еще потерпите! Достройте Батыевы хоромы, а там вместе двинемся домой.
Одарив особенно сноровистых и усердных в работе, опустошив свой мешок, Олексич отходил на бугор. Оттуда он подолгу смотрел в туманную даль. Где-то слышалась переливчатая, заунывная песня, доносились стуки топоров, надрывные стоны и рев верблюдов, ржание коней и знакомые, родные, русские напевы.
И опять проходили дни…
Каждый вечер в шатре Олексича собирались гости: соратники и друзья Бату-хана. Слуги подавали сладкие вина в запечатанных смолой глиняных кувшинах, сушеный виноград, лепешки и жирные палочки сладкого печеного теста.
Охмелевшие, лежа на подушках, они любили слушать непонятные, чуждые перезвоны струн и песни прибывших с Олексичем двух новгородских гусляров. Иногда Гаврила сам начинал петь, и голос его, низкий и звучный, казалось, заполнял собой шатер.
Когда гости расходились, появлялись бесшумные рабыни, прибирали все вокруг, а старшая из них, с медными кольцами в ушах, шептала хмельному Гавриле:
– Моя прекрасная госпожа давно ждет своего обожаемого повелителя.
Олексич выходил, останавливался на краю обрывистого берега, долго любовался переливами воды, игрой отблесков лунного света. Кое-где мерцали огни костров. Уже лагерь грозного хана погружался в глубокий сон, только слышалась изредка перекличка часовых, взвизгивания неукротимых жеребцов и далекий лай собак. Насладившись красотой тихой ночи, Гаврила шел в шатер своей восточной красавицы. Он находил Зербиэт-ханум сидящей на небольшом коврике. С кошачьей гибкостью она бросалась на шею Олексичу под тихий перезвон золотых и серебряных браслетов.
Яркий лунный свет, падая в прорези шатра, освещал ее черные зовущие глаза, тонкие подрисованные брови…
Она заботливо спрашивала:
– Что задержало тебя так долго? Кого ты видел? С кем разговаривал? Какие вести получил от твоего преславного князя? Расскажи мне! Я так терпеливо ждала тебя.
– Потом, в другой раз! Сейчас я устал. Лучше расскажи мне сказку…
Олексич уносил ее на шелковые подушки и в полудремоте слушал удивительные рассказы о нежной прекрасной царевне, грустящей в роскошном дворце о своем суженом, уехавшем далеко на войну, или о том, как царевна, переодевшись в мужское платье, отправилась бродить по бесконечным дорогам Азии в поисках своего любимого, которого заточили в подвале старой крепости, откуда царевна, после многих приключений, его выручила…
Гаврила засыпал под журчание мелодичного голоса, но тревога не стихала, и в полусне ему казалось, что перед ним клубятся грозовые тучи и вереницей проносятся над серебристой ковыльной степью…
И вдруг точно острой стрелой кольнуло сердце: он вспомнил «их», страшных недругов, отлично вооруженных, в железных доспехах, на добрых конях, немецких всадников… Домой, скорей домой!
Глава седьмая
«Живули»[38]38
»Живули» – игрушки: фигурки людей и зверей.
[Закрыть]
Однажды к шатру Гаврилы Олексича подошел седобородый странник с берестяным коробом за плечами. На нем был выгоревший на солнце зипун и обычный новгородский поярковый колпак. На поясе висели новые лапти – на обратную дорогу после длинного пути. Татарский часовой отталкивал старика, не подпуская к шатру.
– Боярин родимый! Гаврила Олексич! Где твоя милость? Услышь меня! Эти нехристи не пущают меня перед твои ясные очи. Весточку я тебе принес с родной сторонки.
Гаврила бросился из шатра, подбежал к страннику, обнял его за плечи:
– Знакомо мне твое лицо, а где видел – не помню…
– Да на торгу в нашем Новгороде. Я всегда там возле блинника стою, что насупротив Мирона-жбанника. Охотницкими силками занимаюсь: плету сети и на соболя, и на белок, и на тетеревов.
– Ну, пойдем ко мне. Посидим, поговорим. Порадовал ты меня.
– И еще порадую, – сказал странник, следуя за Гаврилой Олексичем в шатер и садясь возле тлеющих углей костра.
Он скинул потертый зипун, бережно сложил его, поставил перед собой берестяной короб и, став на колени, принялся в нем шарить.
– Как же ты сюда-то попал?
– Постой, постой, все расскажу кряду. Услышал я, боярин, что ты с плотовщиками и струговщиками пустился в далекие края на волжское понизовье. И погоревал, что к вам не присуседился. Давно я задумал одно дело и пошел как-то на твой боярский двор посоветоваться со сватом моим Оксеном Осиповичем…
– Знаю хорошо, – подтвердил Гаврила Олексич. – Добрый и верный сторож он у меня.
– Нашел я свата, а он около крыльца стрелочки из щепок стругает. Обговорили мы с ним то да се, а тут хозяйка твоя, боярыня, на крыльцо вышла. «Опоздал ты, дедушка, говорит, хозяин мой давно уже уехал в низовье Волги к царю татарскому Батыге наших пленников из неволи выкупать. И сколько еще раз черемуха зацветет, пока он домой вернется, не знаю. Только святителям молюсь, чтобы живым и невредимым его сохранили. А сам ты не согласился бы поехать его проведать? Запаса на дорогу, говорит, я прикажу тебе выдать…» – «Можно! – отвечаю. – Волга мне река родная, знакомая. Сколько раз я когда-то по ней с молодчиками нашими ушкуи гонял!» Тут она позвала меня к себе в светелку и плакала, скажу без утайки, слезами обливалась. И вот что тебе передать велела… – Старик вынул из короба и протянул Гавриле Олексичу большой комок седого мха.
Тот жадно схватил его и стал осторожно разворачивать. Внутри оказались так хорошо знакомые, обсосанные и потертые ребятками две искусно вырезанные из липовых чурбашек детские игрушки: одна изображала медведя на задних лапах, другая – мужика в поярковом колпаке, играющего на балалайке.
– И в мох этот сама боярыня игрушки детские завернула. «Пусть, говорит, от седого лесного мха на моего Гаврилу Олексича родным русским духом повеет, а то еще, упаси Господи, дом родной позабыл, татарскую веру принял…»
Гаврила прижал мох к лицу и долго молчал, вдыхая знакомый запах хвои векового соснового бора. Глубокая тоска и нежность охватили его. Перед глазами, как живой, всплыл широкий двор родного дома, заросший буйной травой, где ходила его Любава с малюткой на руках, а старший, в белой рубашонке, ухватившись за материнский подол, был еле виден в высокой траве. Вспомнились веселый смех жены, ямочки на румяных щеках и стук подковок сафьяновых полусапожек… Перед ним стали проплывать зубчатые стены старого Новгорода, величавое течение Волхова, шумное, беспокойное вече… Каким далеким и вместе дорогим и близким все это было! Скоро ли, наконец, его отпустит домой коварный татарский владыка?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































