Читать книгу "Молотобойцы"
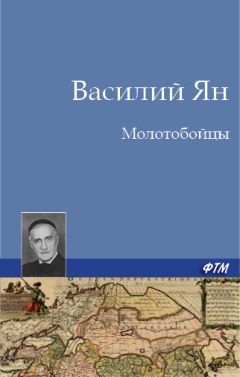
Автор книги: Василий Ян
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Василий Ян
Молотобойцы
Часть первая
Непокорные
Бунт – не перцу фунт, а живет горек.
Старинная пословица.
«Дабы те деревни всегда были уже при тех заводах неотложно, чтоб особо без заводов отнюдь крестьян никому не продавать и не закладывать и никакими вымыслами ни за кем не укреплять…»
Из указа Петра I
1. Сельцо веселые пеньки
На склоне холма, омываемого с одного края прудом, раскинулось сельцо Веселые Пеньки. Трудно сказать, почему это сельцо получило название веселого и какие и от чего остались пеньки. Но сельцо это входило в поместье братьев Ивана, Яна и Гаврилы Семеновых детей Челюсткиных, пожалованное «великим государем» еще деду их Матвею Челюсткину за услуги, оказанные им боярам Романовым при захвате московского престола.
Часть поместья была отдана на оброк, по двенадцать рублей в год, иноземцу Петру Гаврилову сыну Марселису, впредь на двадцать лет с тем, что «повольно ему, Петру Марселису, и детям его на той земле заводы завести железного дела и строить, что они похотят, и в поместном лесу хоромянный и дровяной всякой лес сечь». Но в этом сельце иноземец Марселис железных заводов не строил, а только пользовался лесом.
Сельцо было похоже на другие деревни Серпуховского уезда: потемневшие курные[1]1
Курные – «черные» избы с печами без трубы, дым выходит через дверь, окна.
[Закрыть] избенки, покрытые побуревшей соломой, растасканные плетни вокруг скудных огородов с горохом, репой, луком и хмелем. Оконца задвинуты доской или затянуты брюшиной. Плакучие березы и рябины склонились, как от похмелья, над непросыхающей лужей, где завалилась длинная тощая свинья с пестрыми юркими поросятами. Далее за огородами прижались круглые одонья[2]2
Одонья – группы круглой клади хлеба в снопах, с обвершкой снопом.
[Закрыть] ржаных снопов с острой обвершкой, и за гуменником расползлись густые конопляники.
По хребту холма протянулась господская усадьба, огороженная частоколом. Из-за него выглядывали коньки и гребешки крыши «шатром», крытой дранью, и покосившийся теремок с переливающимися на солнце слюдяными оконцами. Сквозь раскрытые ворота алело расписное деревянное крыльцо, а перед ним красовалась круглая садовая куртина с шиповником, маками и красными пионами.
Владельцы поместья редко наезжали в эту усадьбу, где постоянно жил их доверенный, приказчик Меренков, следивший за порядками и благочинием прикрепленных к земле крестьян, плативших господину оброк и зерном, и яйцами, и холстиной, и куделью, и ягодами – всем, что Меренков сумел из них выжать.
Во дворе усадьбы стояли избы «белые»[3]3
«Белые» – избы, где печь с трубой и нет копоти.
[Закрыть] с кирпичными трубами на крыше, конюшни, скотный хлев, сараи, погреб с надпогребицей и различные клети.
Длинный извилистый пруд зарос по краям камышами, где перекликалась болотная птица. Середина пруда давно бы затянулась сплошной тиной и желтыми кувшинками, если бы стада гусей и уток не плавали целый день, чувствуя себя там неприступными; к осени многие стаи совсем дичали, и за ними гонялись уже по льду.
В том месте, где пруд заворачивал дугою и переходил в болото, на берег забралось несколько черных бань (называвшихся тогда «мыльнями»), хлебные овины, водяная мельница, а дальше за ними одиноко чернела полуразвалившаяся закоптелая кузница старого деда Тимофейки, и возле нее «стан»[4]4
Стан – в нем подтягивают на подпругах норовистых лошадей, не поддающихся обычной ковке «с колена».
[Закрыть] для ковки норовистых лошадей.
С другой стороны к пруду подходила роща с поскотиной – телятником. Через рощу журчал ключ, выбившийся из-под корней старой березы. Далее тянулся ряд полянок, где Марселис вырубил «хоромянный» лес. Неподалеку в липовнике прятался пчельник, а за ним роща переходила в бор с вековыми соснами и елями, в котором были разбросаны заимки[5]5
Заимка – очищенный от леса участок с избой вдали от деревни.
[Закрыть] крестьян.
2. Отослать на завод семьдесят работных людей
Ранним солнечным утром из помещичьей усадьбы вышел озабоченный староста Никита и, постукивая длинной палкой, направился тропочкой к курным избам. Из-под остроконечного колпака с собачьим отворотом поблескивали недовольные прищуренные глазки. Он шел мелкой походкой, шаркая широкими сапогами. Около первой избы староста сдвинул шапку набок, опять направил ее, помедлил, махнул рукой и постучал батогом в маленькую оконницу.
– Харька, выглянь-ка на улку.
Ставня отодвинулась, из черного квадрата вырвался клуб кислого пара, и показалось встревоженное лицо старика.
– Чего еще надо, Никита Демьяныч?
– Пройди на скотный двор, к крыльцу Ивана Степаныча. Там узнаешь кой-чего. Бают – Меренков из Москвы отписку получил.
Староста пошел дальше по деревне. У некоторых изб он останавливался, стучал батогом и говорил одно и то же, вызывая мужиков к приказчику Меренкову. Мужики выскакивали босиком и, накинув кожухи, шли гурьбой сзади старосты, расспрашивая, что приключилось. Но Никита отмалчивался, уверяя, что сам ничего не знает, а на господском-де дворе все разъяснят.
Мужики собрались перед крыльцом приказчика с шапками в руках и глухо переговаривались:
– От барской отписки добра не жди… Оброк новый накинет, а то, может, надумал и чего похуже…
В стороне сгрудилось несколько баб в цветных сарафанах и красных полинявших платках. С тревогой они ожидали, что грозило их мужьям.
Меренков вышел на крыльцо и окинул цыганскими с желтизной глазами собравшуюся толпу. Рядом с приказчиком стоял другой, неведомый крестьянам человек, рыжеволосый, рябой, в кафтане посадского покроя. К ним присоединился дьячок Феопомпий, с прилизанной квасом косицей. Меренков держал в руках бумажный свиток. Голова его совсем ушла в прямые плечи, подбородок поднялся, и жесткая черная глянцевитая борода прыгала, когда он говорил.
– Детушки, – выкрикивал он высоким сиплым голосом, – господин наш и отец родной Иван Семенович, за здоровье коего мы, его людишки и сиротинушки, усердно бога молим, прислал вот эту самую отписку, что мы нашим великим радением и неоплошно должны помочь царскому делу. Для войны с злобнейшим царем свенским Карлусом и ханом крымским Едигеем нужны пушки, и ядра каленые, и пищали огненные, и другие ратные припасы. Надо этого злодея, и татя, и вора Карлуса от нашей земли отвадить, иначе он сюда придет, избы наши пожжет, амбары повытрясет и поля стопчет. А заводы железные, тульские и каширские, работают доспехи воинские тихо, ослабно; не хватает и черных кузнецов, и добрых рудокопщиков, и углежогов. А потому… – Меренков откашлялся и сунул свиток в руку дьячка, стоявшего с застывшим лицом, прижав веснушчатые ладони к округлому засаленному животу. – А потому в этой отписке наш господин приказал для царского воинского дела отобрать семьдесят крестьян здоровых и к делу охочих и послать их на железные заводы. Нутко, отче Феопомпий, ну-тко, прочти, про кого там помечено по имены и прозвищи… А кого вызывают, детушки, выходи вперед и становись к сторонке особо.
Дьячок, держа свиток близко перед глазами, стал читать слегка нараспев и с остановкой после каждого имени.
– Сережка Дербинский, Ильюшка Корзин, Федька Семерня, Харька Ипатов…
Мужики повторяли гулом произнесенные имена и выталкивали из своей толпы то Серегу – молодого парня, растерянно озиравшегося, то угрюмого, худого, со впалой грудью Федьку Семерню, то старого низкорослого деда Харьку Ипатова.
Вызванные отходили в сторону.
Затихшие было крестьяне начали громко перешептываться:
– Небось Никита своих сродственничков и шабров[6]6
Шабёр – сосед, приятель.
[Закрыть] обошел, пожалел. Это все Никита подбирал, на кого прозябь[7]7
Прозябь – умысел.
[Закрыть] имел.
Меренков объяснял своему рыжему соседу:
– Видишь, Петр Исаич, какие все добротные мужики, молодец молодца краше. Могутные, спористые работнички будут. Вот этот долговязый, вихрастый – сапожник, Митька Бахила, починивает худые мехи с большим искусством, и жалованья ему никакого хозяйского нет, кормится своим мастерством. А вот этот – верно, что носом кирпатый, – Федосейка Стрелок. Да не в лице его сила, – смысл имеет и мужик исправный. Ездил он каждый месяц к Москве на двор господина нашего Ивана Семеныча с письмами, а с Москвы обратно – со всякою ведомостью и ничего не растеривал…
Петр Исаич откашливался, вертел головой и говорил, что когда ножные железы на всех наденут, то он должен еще каждого осмотреть, нет ли какого ущерба: все ли пальцы на руках, не течет ли из ушей, не перхает ли, как баран. «Дело ведь хозяйское, работать придется с великим радением и большим поспешением». Так он и боится, чтобы не увести с собой ленивца, который будет хлеб хозяйский есть, а бестолковщину плесть.
Однако крестьяне уже не стояли молча. Волнение их усиливалось. Кривоглазый Харька Ипатов протиснулся вперед и обратился к приказчику:
– Ты куда же хочешь нас отослать? На завод?.. Мы к этому согласия нашего не даем.
– Не даем! – поддержала многоголосая толпа.
– Мы хлебопашцы, привыкли около землицы ходить, нам заводская работа несподручна. Никуда от нашей пашни не уйдем, сколь бы ты нас не улещивал или страшил казнью.
Меренков пробовал уговаривать, грозил, что отдерет упорствующих шелепами,[8]8
Шелёп – плеть, кнут.
[Закрыть] и подмигнул холопу Силантию, чтобы тот запер усадебные ворота. Высокий Силантий, прозванный «катом»,[9]9
Кат – палач.
[Закрыть] направился к воротам, но это еще более распалило крестьян.
– Ребята, гляньте, ворота запирают. Айдайте скорее по избам! – крикнул Харька Ипатов, и вся толпа, шлепая босыми ногами, побежала к воротам, отбросила Силантия и в клубах пыли понеслись по дороге. Меренков смотрел на мелькавшие пятки и чувствовал, что он не так повел дело, как надо.
Вернувшийся от ворот Силантий тащил в своих медвежьих лапах упиравшегося старого Харьку Ипатова. Меренков хрипел от злости:
– Тащи его, подлеца, на конюшню. Заклепай ему ножные железы. Это ты бунтарь, Харька, заворовал[10]10
Заворовал – устроил мятеж.
[Закрыть] всех крестьян против нашего благодетеля, да и против царского повеления готовить ратные припасы. Ты против великого государя идешь.
Харька, стараясь вырваться из цепких рук Силантия, кричал:
– Чего мине, старика, держишь? Ты других, помоложе, держи! Чего мине царем попрекаешь? Я против царя не заворовал и ничего судного не говорил, а ты крестьян на заводы зашлешь, земли их продашь, – мы без земли и останемся. Знаем мы, какие на заводе ратные припасы готовятся: не пищали, а сковороды. И не для великого государя ты распаляешься, а для-ради господской ручки, чтоб тебя по рылу погладила.
– Молчи лучше, брешешь на свою голову, – шептал Силантий. – Он с тебя за такие слова шкуру сдерет.
Харька Ипатов разошелся и, высвободив одну руку, потрясал кулаком, тыча в сторону приказчика.
– Однажды послал наших ребят на заводы и тоже тогда говорил, что только до покоса. А на заводе они и от работы, и от квашеной рыбы дохнуть начали. Коней больше ты жалеешь, чем людей.
– Двадцать плетей ему, – спокойно сказал Меренков. – В погреб его сбросить.
Но тут появился паренек в простой рубахе, посконных портах и лаптях. С перевальцем отделился он от амбара, где стоял в сторонке, подошел сзади к Силантию и схватил его поперек пояса. Изумленный Силантий, оглядываясь, кто его держит, закричал:
– Ты чего? Что, как рак, вцепился? Не балуй! Брось, говорю!
Но паренек оттолкнул его, схватил Харьку Ипатова за рукав и быстро потащил за собой к воротам.
– Разбой! Разбой! – вопил с крыльца приказчик Меренков. – Держите его, детушки, вяжите ему локти!
Холопы с разных сторон побежали к светловолосому парню, стараясь загородить ему путь к воротам, но тот, расталкивая толпу, уже открывал ворота.
– Это Касьян – молотобоец из кузни Тимофейки.
Силантий раньше тоже был молотобойцем, но променял это дело на доходную роль помещичьего ката. Его обязанностью стало стегать кнутом крестьян по приказанию господского приказчика. Увидев, что Касьян разъярился и схватить его не легко, Силантий отбежал в сторону и, размахивая охотничьим ножом, кричал на холопов:
– Чего стоите, дурни? Спустите с цепи кобелей. Не выпускайте баламута.
Два холопа, пытавшиеся закрыть ворота, повалились, сшибленные Касьяном, и молотобоец со стариком проскочили в ворота. Они бегом спустились с холма и скрылись в ближайшем коноплянике. Из ворот выскочили несколько волкодавов и, заливаясь хриплым лаем, помчались по деревне.
3. Крестьяне сбежали
Приказчик Меренков был и взбешен и смущен внезапным бегством крестьян. Приказ господина его, Ивана Семеновича Челюсткина, говорил: «Спешно, без мотчанья,[11]11
Мотчанье – медлительность.
[Закрыть] передать семьдесят крестьян приехавшему одновременно с письмом тульскому посадскому человеку, Петру Исаичу Кисленскому». Кисленский был доверенным приказчиком нового тульского железного заводчика Антуфьева, подыскивавшего работных людей. Деньги обещал заплатить без задержки, сразу после передачи.
Меренков чувствовал, что не так повел дело, и приказчик Петр Исаич ему то же самое выговаривал.
– Погорячился ты очень, с мужиками так нельзя. Иной мужик, как бык, куда хочешь его погонишь. А иной, что конь с норовом, – закинется перед лесиной и топчется, хоть убей.
Меренков увел Петра Исаича в избу и усадил под киотом с образами на лавочке, затянутой сукном.
– Ты думаешь, с ними сладу не будет? – говорил он. – Напраслину говоришь. Сразу они не пошли, так поодиночке переловлю и на веревочке поведу. И не таких прибирал к рукам. И не только я переселю на завод семьдесят человек, а и прочих выведу на другие места и дома их пожгу. Отец Феопомпий, чего стал? Иди садись.
Дьячок, почтительно остановившийся в дверях, откашлялся в руку и, придерживая полы длинной одежды, прошел в красный угол и сел рядом с тульским приказчиком.
– Хозяйка вам даст перекусить, – сказал Меренков, – а я пойду по деревне и поговорю с мужиками. Когда гилем[12]12
Гилем – толпой.
[Закрыть] сходятся, небось они задорны, а когда я с глазу на глаз с каждым поговорю, – куда и прыть их денется.
Хозяйка, в белом платке, в красной рубахе до пят, в подбитой мехом лазоревой телогрейке, показалась в дверях. Она несла деревянный поднос, на котором стояла баклага с пенником,[13]13
Пенник – крепкое хлебное вино.
[Закрыть] круглые пшеничные калачи, пирожки пряженые,[14]14
Пряженые – жаренные на масле.
[Закрыть] начиненные рыжиками и рыбьими молоками, и большие «приказные» оладьи с медом.
Хозяйка поклонилась гостям в пояс и, поставив поднос на стол, удалилась. Меренков налил три чарки; все выпили пеннику, тыча двухзубыми вилками в закуску.
– Чтоб дело вышло удачно, – сказал Меренков, вытирая губы, и вышел из избы.
Он спустился к деревне, сопровождаемый Силантием, старостой Никитой и несколькими холопами. Силантий засунул за пояс кнут, чтобы в случае надобности отстегать на месте дерзких против господина крестьян. Однако, окликнув несколько изб, Меренков убедился, что почти вся деревня убежала в лес, остались только глубокие старики и хворые старухи, которые выползли на завалинки и, приставив руки к глазам, вглядывались в приказчика, стараясь разузнать, что случилось и почему произошел такой переполох.
Тогда Меренков, еще более взбешенный и в то же время встревоженный, что начинается непослушание и бунт, вернулся обратно в усадьбу. За скорую передачу крестьян Петр Исаич посулил ему, что без «благодарности» он не останется, а теперь придется принимать особые меры, успокаивать и усмирять крестьян, да еще все это время щедро кормить у себя тульского гостя.
Он поднялся в свою избу, где Петр Исаич и дьячок Феопомпий усердно разделывали жареную печенку с луком.
– Нужно надежного человека послать к бунтарям, – сказал Меренков, смотря на Феопомпия. – Эти собачьи дети ушли недалеко, наверно, собрались в роще за поскотиной и там лясы точат, как бы от господского приказа отвертеться. Отче Феопомпушка, ты бы к ним сходил, они тебе, как на духу, все свои помыслы расскажут.
Феопомпий, опустив глаза, переплел на животе пальцы рук и вздохнул, огорченный, что ему придется оторваться от стоявшего на очереди политого маслом пирога.
– Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых… – сказал он со вздохом, еще надеясь остаться.
Меренков тоже, видимо, понимал кое-что в церковном деле и ответил:
– А не сказано ли в книгах: «Всякая душа властем предержащим да повинуется»? Живо, живо, отче!
Феопомпий склонил голову набок, перекрестился на образа и вышел из избы.
4. Мирской повальный сход
В роще за поскотиной, где свалены бревна на постройку господских хором и амбаров, сбежались на «повальный» сход пеньковские мужики. За ними потянулись сюда и бабы. Всех встревожила весть о новом господском приказе. Надобно было решить, что делать дальше, если половину сельца господская воля хочет заслать на завод. Все знали судьбу «ровщиков» руды, углежогов и плавильщиков – обратно их к пашне не отпускали, а самовольно ушедших ожидали плети и дыба.
Мужики расположились на бревнах. Часть сидела прямо на кочках. Между мужиками шныряли ребятишки, затеяв возню из-за щепок. Впереди на пне сидел Самолка Олимпиев, – он приторговывал, скупал у крестьян пеньку и лен и возил на ярмарку в Каширу и Серпухов.
Самолка гордился своей мошной, многие ему из года в год должали, а потому он считал себя вправе поучать других. Закатив глаза под лоб и водя рукой по воздуху, он с растяжкой говорил, что «не след противиться господскому приказу, что за непослушание и огурство[15]15
Огурство – упрямство, леность, отлынивание от работы.
[Закрыть] по шерстке не погладят, а все одно на заводы приволокут в железах, только сперва изобьют палками».
– Как ездил я на ярмонки, сам слышал, что в деревнях и Мокроусовой, и Дубле, и Соломыковой, тако ж было, и ничего крестьяне упорством не добились, а только еще невинные пострадали.
Первыми дали ему отпор бабы. Перебивая друг дружку, кричали:
– Ужо закатил глаза, запел свою песню. Чего бахары[16]16
Бахорить – болтать, бахвалиться.
[Закрыть] разводишь? Тебе-то что? Тебя на завод не засылают, тебе и не беспокойно. Ты живот растишь и на господскую сторону хочешь весь сход погнуть.
– Нам Самолку слушать не след, – поддерживали крестьяне, сидевшие на верхних бревнах. – Ты с приказчиком в думе и не по его ли научению поешь? Пускай Самолка помолчит. Послушаем, что скажут те, кого староста вписал в список.
Заговорили другие. Никто не хотел отрываться от пашни, чтобы лезть в сырые рудные дудки[17]17
Дудки – шахты.
[Закрыть] или ходить около плавильных печей.
– Стойте крепко, чтобы нам с товарищи впредь вконец не погибнуть, голодною смертью не умереть и с детишками своими разоренными не быть. Ведь по миру все пойдут.
Но голоса робких и осторожных брали верх, и хмурились мужики, раздумье одолевало – что будет?
Споры и крики прекратились, когда прибежал Федосейка Стрелок и, еще задыхаясь от бега, вскочил на пень, столкнув с него Самолку Олимпиева, и замахал руками:
– Тише, старики! Слушайте, что я проведал.
– Эй, бабы, уймите ребят!
Федосейка оглянулся, точно боялся, что кто-нибудь подслушает.
– Теперь все земли Челюсткина, что иноземец Марселис на время получил, по повелению великого государя передаются боярину Льву Кирилловичу Нарышкину. А вы слыхивали, кто такой этот боярин Нарышкин? Братец царицы Натальи Кирилловны. Значит – сила. Захотел он сам заводы железные держать и хозяйничать. Теперь ему нужны мастеровые и работные люди на заводы – не хватает молотобойцев, и плавильщиков, и латников, и пищальников. Но еще и другие заводчики тоже ищут работников. Пока Нарышкин еще заводы возьмет да пока еще начнет ими орудовать, Челюсткины хотят на этой продаже поживиться и часть наших крестьян продать другому заводчику – Антуфьеву. Здесь и Челюсткины, и приказчик Меренков думают погреться. А нас голыми угонят на завод и в награду каждому поставят свежий крест осиновый…
Федосейка отер красное лицо рукавом драного полушубка. Несколько мгновений тянулось молчание. Мужики слушали разинув рты. Слышно было, как булькала вода в канавке. Затем разом закричали:
– Разве можно это стерпеть? Где же правда? Бояре правду в болото закопали! Не смеют нас с земли сводить! Нет такого указа! Не покоримся!
Рябой сутулый мужик предложил послать челобитчиков к царю.
– А толку от этого много ли? – возражали ему. – Челобитчиков схватят для сыску и допросу и когда еще выпустят…
Опять загалдели мужики, и встал сидевший на бревне старый Савута Сорокодум. Свисавшие из-под колпака седые волосы от времени покрылись зеленым налетом, как мшиные охлопья на старых елях. Савута помахал костылем.
– Послушайте мине, робятушки. Кто мине может от пашни оторвать и на заводы услать? Да я свежей мозолью семь десятков лет распахивал пашенку. Здесь раньше мокрядь была. Я от маметака[18]18
От маметака – от тех лет, когда счет годам начался.
[Закрыть] помню, как по этим лесам, где исстари соха, и коса, и топор ходят, все отцы и деды наши расчищали буреломы, секли деревья. Все эти земли до пустоши Заклюки и речки Заключки наши мужики пеньковские распахали. А коли приказчик Меренков похваляется, что нас от пашни оторвет и на плавильни угонит, так нам одно осталось – взяться за топоры…
Савута опустился на бревно и, качая лохматой седой головой, долго сердито стучал костылем.
– За топоры! Заложим засеки! Поставим дозоры, подымем другие деревни! Кто может нас от пашни оторвать, если мы к пашне привычны и оброк платим? Пускай кузнецы нам сготовят рогатины, копья и вилы, и мы уйдем дальше в лес; а в случае нас будут дальше теснить, двинемся к Сибири на вольные земли.









































