Текст книги "Безмятежные годы (сборник)"
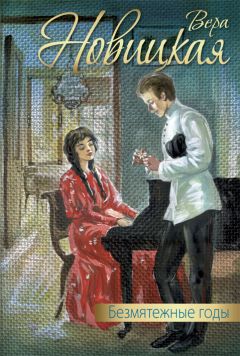
Автор книги: Вера Новицкая
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава VI
В городе. – Опять гимназия. – Любин секрет
Вот мы не только перебрались, но успели уже слегка обжиться в городе. Первые дни все, точно по инерции, жила еще дачными мыслями. «Надо сегодня сделать то-то, пойти туда-то», – думаешь утром в постели, и вдруг: «Ах, да! Ведь мы же в городе!»
Во всякой встречной пожилой особе мерещилась либо которая-нибудь из моих старушек, либо дачница, успевшая за лето запечатлеться в глазах; в каждой бабе заподозришь дворничиху, а в любом босоногом мальчугане кого-нибудь из ее карапузов. Про военных уж я и не говорю: ни один юнкер с красным околышком или офицер с белым не могли безнаказанно пройти, чтобы не привлечь моего внимания. Почему, собственно, красные юнкера? – непостижимо, разве так, по доброй памяти; белые офицеры, пожалуй, понятнее.
Мало-помалу, начинается осенний перелет, и все знакомые постепенно водворяются в старые зимние гнезда. В среду возвращаются мои старушоночки, в пятницу – Николай Александрович. Гимназистки наши, конечно, все в полном сборе. Я поражена была их солидным видом. Взрослые, степенные барышни, да и все тут. Говорю «видом», потому что пока еще трудно судить об их внутренней солидности: поживем – увидим.
Платья у всех до полу, косы безвозвратно исчезли. Даже Полуштофик вытянулся немного, а значительно подросшие кудряшки подобраны в модную прическу, которую красиво оттеняет черная бархотка. Она уж больше не резвый мальчуган, а хорошенькая девушка, но все же малюсенькая; я много переросла ее. Теперь моя коса единственная в классе, свободно болтающаяся по спине, даже Пыльнева изменила мне – ее каштаново-пепельные косы диадемой лежат на изящной головке.
Все такие веселые, сияющие, ликующие, все рассказывают свои впечатления, похождения, всякий веселый вздор. С Любы, видимо, слетела вся ее летняя меланхолия; она по-прежнему весело, заразительно хохочет-заливается, и глаза ее искрятся задорными огоньками.
Но при взгляде на кого у меня душа болит, это на бедную Веру. Она не веселилась, не отдохнула летом. Овал ее лица стал еще тоньше, еще прозрачнее, вся она точно воздушная, будто тень прежней, и тогда уже хрупкой, Веры. Одни глаза, большие, темные-темные, светящиеся, полны жизни, блеска, чего-то глубокого и печального; кажется, будто все силы, вся жизнь сосредоточились в них. Мне хочется плакать, глядя на нее, но я стараюсь не показать, какое впечатление она на меня производит, чтобы не запугать ее.
– Ну, что же, хоть чуточку отдохнула за лето? Ты последнее время и писать совсем перестала, – спрашиваю я.
– Нет, Муся, плохо я себя чувствую, так плохо! Слабость неодолимая, вся я точно разбитая, болит каждая косточка, каждый суставчик, постоянная тупая боль в груди и в боку. Спать совсем не могу, есть тоже, хочется лежать тихо-тихо, даже мыслей нет, начнешь думать и не кончишь, мысль слабеет, слабеет и расплывается.
– Так ты, значит, совсем не отдохнула?
– Совершенно. Я еще больше переутомилась в деревне; дети – буяны, ленивые, дерзкие. Хотя по условию я должна была только учить их, но на самом деле они были всецело на моих руках, я весь день была занята. Ну, и сами помещики, родители их, люди грубые, несправедливые, неделикатные; дети у них всегда правы, виноватой во всем оказывалась я. Тяжело было. Уж я человек невзыскательный и довольно терпеливый, но, думала, не дотяну, невмоготу становилось. Да вот, ничего, слава Богу, вытянула.
Вытянула? Это она называет «вытянула»? Мне бесконечно жаль ее, меня приводит в отчаяние сознание своего бессилия что-либо сделать для нее: ведь она ни за что ничего-ничего не возьмет, ни на что не согласится. Вчера приходила посидеть, поболтать вечерком Люба. Вот кто в настоящее время составляет полный контраст с моей бедной Верочкой: насколько печальна и слаба та, настолько весела и цветуща эта. В ней произошла какая-то неуловимая перемена, которая замечательно красит ее; что-то изменилось в выражении лица, в голосе, во всей манере держать себя.
– Ну, рассказывай, рассказывай, что ты поделывала? Верно, завеселилась, потому и писать мне совсем перестала, да и вид у тебя такой хороший. Выкладывай же все, – говорю я Любе, усаживаясь на маленький мягкий диванчик, стоящий в выступе окна моей комнаты, где всегда так уютно и легко беседуется.
– Да, ты угадала. Последнее время было так хорошо, так хорошо!.. Постой, я начну по порядку. Вернулись мы от вас ночью, поздно. На следующее утро общий чай я проспала, выхожу в сад уже часов в одиннадцать и натыкаюсь прямо на Петю, то есть, я хотела сказать, на Петра Николаевича. Чудом каким-то он был один, без своей белобрысой Дульцинеи. Вид и тон, по обыкновению, небрежный.
– Когда же вы поедете на дачу к Старобельским? – спрашивает вдруг.
– Как когда? Но мы сегодня ночью только вернулись, целых два дня там пробыли.
– Разве вы уезжали? Вот не заметил. Мне казалось, что вы дома были. Впрочем, правда, как будто припоминаю. Ну, а когда мы компанией к «Лысому оврагу» ходили, вы были еще здесь?
Как тебе нравится! Два дня меня нет – и не изволили заметить! От обиды, от негодования у меня прямо дрожит все внутри, подступают к горлу слезы, и вся кровь приливает к лицу.
– Как вы страшно загорели, Любовь Константиновна! – начинает он через минуту опять. – Просто ужас! Раньше как-то внимания не обращал, но теперь, когда я избалован постоянным видом нежного, как лепесток розы, личика Евгении Андреевны, ваше поразило меня, как контраст.
Во мне все кипит, я буквально боюсь разрыдаться, но храбрюсь.
– Напрасно вы тратите время и портите свой изнеженный вкус, глядя на мою черную, как голенище, физиономию, когда вон там, между кустами мелькает «нежный лепесток розы», – указываю я ему рукой на бредущую там его Евгению.
– Ах, в самом деле! Наконец-то! Ау, Евгения Андреевна! Мчусь вам навстречу!
Только я его и видела, одни пятки сверкают. Пошла я в свою комнату и даже всплакнула, так больно и досадно было.
Вдруг, понимаешь ли, наряду с этим милейшим господином появляется у меня какой-то поклонник, а кто – никак не могу догадаться. Ясно, что кто-то следит за мной, за моим душевным состоянием, и, чем мне тяжелей, тем больше мне оттуда оказывается внимания, словно утешить меня хотят.
В этот самый вечер прихожу ложиться спать – вся моя кровать закидана веточками жасмина. Другой случай. Играли мы в мнения. С некоторых пор ненавижу эту игру потому, что только дерзости получаешь, да еще публично. Собирают мнения обо мне. Выхожу. Называюсь «книгой». Преподносят мне, конечно, его мнение: «Говорят, что вы, книга, – бесплатное приложение к газете “Копейка”». – Недурно! Второй раз называюсь «картиной». Объявляют мне, что – «картина эта разве на любителя». – Тоже мило! А в комнате на подушке нахожу три прелестных пунцовых розы. Через несколько дней на письменном столике большой венок из гелиотропа, а внутри, на крупных зеленых листах – чудесные громадные вишни. Кто эти сюрпризы устраивает, никак не могу додуматься.
Так вот все и тянулось. Наконец, опять собирается громаднейшая компания соседей и знакомых, человек до сорока, в лес на целый день с самоварами и тому подобное. Погода роскошная, но настроение у меня самое отвратительное. С раннего утра Петр Николаевич наговорил мне уже столько неприятных вещей, что мне плакать хочется и даже голова болит. Но ему еще мало, хочется окончательно досадить мне.
– Боже мой! – восклицает он. – Какая же у вас сегодня похоронная физиономия; к погребальной процессии она была бы как раз под стать, но сомневаюсь, чтобы на увеселительной прогулке приятно действовала на спутников. Что касается меня, то, простите великодушно, постараюсь держаться от вас в сторонке. У меня сегодня так хорошо на душе, я столького жду для себя от этого дня, столько у меня счастливых надежд, что ничем не хочется омрачать его, хочется, чтобы он навсегда остался памятным, светлым днем моей жизни.
Посмотрела бы ты на него: глаза как звезды светятся, лицо красивое, тонкое, никогда я его таким не видела. Меня так по сердцу и ударило; чувствую, вся кровь от лица отхлынула, в ушах звенит; ну, думаю, грохнусь сейчас. Только этого не хватало! Всю свою силу воли забрала, то есть двумя руками, отдышалась немножко и говорю:
– Едва ли я вам или кому-либо испорчу настроение, так как, кажется, не поеду, – у меня сегодня до безумия болит голова.
Смотрю, он так весь и просиял, едва радость сдерживает, а сам равнодушно так:
– Конечно, это самое благоразумное: больной человек и себе, и другим в тягость.
Не поеду, решила, ни за что! Зачем? Смотреть, как он будет за Женькой ухаживать? Или слушать публичные дерзости? Или дождаться, чтобы он пришел заявить: «Мы, мол, жених и невеста»? Осталась. Конечно, пошли всякие препирательства с мамой, с папой, кто-нибудь из них ради меня непременно тоже хотел оставаться, но я молила всех ехать. Я только и мечтала побыть одной и хорошенько на свободе выплакаться. Слава Богу, убрались, кто на велосипеде, кто верхом, кто пешком. Теперь до самой ночи я одна, раньше одиннадцати-двенадцати не вернутся.
Пошла в свою комнату, легла на постель, уткнулась в подушку и всласть наплакалась. Так тяжело, так больно! Кажется, все слезы выплакала. Даже устала, голова разболелась. Не заметила, как вздремнула. Часа в три разбудила меня горничная: «Обедать, барышня». Пошла, поболтала ложкой, поковыряла немножко вилкой – ничего не хочется. Отправилась бродить по саду, в самую глубь, там у нас скамеечка такая над обрывом стоит, моя любимая, И вот представляется мне, что теперь там в лесу делается. Он, конечно, с Женькой, лицо сияет, глаза блестят, вот как утром, когда он только еще мечтал о ней.
Невыносимо тяжело стало, положила голову на столик и реву, реву неудержимо, прямо трясет всю. Вдруг слышу что-то шуршит за моей спиной; я вздрагиваю; прежде чем успеваю повернуться, чувствую, кто-то прикасается ко мне, и вижу рядом с собой стоящего на коленях Петра Николаевича.
– Милая, родная моя, ты плачешь? – говорит он, беря мои руки. – Как бесконечно мне больно видеть эти слезы, и вместе с тем как глубоко я счастлив, что они льются. Тебе больно, да? Я сделал тебе больно? Бедная, милая. Сколько я сам выстрадал, причиняя боль тебе. Сколько раз хотелось, вот как теперь, как сейчас, стать перед тобой на колени, вот так же взять в свои твои милые маленькие ручки и сказать, как глубоко, как преданно и прочно я люблю тебя, одну тебя… Но я не был уверен, я не смел, боялся… Теперь, теперь, когда мне показалось, что и в твоем сердечке зародилось что-то, когда я увидел тебя сегодня, такую бледную, печальную, я едва владел собой. У меня была одна мысль – заставить тебя остаться дома, какой бы крутой мерой ни пришлось добиться этого. Я ударял, больно ударял тебя одной рукой, а в душе мечтал, как, лишь только вся компания займется чем-нибудь в лесу, я помчусь к тебе, как моя другая рука крепко-крепко прижмет тебя к сердцу, в котором скопилось столько любви, столько глубокой привязанности. Скажи, скажи, что и ты любишь, что мы с тобой соединимся на всю жизнь.
Не могу передать, что сделалось со мной: я думала, с ума сойду от радости. После такого глубокого отчаяния – такое счастье. Тогда только я поняла, как сама люблю его. Теперь я счастлива, бесконечно счастлива. Муся, милая, поцелуй меня, поздравь!
Я, конечно, от всей души горячо целую, поздравляю ее.
– Так ты, значит, невеста?
– Да, только это большой секрет. Ни папа, ни мама, ни – сохрани Бог! – Саша не знают. Мы скажем только совсем потом, уже перед… свадьбой.
– А почему же это секрет?
– Да, видишь ли, мама почему-то не особенно хотела этого, ну, так мы решили пока молчать. А помнишь, я говорила тебе про «Дорогой поцелуй», который ставить собирались. Еще я так обиделась, что мне горничную «дать» хотели. Оказывается он себе на уме был: с горничной ему, видишь ли, по пьесе целоваться приходилось. Каков? Скажите, пожалуйста, а каким казался тихоней. Вот уж, поистине, в тихом омуте чертенята водятся.
– Да, подобной прыти и я никак не ожидала от Петра Николаевича, – подтверждаю я.
– Ну, а ты как? Что у тебя слышно? – спрашивает Люба.
Но я отделываюсь общими фразами. Ни за что, ни за что не была бы я способна на то, что сейчас сделала Люба: так подробно, просто повторить каждое слово Петра Николаевича, все то, что чувствовала сама она. Мне было бы жалко, жутко даже; казалось бы, что со всяким слетающим с моего языка, громко выговоренным словом, там, в душе, что-то как бы стирается, тускнеет, отлетает, точно меньше остается милого, дорогого, неприкосновенного, моего собственного, только моего…
Глава VII
Визит к старушкам. – Грустное открытие
В этом году учение в гимназии не мучение, как нелюбезно принято отзываться о сем занятии, а одно сплошное удовольствие. Зубристики никакой, так как ее главнейшая достойная представительница – география, с ее бесчисленными речонками, городами и городишками, губерниями и великими герцогствами – уже в прошлом году безвозвратно сбыта с рук долой. Вместо нее два новых предмета – гигиена и педагогика. Первая – ни то ни се, но вторую я очень люблю. Впрочем, не это главное, самое же интересное – русская литература. С древними и полудревними периодами мы справились в прошлом году, теперь приступаем к милому Пушкину, с его дивной «Полтавой», «Борисом Годуновым» и тысячью прочих прелестей.
Как Дмитрий Николаевич ясно, интересно рассказывает! Какой у него язык гладкий, красивый, чуть не художественный! Пушкина он, видно, сам очень любит и увлекается, читая вслух какие-нибудь отрывки. Я жалею, что у меня только два уха и я не могу еще сильней впитывать всего, что приходится слышать. Но ученицы наши удивляют меня: насколько они не в меру восторженно, до нелепости, относились ко всякому звуку, вылетавшему из уст Дмитрия Николаевича в прошлом году, настолько, конечно сравнительно, мало восторженны они в этом году. Я объясняю это тем, что их обожание к нему за лето повыветрилось, у каждой завелся свой новенький божок, мысли их витают еще там, вокруг них, прежний же кумир повержен во прах. Временно или нет – пока не знаю.
Конечно, я подразумеваю не всех; некоторые его приверженицы остались верны ему. Таких, как Вера, я вовсе не касаюсь – там нечто особенное. Но меня поразила Штоф: вот кто, видимо, крепко, по-настоящему, любит Светлова, ее чувство не ослабело за лето, наоборот.
– Ты не поверишь, Муся, как я рада, что мы снова в гимназии, я просто соскучилась по ней, и потом мне так не хватало Дмитрия Николаевича… На душе сделалось тоскливо, я дождаться не могла возвращения в город и начала занятий. Представить себе даже не могу, что будет со мной по окончании гимназии, когда больше незачем будет приходить сюда.
Бедненький Полуштофик! Вот горе, которому никак не поможешь. А «Он» (с большой буквы), верно, и не подозревает о том, как бьется для него это сердечко; если даже догадывается – что ему? Разве его это трогает, интересует? Ах, да, недавно я имела счастье удивить Его Олимпийское Высочество.
Приходит Светлов в класс.
– Вот, господа, прежде чем приступить к разбору поэмы «Полтава», я бы желал ознакомить вас с этим произведением. Очевидно, некоторые уже читали его, но все же и им необходимо детально освежить его в памяти, остальным же внимательно прослушать. Покорно попросил бы госпожу дежурную быть настолько любезной получить этот том из нашей библиотеки.
Роль дежурной ученицы берет на себя Клеопатра Михайловна, спускается вниз, но сейчас же возвращается с пустыми руками.
– Дмитрий Николаевич, в эту минуту нельзя получить книги, так как Андрей Карлович вместе с Александрой Константиновной составляют спешную ведомость, и я не могу их беспокоить ради ключей.
– Очень прискорбно, придется отложить до другого раза, – говорит он.
Но Шурке Тишаловой всегда и до всего есть дело.
– Дмитрий Николаевич, Старобельская «Полтаву» наизусть знает, она может нам прочитать.
Светлов с удивлением смотрит на меня.
– Вы, госпожа Старобельская, в самом деле всю поэму знаете наизусть?
– Да, знаю.
– Ну, это немногим удается. В таком случае, будьте так любезны, замените нам отсутствующую книгу. Сядьте, пожалуйста, вот тут, лицом к классу, чтобы все могли вас слышать, и, будьте добры, начнем.
Делать нечего, усаживаюсь. Неловко! Все так смотрят! По книге читать гораздо легче, а так – ни рук, ни ног, ни глаз некуда девать. Наконец, глаза пристроены на «кафедральную» чернильницу, руки крепко ухватились друг за дружку, ноги зацеплены за ножки стула – можно начинать. Да, но с чего?
– Дмитрий Николаевич, и посвящение прочитать? – осведомляюсь я.
– Пожалуйста, – улыбается он. – А вы и его знаете?
– Конечно, это так красиво, так мелодично.
Я начинаю:
Тебе… но голос музы томной
Коснется ль уха твоего?
Поймешь ли ты душою скромной
Стремленье сердца моего?
С первых же строк эта чудесная вещь захватывает меня, я забываю про неловкость и добросовестно, как исправный граммофон, выкладываю все, своевременно в меня напетое, говорю, говорю до бесконечности или, вернее, вплоть до звонка. Светлов, кажется, доволен или просто удивлен.
– Скажите, пожалуйста, – любопытствует он, – сколько времени вы учили эту поэму?
– Да я ее вовсе не учила.
– Как не учили?
– Нет. Просто она мне очень нравилась, я много-много раз читала, ну, и, конечно, запомнила.
– Только это совсем не для всякого «конечно», – улыбается он. – Значит, например, небольшое стихотворение вам достаточно прочитать один раз, и вы сейчас же повторите?
– Нет, у меня какая-то странная голова: в ту минуту я не повторю, но через день, даже через несколько часов, если маленькое, – да. Сперва начинают вертеться в памяти отдельные слова, потом фразы и, наконец, все. Я точно мотив подбираю – подберу, тогда запомню и никогда уж не забуду.
– Совершенно своеобразный склад памяти, я еще с таким не встречался, – и, по обыкновению, элегантно раскланявшись, он отбывает из класса.
У Таньки Грачевой от зависти, кажется, начинаются судороги, но, Бог милостив, черты ее милого личика возвращаются в первобытное состояние, и все ограничивается презрительным:
– Подумаешь, избранная натура! Вот кривлянье! Смотреть отвратительно!
И не смотрела бы, чего, кажется, проще?
Остальные все удивлены, охают и ахают. Вот не предполагала, что этим можно мир удивить! Неужели сам Дмитрий Николаевич «Полтавы» наизусть не знает?..
Домой прихожу в самом лучшем настроении. После обеда просматриваю уроки, которых на завтра совсем мало, захлопываю учебник и тянусь за посторонней книгой, которой столько раз еще в прошлом году добивалась и вот теперь, только на днях, получила. Замечательно интересно, просто, тепло, задушевно, одним словом, как я люблю. Теперь на диванчик, в уголок, ноги поджать, руку на спинку, щеку на руку, и тогда так читается! Но входит мамочка.
– Муся, хочешь прокатиться немножко? Проведаем наших старушек, узнаем, благополучно ли они с дачи возвратились, что поделывают.
Хочу ли? – вот вопрос! Чтобы я да не хотела прокатиться вообще, а туда в частности? Впрочем, хитренькая, всевидящая и всезнающая мамочка, конечно, прекрасно знает это. Через пять минут мы на улице. Погода свежая, веселая, яркая. Осень в этом году во что бы то ни стало хочет оставить о себе хорошее впечатление. Все улыбается – и она улыбается, не обращая внимания на угрюмые тучи, которые, нет-нет и угрожающе затянут голубое небо. Но она не смущается: дунет раз-другой, и побегут, хмурясь, напуганные облака, и опять себе, как ни в чем не бывало, смеется она.
Извозчик нам попался хороший, ехать, по счастью, туда очень долго, чуть не на противоположный конец города. Весело мне, прямо прыгать хочется, только, жаль, не принято это на улице. Зато сердце мое, которое меньше считается с приличиями и общественным мнением, не стесняясь, так и скачет.
Останавливаемся. Лезем по лестнице. Тут не только сердцу, но и мне привольнее; коли не прыгать, то все же полубегом наверх взобраться можно. Звоним. Как всегда, минутка тишины, которой сердце опять пользуется для своих гимнастических упражнений, потом шаги, трик-трак: в открытых дверях перед нами Дуняша. Я страшно рада ее видеть.
– А, барыня, барышня, пожалуйте! Вот Ольга Николаевна и Марья Николаевна рады будут! Только намедни все про вас вспоминали.
Первое, что охватывает меня, точно проникает всю насквозь, это тот милый, так памятный мне особый запах, который всегда царит в их доме: пахнет сушеными цветами, немножко камфарой, духами, чуть-чуть табаком… Словом, пахнет так, как, я себе представляю, должно пахнуть в старом помещичьем доме, – добрым старым временем. Я обожаю этот запах, он точно за сердце хватает. Старинная красного дерева с красной же обивкой мебель, громадный киот с теплящейся перед ним голубой лампадкой… Какой-то лаской, отрадой веет на меня от всего этого. Больше я ничего не успеваю разглядеть, кроме появляющейся из-за красной портьеры военной фигуры в тужурке.
– А-а!.. – радостно несется из его уст. – Вот сюрприз. Наше ясное солнышко выглянуло… Как скажут тетушки, – быстро поправляется он. – Вот они обрадуются!..
Но глаза, вся физиономия его говорит, что и сам он не огорчен, то есть нисколечко. Он целует руку мамочке, крепко-крепко пожимает мою.
– Тетушки, а я вам гостей веду, да каких!
Но если старушки еще не совсем разглядели нас и, говоря «сЬиге Мусенька», направляются к мамочке, зато они прекрасно все расслышали. Радость, рассказы, расспросы… В сущности, не говорится ничего особенного, но весело необыкновенно, а груши, сливы, пастила и большие яблоки, которые сейчас же распорядились подать радушные старушечки, кажутся непосредственно сорванными в райских садах.
Светло, хорошо, отрадно! Опять мелем мы с Николаем Александровичем всякий вздор, смеемся сами, смеются и старшие. Ни на минутку не оставались мы вдвоем, ничего особенного не сказал он мне, только, улучив удобный момент, незаметно для других вытащил что-то красненькое из кармана жилетки и показал мне. При взгляде на мою же собственную красную ленту, с которой он, видимо, не расстается, еще веселей, еще отраднее стало на сердце. В легком, приподнятом настроении вернулась я домой.
И вдруг… сразу точно все потускнело, стало маленьким, сереньким, бледным. В сущности, ведь ничего не случилось, как будто бы ничего, а так темно-темно сделалось.
Над страницей книги, которую я с увлечением читала, я останавливаюсь, пораженная чем-то знакомым, хорошо, слишком хорошо, даже больше чем знакомым. Сперва ничего не понимаю. Каким образом? Я теряюсь в догадках. Перед моими глазами полностью напечатано черным по белому то стихотворение, что там, на нашей любимой скамеечке, прочитал Николай Александрович, которое, говорит он, было набросано им под влиянием грез в одну из бессонных ночей и начиналось словами:
Как желал бы навек я продлить
Первый миг роковой с нею встречи…
Все целиком оно здесь, передо мной; более чем полностью: тут два лишние куплета, которые выпустил он… Что это? Что это значит? Ничего не соображаю; чувствую только, будто большое светлое, лучистое видение дрогнуло, пошатнулось, заколыхалось и поплыло, съеживаясь, съеживаясь, становясь бледнее, меньше, туманнее… Передо мной уже просто маленькая тусклая, серенькая картинка, точно запыленная, мутная, а на сердце больно-больно…
Я не рассуждаю, ни в чем не даю себе отчета, я только чувствую. Долго я так сижу, будто в тяжелом сне. Наконец ко мне возвращается способность рассуждать. Зачем, зачем понадобилась ему эта ложь?.. Солгать в такую минуту. И больше опять нет мыслей, ни одной… Хочется плакать… Жаль чего-то, так жаль!.. И я плачу горько-горько, как не плакала давно…
На следующий день я встаю кислая, вялая, безучастная. Вероятно, вид у меня ненормальный, потому что ото всех решительно я слышу один и тот же вопрос: «Что с тобой?» Это так мучает меня: сказать, конечно, никому не могу, притворяться же совсем не умею; попробовала было принять веселый вид, пошутить, но это так трудно, так утомительно, потом еще тяжелее сделалось, и я едва смогла справиться с собой. В классе говорят, объясняют, а я никак не могу сосредоточиться. Светлов два раза поднял меня на вопросы, но я, точно с неба свалившись, сказала что-то, вероятно, очень несуразное, потому что он с удивлением взглянул на меня и больше уже не трогал. Потом несколько раз, чувствуя, что кто-то смотрит, я бессознательно поднимала глаза и встречалась с его взглядом.
На уроке Андрея Карловича я окончательно вышла из собственных берегов, задумалась так, что ничего не слышу.
– Fräulein Starobelsky! – наконец откуда-то, издали доносится до меня.
Я поворачиваюсь.
– Fräulein Starobelsky! Aber wo sind sie?[132]132
Фрейлейн Старобельская! Где вы? (нем)
[Закрыть] – улыбаясь, спрашивает он, а лицо у самого такое хорошее, ласковое.
От этого доброго голоса, от теплого сочувствия, звучащего в нем, мне неудержимо хочется плакать. Слезы подступают к самому горлу. А добрые, круглые глаза внимательно следят за мной сквозь толстые стекла очков; вдруг, словно вспомнив что-то, Андрей Карлович деловым тоном обращается ко мне:
– Fräulein Starobelsky, будьте так любезны спуститься вниз, в канцелярию, я там на столе или на конторке, или, может быть, на этажерке между книгами забыл свою записную книжечку. Пожалуйста, поищите, а то мне стольких сегодня спросить нужно… Уж вы извините.
Милый, добрый человек! Я убеждена, что он никакой книжечки не забывал, а просто хочет дать мне возможность прийти в себя. Добрая душа!.. Не торопясь, напившись предварительно воды, спускаюсь я вниз, обшариваю всю канцелярию – конечно, ничего. Возвращаюсь с пустыми руками.
– Ach, mein Gott! Извините, пожалуйста, она у меня тут, в кармане, а я вас беспокою. Ох, что значит старость, все забывать начинаю.
Это он-то? Который чуть не наизусть знает отметки учениц всех классов и никогда ничего не забывает.
– Муся, родная, что с тобой? – заботливо обнимает меня Вера. – Скажи, может быть, я чем-нибудь могу тебе помочь?
Одну минуту мне хочется все, все рассказать ей, ей одной, она поймет; но нет, не могу, больно.
– Не спрашивай, Вера, потом, когда-нибудь.
То же самое отвечаю я и мамочке, которая не на шутку встревожена.
– Ты была такая веселая вчера… – недоумевает она. – Здорова ли хоть ты?
– Да, мамусенька, не беспокойся, только мне говорить не хочется.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































