Текст книги "Безмятежные годы (сборник)"
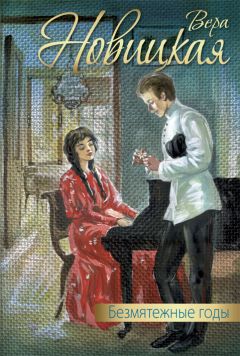
Автор книги: Вера Новицкая
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава XVII
У тети Лидуши. – Володина компания
В субботу вечером я упросила мамусю отвезти меня к тете Лидуше, я уж сто лет у нее не была. Папочка с мамочкой хитрые – частенько туда «винтить» отправляются, а меня, небось, не берут. До винта-то я, положим, охотница небольшая – очень надо себе голову сушить! И смотреть-то жаль на этих несчастных винтеров: думают-думают, трут себе лбы, точно мозги массажируют. (Как будто не так говорят? Ну да ладно, сойдет!) И что за удовольствие? Ну, а пойти у тети Лидуши на все посмотреть, все перетрогать – вот до этого я охотница страшная. Мамуся-то не очень одобряет, когда я в ее комнате хозяйничаю, но тетя Ли-душа все позволяет.
А квартирка у нее как игрушечка, веселая, уютная, маленькая, – страшно люблю маленькие комнатки!
Вот мы с мамочкой пошли туда и Ральфика прихватили, – ведь он им тоже немножко родственник, потому – не будь Леонида Георгиевича, так и он бы на свет не явился, то есть явиться-то, пожалуй, явился бы, но не был бы членом нашей семьи. Значит, Л. Г. ему вроде крестненького или приемного папаши. Вот и надо в нем «родственные чувства поддерживать» (это любимое выражение тети Лидуши).
Нам, конечно, были очень рады, и тетя сейчас же снарядила Леонида Георгиевича за меренгами и виноградом, которые я страшно люблю. Кондитерская у них под боком, фруктовый магазин тоже – на чудненьком месте квартира! – так что он мигом туда слетал.
Уселись мы рядком вокруг Selbstkocher’a и беседовали. Уютно так, хорошо! Тут и одного интересного-преинтересного вопроса коснулись: дело в том, что в пятницу мое рождение – событие немалой важности, а они, видно, не знают, что мне подарить. Вот хитрецы, ловко так выспрашивают! Я тоже ловко так, будто ничегосеньки не понимаю, стала им объяснять, что у нас в гимназии у всякой девочки альбом для стихов есть, куда и ученицы, и учительницы что-нибудь пишут, а у меня, мол, нет. Поняли, преотлично поняли, многозначительно так переглянулись. Будет альбом!
А меренги какие дивные были, пальчики оближешь! Даже Ральф себе лапу облизал – правда! Дома у нас мой черномазик за чаем всегда на отдельном стуле около меня восседает, ну, и тут затребовал, не успокоился, пока его к столу не пододвинули. Ем я, а он умильно так на крем смотрит, голову скривил, глаза скосил, почмокивает и облизывается, а передними лапами на стуле перебирает и даже немного подвизгивает от нетерпения. Он в этом отношении совсем в меня: крем, шоколад и ореховую халву обожает. Ну, как отказать? Дала ему большой кусок с кремом, да он, дурень, половину себе на лапу и уронил. Ничего, чистенько потом вылизал.
Попили мы, поели, поболтали да в половине десятого уже и дома были.
В воскресенье я утром раненько уроки выучила, потому что днем должны были прийти Люба и Володя, а он нас снять обещал, – до сих пор все еще не приходилось.
Прилетел, как всегда, веселый, сияющий, только около левого глаза здоровеннейший синяк, или скорее даже «желтяк», с лиловыми разводами, – последний крик моды такое сочетание цветов, как он уверяет.
– Это, – говорю, – кто ж тебя так благословил?
– Пострадал, Мурка, невинно пострадал из-за хлеба насущного, во время избиения младенцев.
– Что еще за избиение?
– А, видишь ли, у нас такой устав военный существует, чтобы новичкам, значит, горбушек и не нюхать, – это, мол, только для старослужащих.
– Что ты там еще врешь?
– Ел боб, не вру!
– Что это за «ел боб» такой?
– А это, видишь ли, потому, что божиться грешно. Нельзя, говорят, Бога всуе поминать. Ну, а «ел боб» сказать – какой же грех? А все равно клятва: соврать, значит, не моги.
– Ну, ладно, а синяк-то все-таки откуда?
– Говорю, невинно пострадал. Прихожу вчера в столовую, а на моем приборе горбушка лежит, пузыристая такая, как губка, не от нижней корки – та все одно что подметка, – а верхняя (Володя даже при одном воспоминании облизнулся). И ведь знаю, придут «старики», отымут. Я ее живо цап – да в карман, только откусил, сколько в рот влезло. Не успел еще и разжевать толком, как уж вся гурьба и нахлынула. Они как придут, сейчас первым долгом розыск горбушек. И тут то же самое: «Красногорский, а твой хлеб где?» – кричит самый наш верзила и горлан Дубов. Я и ответить не успел, а он: «А жуешь что? А? Краюхи утаивать? Старших обжуливать? Эй, братцы, вытряхнуть из него горбушку!»
– И вытряхнули?
– Вытряхнули, да еще как! Вот и орденом сим за отличие снабдили, – докончил он, показывая на «последний крик моды».
Весело там у них! Я бы всегда битая ходила, потому горбушки, да еще такие пузыристые, до смерти люблю.
В ожидании Любы мы пошли в мою комнату, то есть Володя пошел, а меня мамочка позвала примерять платье, которое портниха принесла.
Возвращаюсь, смотрю: Володя что-то кончает писать и с шиком расчеркивается. О ужас! Альбом-то Ермолаевой, она дала мне, чтобы я ей что-нибудь на память написала!
– Ты что там царапаешь?
– Да уж очень чувствительные все вещи у этой девицы понаписаны, вот например:
Ручей два древа разделяет,
Но ветви их, сплетясь, растут,
Судьба (ах!!.) два сердца (ох!..) разлучает,
Но мысли их в одном живут…
От горячо любящей тебя подруги Муси Старобелъской.
Володя расхохотался:
– Душедрательно!.. Сногсшибательно! Ел боб, я умилен!.. Мурка, Мурка, неужто ты ничего еще глупее не выдумала?
Вот противный, вот бездушный, смеет смеяться над такими дивными стихами!
Я ему отвечаю одним только словом:
– Дурак!
– Рад стараться, ваше превосходительство!
Даже не рассердился, урод!
– Знаешь, Муська, я так тронут, так умилен, что не мог воздержаться и в порыве восторга тоже написал сей неведомой девице разумный совет, как быть счастливой, слушай:
Когда хочешь быть счастлив,
Тогда кушай чернослив,
И от этого в желудке
Разведутся незабудки.
Писал
Ой-ой-ой
Как избитый герой.
Тмутаракань. 31 февраля 1914 года.
И прибавил:
– Небось, пишете, пишете, а нет чтобы разумный, истинно дружеский совет подруге дать. Коли она этим недовольна будет, уж не знаю, чем ей и угодить.
Вот противный мальчишка! Вот чучело! Но надо ему отдать справедливость, смешное чучело.
Я злюсь, но начинаю хохотать, а за моей спиной тоже кто-то заливается-хохочет. Это Люба незаметно вошла – мы за своими литературными разговорами и звонка не слышали.
– А! – воскликнул Володя, низко раскланиваясь. – Честь имею кланяться.
– Здравствуйте, – говорит Люба.
– А осмелюсь спросить о дражайшем здравии и благоденствии мадемуазель Армяш-де-Терракот? – продолжает он балаганить.
– Здорова и вам кланяется, – отвечает Люба.
– Тронут… двинут… могу сказать, опрокинут, – и, перекувырнувшись ногами кверху, Володя падает на пол.
Тут в дело вмешался Ральфик, примчавшийся, как угорелый, на этот шум. Володькины ноги дрыгали еще в воздухе, когда он, подпрыгнув, ловко вцепился в края его «пьедесталов» и казенному имуществу грозила крутая беда.
Ну, нахохотались мы и надурачились, что называется, вволю, пока не вспомнили про фотографию. Чуть-чуть опять не забыли!
Володя сделал несколько снимков в разных позах: и нас с Любой вдвоем, и с Ральфом втроем, и порознь всех троих. Увидим, удачно ли выйдет. С ними еще что-то нужно делать, проявлять как-то, и то еще не сразу верно получится, а сперва на стекле все будет вверх ногами. Ну, да это глупости, посмотреть все-таки можно: только перевернуть пластинку – и ноги окажутся внизу, а голова там, где ей полагается.
После обеда Володя скоро уехал вместе с дядей Колей, который тоже у нас обедал. Бедный дядя мой что-то притих, кажется, у него на душе кошки скребут. Мамуся говорила, что, быть может, его скоро возьмут на войну, тогда ему придется уехать и оставить Володю одного. Конечно, он не трусит и противных япошек с радостью поколотит, но мамуся говорила, что он страшно огорчен разлукой с Володей. Подумайте только, ведь у бедного дяди умерли жена и его первый старший сын Саша, один только единственный Володя и остался, еще бы душа не болела! Бедный дядюшка! Мне так за него грустно сделалось, что и дурачиться охота пропала. Уселись мы с Любой тихо и чинно в моей комнате на диванчик и стали беседовать.
Люблю я свою комнатку – маленькая, уютная, особенно когда фонарик зажгут: он такой голубовато-зеленый, аквамариновый, и свет от него мягкий, точно лунные лучи, – а вы ведь знаете, как я луну люблю; при ней все точно в сказке, такое таинственное и будто колышется – красиво. А на душе и хорошо, и чуть-чуть жутко!
Уф, устала! Вот расписалась!
Глава XVIII
Новенькая. – Карлик и великан. – Сашин журнал
Сегодня к нам привели, наконец, новенькую. Мы думали, она экзаменоваться будет, да нет, она экзамен уже выдержала раньше, в том городе, где ее папа служил, а как его сюда перевели, ну, и ее в нашу гимназию пристроили, благо вакансия нашлась.
Сидим мы на русском уроке и пишем все ту же несчастную «Малороссию», которую я тогда не знала. Только в этот раз я ее назубок выучила – и говорить, и писать. Так вот, строчим мы, тут вдруг дверь сама собой открывается, точно по волшебству – потому что через стекло выше ручки не видать, чтобы ее кто-нибудь отворял, – распахивается и входит классная дама пятого «А», а с ней новенькая.
Новенькой-то и Бог велел быть ниже ручки, на то она и «седьмушка»[35]35
Седьмушка – ученица седьмого, самого младшего, класса.
[Закрыть]. Ну, а Шарлотте Карловне можно и успеть уже подрасти, так как ей лет пятьдесят, верно, будет – да вот не успела, так коротышечкой и осталась. Ужасно у нее вид потешный: ножки коротенькие – кажется, будто она на коленях ходит, – зато голова и руки ничего себе, почтенные. А голос! По-моему, у нашего швейцара Андрея много приятнее будет, и манеры покрасивее, да и руками он меньше размахивает. Не любят ее в гимназии: злющая-презлющая, во все классы нос сует.
А новенькая – миленькая, фамилия ее Пыльнева, хорошенькая, и вид у нее такой святой.
Пока мы свою «Малороссию» дописывали, Шарлотта Карловна с Женюрочкой пошепталась, сдала ей новенькую, попрыгала-попрыгала перед дверью, уцепилась наконец за ручку и исчезла. Ужасно смешная!
Она немка, ее фамилия Беккер, и все девочки как одна уверяют, что она невеста нашего учителя чистописания Генриха Гансовича Раба, тоже немца. Вот интересно, если бы они поженились! Он высокий-превысокий, ходит в струнку вытянувшись, а на макушке препотешный кок торчит. Под ручку им гулять и думать нельзя, разве «под ножку», потому она ему, верно, чуть-чуть выше колена пришлась бы. Он через нее не то что перескочить, а прямо-таки перешагнуть может.
Написала вот все это, и припомнился мне один наш знакомый, – очень высокого роста, толстый и с такими большими ногами, что галоши его ни дать ни взять маленькие лодки, да при этом еще и страшно близорукий. Вот идет он себе однажды по Невскому, а перед ним дамочка. Вдруг он чувствует: под его ногой что-то хрустнуло. И дамочка как вскрикнет, как начнет его бранить, как начнет плакать! Оказывается, она вела на шнурочке крошечную какой-то очень редкой породы собачоночку, а он-то сослепу не доглядел, и бедная тютинька погибла под «лодкой». Вот ужас! Вдруг и Раб так наступит, и от Шарлотки только мокренькое место останется. Как сказала я это Любе, думала, она умрет со смеху, – хохотала, успокоиться не могла.
Да, а за чистописанием-то мы сегодня как скандалили! Нечего сказать, показали хороший пример новенькой. И всегда-то за этим уроком шалят, а сегодня уж очень расходились.
Евгении Васильевны, по обыкновению, в классе не было. И пошли – кто закусывать, кто апельсины есть. А потом корками стрельбу затеяли. Раб знай себе повторяет:
– Не шлить, сдеть смирн!
Он всегда так потешно говорит, точно отщелкивает каждое слово.
Какой тут «смирн»! Вдруг – бац! – Рабу корка прямо в лысину летит. Скандал! Это Бек хотела в Зернову пустить, потому что та уж больно старательно писала, чуть не на весь класс сопела, язык даже на пол-аршина выставила, – да перемахнула. Вот он разозлился, я его еще никогда таким сердитым и не видывала: покраснел весь, встал и объявил, что в таком классе он не останется больше и пойдет жаловаться классной даме. Мы, конечно, перетрусили, стали его упрашивать, умаливать:
– Генрих Гансович, пожалуйста, никогда больше не будем… Простите… Генрих Гансович, пожалуйста…
А Шурка-то вдруг на весь класс как ляпнет:
– Пожалуйста, простите, Генрих Гусевич…
Это вместо Гансовича-то! Как привыкли мы его так между собой величать, она по ошибке и скажи. Уж не знаю, слышал он или нет, – вернее, что нет, но наконец смягчился, простил и остался в классе. Он ведь добрый, славный, вот потому-то мы так и дурачимся.
Только я вернулась из гимназии, кончила переодеваться и собиралась идти свои противнейшие гаммы барабанить (и кто только эту гадость выдумал?), слышу: звонок! Ну, мало ли кто звонит, мне что задело? Но, оказывается, дело-то мне было. Входит Глаша и дает мне какую-то обгрызенную, вкривь и вкось сшитую маленькую синюю тетрадочку, такого вот роста, как если обыкновенную тетрадь вчетверо сложить.
– Это, – говорит, – барышня, Снежинский маленький барчук сверху принес, сунул мне в руку, вам, значит, велел передать, а сам со всех ног бежать.
Открываю. Тетрадочка маленькая, зато буквы в ней очень большие и кривые… Бумага хоть и линованная, но строчек там точно никогда и не существовало: буквы себе с горы на гору так и перекатываются. Читаю:
«ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
посвящается Мусе от Саши Снежина.
Отдел политики и литературы.
Милая моя брюнетка,
Умница моя,
Сладкая конфетка,
Я люблю тебя».
Первые буквы в строчках черно-черно написаны, и раз по пяти каждая подчеркнута, так что и слепой увидит, что, если читать сверху вниз, выйдет «Муся». Что ж, молодец, правда хорошо?
Потом дальше:
«ЛЮБОВЬ ИНДЕЙЦА ЧИМ– ЧУМ Роман.
Сочинение Саши Снежина.
Было очень жарко, и индеец Чим– Чум хотел пить, и тогда он стал собирать землянику в дремучем лесу около Сахары, где рычали тигры и ефраты, и тогда он видит: кто-то идет, – и он зарядил свой лук и хотел выстрелить, но он увидел, что идет дивной красоты индейка Пампуся.
– Милая Пампуся, – говорит Чим– Чум, – я страшно люблю тебя, женись на мне.
– Хорошо, – говорит индейка, – я женюсь на тебе, если ты меня любишь; но если ты меня любишь, то подари мне золотой браслет, который на ноге у нашей царицы Пул-Пу-Люли.
– Хорошо, – говорит Чим– Чум, – подарю, – и индеец пошел к Пуль-Пу-Люле, а индейка Пампуся раскрыла свой зонтик и села на спинку ручного тигра, и тигр ее повез прямо на квартиру, где жил ее папа Трипрунгам.
(Продолжение в следующем №)»
Ведь, право, не слишком уже плохо? Только вот почему это Ефрат рычать стал и потом все «и» да «и», даже читать трудно. Не очень у него хороший дар слова. Насчет «ятей»[36]36
Я т ь – буква старого русского алфавита, писалась в некоторых словах вместо буквы «е».
[Закрыть] тоже прихрамывает, кажется, Саша их не признает, «яти» сами по себе, а он сам по себе. Ничего, еще успеет выучиться, ведь ему еще неполных девять лет.
Меня удивляет мамуся. Что же она, забыла, что ли, что ее единая-единственная дочь должна в пятницу родиться и что ей исполнится ровнехонько десять лет? Никаких приготовлений – ничего. Ни пакетов не приносят, ни спрашивают меня так, знаете, обиняками, чего бы я хотела, – ничего. Странно. Забыть, конечно, не забыли, но что же? Что??
Глава XIX
Мое рождение. – Подарки. – Как Пыльнева переводит
Вот и настало и прошло 20 декабря – день моего рождения. Пришелся он на пятницу, на будний учебный день, и я этому очень рада.
Разбудили меня, как всегда, раненько. Я живо-живо встала – и бегом в столовую. А там уж мамуся сидит в своем красном с белыми звездочками капотике[37]37
Капот – домашнее женское платье свободного покроя.
[Закрыть], который я страшно люблю и называю «мухомориком». Обыкновенно, уходя в гимназию, я бегу целовать мамочку, когда она еще свернувшись калачиком в своей постели лежит, потому что рано вставать она ой-ой как не любит. В этом отношении она тоже вся в меня. Тут же, смотрю, поднялась и сидит за самоваром, а посреди стола, по положению, громадный крендель с моими буквами. Крендель-то кренделем, все это прекрасно, а еще-то что?
– Уж не знаю, Муся, будешь ли ты довольна нашим с папой подарком, пожалуй, не угодили. В прошлом году ты этого очень хотела, да я позволить не могла, а в этом, может, уж пыл-то у тебя и поостыл, – говорит мамуся, а вид у нее хитренький, глаза так и смеются. Ужасно я ее такой люблю!
– Уж извини, – говорит, – если не понравится. Вот посмотри.
А в столовой на качалке лежит что-то, даже видно несколько этих «чего-то», и прикрыто маленькой скатертью. Мне почему-то и невдомек было взглянуть туда.
Сперва хватаю сверток, который поверх скатерти. Что-то тяжелое, холодное… Коньки!.. Уж не снимаю, а сдираю скатерть, а там целый костюм для катания на коньках! Весь серенький и отделан сереньким же мехом, таким, знаете, что будто снегом посыпан, – шиншилла называется. И муфта такая же, и шляпа, немножко сумасшедшего фасона, назад, и отделанная голубым.
Нет, вы не можете, не можете понять, до какой степени я обрадовалась!.. Всю прошлую зиму я просила-упрашивала мамусю позволить мне учиться на коньках, – ни за что. А уж я вам говорила: мамочка как упрется, ни в жисть не уступит. Правда, что она никогда так, зря, не упрямится, этот раз тоже причина была: в начале прошлой зимы у меня был сильный бронхит, ну, вот она и боялась, чтобы я на льду опять не простудилась. В этом году я уже и не пробовала просить, думала, все равно не позволят, а мамуся-то, умница, сама вспомнила. А еще хитрит: «может, не угодила». Дуся, милая, золото мое!
Вообще она хитрющая, с костюмом тоже как ловко устроилась. Примеряла мне портниха темно-синее платье, что мне шили, и говорит:
– Барышня, будьте такая добрая, померьте вот эту подкладку юбочки и жакетки, а то девочка-то эта больна теперь, сама не может, а вы ей как раз под рост подойдете.
Ну, я, понятно, померила, хоть и терпеть этого не могу. А оно вон кто, изволите ли видеть, «больной девочкой» оказался. Ловко!
У нас в гимназии полагается в день своих именин весь класс, всех классных дам и учительниц конфетами угощать. Вот я папочку и попросила, потому что покупка фруктов и сластей у нас в доме в его ведении.
– Только, – говорю, – чтобы мало не было.
Он и постарался, целых четыре фунта купил. Папуся мой тоже молодчинище!
В этот день в гимназии весело-превесело было. Многие – вся наша компания – знали, что мое рождение, не без того, чтобы и другим сказать. А остальные, как увидели, что я тащу коробищу с конфетами, – несла я ее конечно в руках, отдельно, потому как где ж ее в ранец-то упихать? – и смекнули, в чем дело. Таня Грачева да Рожнова – есть у нас такая, одной с Грачевой породы – ужасно со мной сразу ласковы сделались, на них всегда нежность нападает ко всем именинницам, то есть к их коробкам, они все около них так и крутятся. Ну, и меня удостоили.
Поздравляли, целовали меня почти все, в том числе и Евгения Васильевна так ласково-ласково меня обняла. Славная она, милюсенькая.
Люба поздравила меня, но сказала, что в три часа еще раз это сделает, когда придет к нам вместе со своей матерью.
Я и без причины готова была целый день хохотать, так мне весело было, а тут еще наша новенькая Пыльнева за французским уроком до смерти меня насмешила. Задано нам было по учебнику переводить кусочек с русского на французский и с французского на русский. В первую голову вызывают Пыльневу. Она встает и громко, быстро-быстро, отчетливо так, без передышки начинает:
– Combien de pages а се cahier?[38]38
Сколько страниц в тетради? (франц.)
[Закрыть] Сколько кур у соседа? Void un coq et une poule [39]39
Вот петух и курица (франц.).
[Закрыть]. Вот обезьяна и попугай. Се chien jaune est malade[40]40
Эта желтая собака больна (франц.).
[Закрыть]. Мой дядя охотник. La tante appelle le chat[41]41
Тетя зовет кошку (франц.).
[Закрыть]. Вот желтое насекомое…
Так одним залпом все это у нее и вылетело.
– Постойте, погодите, это что такое? – перебивает ее Надежда Аркадьевна.
Евгения Васильевна смотрит и смеется, мы с Любой кончаемся от хохоту, положив головы на парты. Шурка взвизгивает на весь класс, она уж засунула себе в рот полплатка, но все-таки не может удержаться. Все – даже Леонова и Зернова – все смеются. Одна Пыльнева ничего не понимает, стоит бедная, красная-красная, и глаза полные слез.
– Ну-ка, переведите еще раз, да не торопитесь так, – говорит ей Надежда Аркадьевна.
Та начинает совсем медленно:
– Combien de pages а се cahier?[42]42
Сколько страниц в тетради? (франц.)
[Закрыть] Сколько кур у соседа?
Опять всеобщий визг.
Крупные слезы начинают капать из глаз Пыльневой.
– Я не знаю отчего… все… смеются… я по книжке… верно все…
Наконец дело разъясняется. В той гимназии, куда Пыльнева поступила раньше, французский язык не обязательно было учить, она ни слова и не знает, только читать и писать умеет, да и то неважно, а понимать ничего ж не понимает. В учебнике же страничка разделена пополам, налево – то, что с русского на французский, а направо – с французского на русский. Она же думала, что одно – перевод другого, ну и выдолбила, добросовестно все наизусть выдолбила.
Завтракать нам с Любой не пришлось, мне – потому что хлопот много было, а ей – за компанию. Как только зазвонили на большую перемену, я сейчас руки в парту, а коробка, конечно, уже развязанная стоит. Только Надежда Аркадьевна встала, я ей и поднесла. Ну, она, конечно, осведомилась, почему я угощаю, поздравила и взяла две шоколадные бомбы.
Потом я понеслась Женюрочке предлагать. Та церемонилась, одну несчастную тянучечку вытащила, но я ее стала упрашивать и чуть не силой заставила еще три хороших конфетки взять. Она вся розовая-розовая – конфузится, а я ведь знаю, что она сладкое страшно любит, потому что всегда что-нибудь сосет или грызет, раза два и мне даже преподнесла.
После нее стала класс угощать. Все берут как берут, а Татьянушка с Рожновой как приналегли!.. Ну, думаю, все до дна выберут. Нет, Бог милостив, еще кое-что осталось. Потом полетели мы сперва в нашем коридоре всех угощать, то есть учительниц, конечно, – на всю гимназию где же конфет напастись? Только некоторым моим любимцам перепало. А затем галопом в средний коридор: ведь самые-то мои душки – Юлия Григорьевна и Линдочка – там всегда, потому Юлия Григорьевна не только уроки рисования дает, но еще и классной дамой во втором «А». Примчались, смотрим – как всегда под ручку гуляют; мы к ним.
– А, – говорит Юлия Григорьевна, – вот и тараканчик наш бежит.
А Линдочка только смеется, глаза прищурила, мордочка острая – ни дать ни взять котенок. Милая! Ну, я им коробку.
– Это на каком же основании тараканчик пир на весь мир задает? – спрашивает Юлия Григорьевна. – Именин Марии как будто 20-го декабря не бывало.
Я объяснила им.
– Значит, – опять говорит Юлия Григорьевна, – тараканчику нашему сегодня целых десять лет исполнилось. Возраст почтенный, особенно для таракана. Ну поздравляю, Муся, желаю всего хорошего и того… Немного успеха по рисованию, а то очень уж там виды удручающие попадаются.
И крепко-крепко она меня поцеловала.
– И я вас от души поздравляю, – говорит мадемуазель Линде. – Дай Бог, чтобы вы навсегда сохранили такое же доброе чуткое сердечко, – взяла мою голову двумя руками и поцеловала меня в лоб.
Милые! Славные! Дуси! Какая же я счастливая, что меня все так любят!
Когда я пришла домой, застала тетю Лидушу с Леонидом Георгиевичем, письмо от бабушки и поздравительную карточку от Володи (потом скажу какую).
Тетя Лидуша от себя подарила мне брелок – кошечку с чудесными желтыми глазами, а Леонид Георгиевич альбом для стихов. (Что я говорила! Je connais bien mon monde![43]43
Я-то знаю своих родственников! (франц.)
[Закрыть]) Красивый альбом, чудо, такой большой, серо-зеленый, и на нем ветка розовых, совсем светло-светло-розовых и белых гиацинтов, а листки альбома все разноцветные и почти на каждом какой-нибудь дивный цветок. Прелесть, как красиво!
– Да ты, Муся, полюбопытствуй, в середину-то повнимательнее загляни, да и сначала перелистай, а то ты, по обыкновению, с конца смотришь.
Гляжу, а на второй странице что-то карандашом нарисовано. Вот насмешник противный! Все-то он помнит и потом всю жизнь проходу не дает!
На листе нарисована я своей собственной персоной, а рядом со мной мой милый ушастик Ральф. Я сижу за столом и, высунув кончик языка, скривив голову набок (сколько уже мне за это доставалось и от мамуси, и от Барбоса!), пишу, а Ральф (задние лапы на кончике стула, передние – на столе) старательно треплет книгу. И ведь правда, это было, так он всего моего Евтушевско-го[44]44
Имеется в виду «Сборник арифметических задач» В. А. Евтушевского, по которому до революции обучали математике.
[Закрыть] и сжевал, пришлось нового покупать. И откуда только этот новоиспеченный дядюшка всякие такие штуки разузнает? Неужели это мамуся такая предательница?
Петр Ильич, тот ведь без конфет в дом, кажется, и войти не умеет, а тут еще случай такой хороший – рождение. Вот и притащил он громадную круглую коробку, а на ней сверху сидит на задних лапах заяц, да такой милюсенький. Роста как всамделишные маленькие зайцы бывают, сидит, головушку свою милую на сторону своротил и грызет морковку. Ну, как не поцеловать Петра Ильича за это? И поцеловала.
Пока я благодарила да целовала всех, пришли дядя Коля и мадам Снежина с Любой. Дядя Коля принес мне тоненькое золотое колечко, по которому бегает прехорошенькая серая мышка.
– Получай, котенок, – говорит, – «нашей кошке Муське мышку на забаву».
И где он только раздобыл такую славную штуку? Я никогда еще подобной не видела.
Люба подарила мне две дивные розовые вазочки, знаете, такого цвета, как светлый кисель с молоком, а сверху на них веточки красной смородины, из стекла, конечно, но так хорошо сделано, так аппетитно, что съесть хочется.
Вся эта публика сидела недолго, попила шоколаду, чаю, поела всяких вкусностей и разбрелась по домам. В этот день по-настоящему праздновать не могли – будни и все заняты. Потому решили отложить на 25-е, тогда и елку, и мое рождение сразу отпразднуем. Немножко это мне невыгодно… Впрочем, нет, ведь подарки я полностью за 20-е получила, авось и 25-го меня не обделят.
А знаете, какую карточку кузен-то мой (ах, вот хорошее слово для «нашего» немецкого языка – cousin – die JVT&ke[45]45
Французское слово cousin имеет два значения: «кузен» и «комар». Муся переводит слово комар на немецкий язык – die MYcke.
[Закрыть]), так вот самый этот MYcke мне прислал? Сидит в шикарной гостиной обезьяна, в платье dftcolletif[46]46
Декольте (франц.).
[Закрыть]), manches courtes[47]47
С короткими рукавами (франц.).
[Закрыть], в нарядных туфельках, с веером, а перед ней с моноклем, во фраке, в белом жилете, с коробкой конфет под мышкой и с торчащим из-под фрака кончиком хвоста – кот, толстый, жирный кот, и почтительно так мартышке к ручке прикладывается.
Ну, уж и семейка у нас, нечего сказать, родственники! Неизвестно, кто самый большой насмешник. Пусть себе, но милые они все премилые, и люблю я их крепко-крепко.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































