Читать книгу "Кадетство. Воспоминания выпускников военных училищ XIX века"
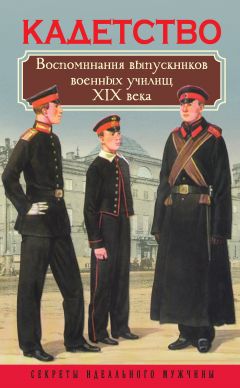
Автор книги: Вероника Богданова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Из воспоминаний
(К. К. Зенденгорст, ок. 1806–1871)
[5]5
Зенденгорст К. Первый кадетский корпус в 1813–1825 гг. Из воспоминаний бывшего воспитанника // Русская старина. 1879. Т. 24. № 2. С. 305–316.
[Закрыть]
…В царствование Александра I военно-учебные заведения находились под покровительством цесаревича, великого князя Константина Павловича как главного начальника Пажеского и всех кадетских корпусов. Отечественная война 1812 года и заграничный поход 1813 и 1814 годов, в которых цесаревич принимал непосредственное участие, отвлекали его от любимых занятий. В 1816 году цесаревич был назначен главнокомандующим польской армией и отправился в Варшаву; бывшие корпуса состояли под непосредственным начальством гг. директоров без всякого над ними контроля.
При вступлении моем в заведение семилетним ребенком в 1813 году директором 1-го кадетского корпуса был генерал-лейтенант <Федор Иванович> Клингер, весьма угрюмый и суровый человек. Не отличаясь «мягкосердием», Клингер был неумолимо строг с кадетами; снисхождение и ласковое обращение с питомцами были чужды его сердцу; дети боялись его. В продолжение девятнадцатилетнего управления корпусом (с 1801 по 1820 год) генералом Клингером не было сделано никаких улучшений ни в нравственном, ни в физическом и ни в учебном воспитании кадет; то было время какой-то безжизненности в корпусе. Кроме того, Клингер, как ученый, занимал почетные должности и по женским учебным заведениям; но, как иностранец, не желал выучиться русскому языку, который не мешало бы ему знать, как директору учебного заведения в России; с кадетами Клингер объяснялся на французском языке, а инспектор классов переводил нам по-русски; отдавая приказание заключить виновного кадета в тюрьму[6]6
В то время место заключения кадет называлось не карцером, а тюрьмой. – Примеч. К. Зенденгорста.
[Закрыть], Клингер говорил: «На турма ево». Вот все, что он мог сказать на русском языке. <…>
Малолетнее отделение, состоявшее в то время при 1-м кадетском корпусе, было разделено на 6 камер, под управлением дам. <…>
В корпусе были тогда открытые галереи, по которым дети должны были проходить из дортуара в столовую, из столовой в классы, из классов в залу. Зимой, в 20 градусов с лишком мороза, прогулки эти по галереям были довольно ощутительны и неприятны, тем более что одежда наша была легкая: суконная куртка с брюками, башмаки и нитяные чулки, голова и шея открытые, о наушниках и перчатках не было и помина; в этом костюме летом жарко, а зимой – холодно. Наши камерные дамы, сопровождая нас по утрам из дортуара в столовую, чтобы подкрепить наши детские силы габерсупом[7]7
Габерсуп – овсяный суп (от нем. Hafer – овес), одно из дежурных блюд в российской армии и на флоте до революции.
[Закрыть], надевали зимой меховой салоп[8]8
Салоп – верхняя женская одежда, широкая длинная накидка с прорезами для рук или с небольшими рукавами, скреплявшаяся лентами или шнурами.
[Закрыть] и теплый капор[9]9
Капор – женский головной убор, представлявший собой высокую шляпную тулью, суживающую к затылку, с лентами, завязывавшимися под подбородком.
[Закрыть], а кадеты в означенном костюме следовали за ними в должном порядке – попарно, маленькие впереди.
Полы были окрашены только в лазарете; в зале и дортуарах были простые и мылись едва ли один раз в неделю. В рекреационной зале был один стул для дежурной дамы, небольшой ларь для наших нянек, и затем положительно – никакой другой мебели.
Всякий может себе представить, что происходило в этой зале при сборе не менее 150 человек детей, которые ходили, бегали и резвились; дежурная дама, по снисхождению к детям, довольно долгое время терпела шум и гам кадет и, наглотавшись пыли досыта, наконец призывала нас садиться, и мы располагались на полу – по-азиатски.
Вместо чаю нам давали поутру тарелку габерсупу с хлебом, а в четыре часа пополудни небольшую булку и стакан невской воды; о прочей пище не буду распространяться, скажу только, что в то время кадеты нередко заболевали скорбутом[10]10
Скорбут (от лат. scorbutus) – цинга.
[Закрыть].
По методе тогдашнего воспитания розги были необходимое и естественное средство для исправления детей в их нравственности. На этом основании наши камерные дамы не упускали случая употребить это материнское наказание, нередко и за маловажные детские шалости. M-me Бертгольд, как директриса, наказывала детей за особые важные проступки – эти экзекуции производились в классах, и после наказания кадет был обязан со слезами на глазах поцеловать руку m-me Бертгольд и поблагодарить ее. Домашние наказания производились собственноручно нашими дамами, как мать наказывает своего непослушного и капризного ребенка-сына; следовательно, об этом знали только наши камерные товарищи, которые не выносили из избы сора, потому что между кадетами была примерная дружба и товарищество, которое не изменялось и не прекращалось вне корпусных стен. Публичное наказание m-me Бертгольд чрезвычайно оскорбляло наше детское самолюбие – оно производилось служителем, состоявшим при отделении.

Форма кадетов XVIII века.
Первый кадетский корпус.
Рисунок
Пробыв шесть лет в малолетнем отделении, я был переведен в роты, в 1819 году в числе пяти кадет удостоился поступить в гренадерскую Его Высочества цесаревича роту[11]11
Кадеты малолетнего отделения при переводе их поступали в резервную роту, но по ходатайству наших камерных дам, для поощрения прочих воспитанников в 1818 и 1819 гг. четырнадцать кадет поступили прямо в гренадерскую роту. – Примеч. К. Зенденгорста.
[Закрыть]. В то время капитаном той роты был Карл Карлович Мердер (впоследствии попечитель ныне благополучно царствующего государя императора <Александра Николаевича>).
По какому случаю рота эта называлась Его Высочества цесаревича? Расскажу, что слышал по этому предмету.
По рассказам стариков-очевидцев, во время посещения императором Павлом Петровичем бывшего Шляхетного кадетского корпуса Его Величество уронил палку или трость (с каким-то умыслом); один из кадет того корпуса подбежал тотчас и, подняв трость, имел счастье вручить Его Величеству; тогда император Павел Петрович сказал: «Повелеваю этому корпусу именоваться Первым кадетским корпусом, и сыну моему, цесаревичу Константину, – шефом гренадерской роты этого корпуса».
В первый день нашего перевода К. К. Мердер обласкал нас и пригласил к себе, где провели мы несколько часов в кругу его доброго семейства.
Пища в ротах в то время была улучшена: поутру вместо чаю давали кадетам две булки; обед состоял из трех, а ужин – из двух блюд. Одежда была следующая: двубортный мундир с золотым галуном по воротнику и на обшлагах и серые брюки с крагами. Эти солдатские краги из толстой кожи и дурно пригнанные портили ноги кадетам; просидеть в них восемь часов в классах была настоящая мука или пытка, потому что ноги делались от краг как будто налитые свинцом.
В корпусе в то время не было никаких гимнастических упражнений, кадеты делали весьма мало моциона, и вследствие этого несвойственного юношеским летам костюма у многих кадет болели ноги и делались кривыми. У нас в корпусе был тогда кадет Кирхохлан, привезенный из Греции; у него болели ноги до такой степени, что он едва передвигал их; всходить на лестницу и спускаться с нее ему было чрезвычайно трудно, потому что у него не сгибались ноги; ходьба его из дортуара в столовую, в залу, в классы и обратно продолжалась в каждый конец едва ли не более как по десяти или пятнадцати минут, а потому он всегда и всюду опаздывал. Зимой, во время больших морозов, из жалости к нему два сильных кадета брали Кирхохлана под руки и, подняв на воздух, несли его в таком положении ускоренным шагом. Несмотря на такое болезненное состояние ног у Кирхохлана, он носил с прочими кадетами солдатские краги; наконец корпусное начальство сжалилось над ним и только в последнее время пребывания его в корпусе приказало сшить ему серые брюки – без краг; по вышеизложенным обстоятельствам родные Кирхохлана должны были взять его из корпуса. <…>
Инспектором классов Первого корпуса был генерал-майор Михаил Степанович Перский <…>. Ласковое обращение с воспитанниками, неусыпные труды и заботы об умственном нашем образовании приобрели М. С. Перскому всеобщее уважение и искреннюю признательность кадет. <…>
Считаю нелишним также упомянуть здесь о бывшем старшем докторе, статском советнике Зеленском, и передать его странности, происходившие будто бы вследствие душевной его скорби о потере нежно любимой им жены.
Доктор Зеленский, делая визитацию по лазарету, если замечал, что некоторые из больных, желая остаться лишний день в лазарете, выказывали ему жалкую и страдальческую физиономию, он озадачивал тех кадет следующими словами: «Гримасы не делать и стоять предо мной как пред Иисусом Христом! Бог, Ломоносов и я! Возьму за пульс – все узнаю; о чем думаешь – узнаю!» Такие выходки доктора Зеленского не следовало считать признаком умственного его расстройства (как предполагали другие), но были не что иное, как шутки, употребляемые им с теми кадетами средних классов, которые своим притворством намеревались обмануть его. Зеленский был очень добрый человек и любил кадет; когда бывали труднобольные, то он находился в лазарете почти безвыходно, оказывая им всевозможные медицинские пособия, дабы облегчить их страдания; многие из них выздоравливали, обязанные вполне искусству и неусыпному за ними ухаживанию доктора Зеленского.
Теперь я должен говорить о весьма неприятном предмете – о взысканиях, которым подвергали кадет за их проступки; постараюсь, сколько возможным, быть кратким. <…> За важные проступки виновные кадеты были заключаемы в тюрьму на неделю и более (место заключения кадет, как я объяснял выше, не называлось «карцером»). По рассказам кадет, находившихся в заключении, эта тюрьма состояла из небольшой отдельной комнаты, куда проникал слабый свет чрез небольшое окошечко с железной решеткой; в ней находились кровать и стол, прибитые к полу; кровать без соломенника, а вместо подушки были прибиты доски в наклонном положении; с виновного снимали мундир и надевали солдатскую шинель, и он находился на пище св. Антония: на хлебе и воде. Когда оканчивался срок заключения, ротный командир приходил в тюрьму, сопровождаемый четырьмя служителями с пучками розог, и заключенный подвергался жестокому телесному наказанию, всегда тщательно скрываемому от кадет. <…>
Русская пословица говорит: «С одного вола двух шкур не дерут!» – но корпусное начальство ее не придерживалось: за каждый сколько-нибудь важный проступок виновный кадет почти постоянно подвергался двум, а иногда и трем наказаниям.
Кадеты, испытавшие телесное наказание, рассказывали, будто бы розги «вымачивались в воде», чтобы сделать наказание более «чувствительным». Если допустить справедливость таких рассказов, то, по всей вероятности, это делалось без ведома ротных командиров, самими служителями, так как между ними были очень грубые и жестокие люди; исполняя обязанность «палачей» при экзекуциях, они секли кадет без всякой к ним жалости.
Такое жестокое и позорное для благородного юношества телесное наказание, оскорбляя врожденные благородные и возвышенные чувства, озлобляло многих кадет до невероятности, так что при наказании некоторые из них с твердым и истинно рыцарским характером, дабы не кричать и скрыть боль от наказания, или, лучше сказать, чтобы пересилить эту боль, кусали до крови свои пальцы! Это не вымысел, но факт, который я могу объяснить лично и назвать их по фамилии.
В 1819 году генерал-адъютант императора Александра I, граф Петр Петрович Коновницын, был назначен главным директором Пажеского и других кадетских корпусов, Дворянского полка и императорского Царскосельского лицея с принадлежавшим ему пансионом, а в 1820 году генерал Клингер по прошению уволен от звания директора 1-го кадетского корпуса. Вместо его директором 1-го корпуса назначен инспектор классов генерал-майор Перский с оставлением при прежней должности.
С назначением <…> Коновницына в корпусе все переродилось и изменилось к лучшему. <…> Какая-то невидимая сила руководила поступками кадет: мы старались быть благонравными, послушными, и все делалось без приказаний и напоминаний со стороны корпусного начальства; граф Коновницын был в состоянии сделать такой счастливый «переворот» во всех корпусах.
Если посещения графа Коновницына бывали во время сбора кадет в саду или в зале, то всякий спешил навстречу любимому начальнику, а в малолетнем отделении дети окружали графа Коновницына как нежно любимого отца и положительно заграждали ему дорогу; каждый желал удостоиться ласки или услышать приветливое слово от графа. Таковые сцены были довольно продолжительны, так что директор корпуса, сопровождавший графа Коновницына, должен был просить детей дать дорогу пройти графу.
Это счастливое время продолжалось только три года. Летом 1822 года разнеслась в корпусе плачевная весть о смерти графа Коновницына; в то время граф с семейством жил на даче, где последовала его кончина. Отпевание тела графа Коновницына совершалось в церкви 1-го кадетского корпуса, и при выносе гроба многие из бывших кадет пролили непритворные слезы о потере всеми уважаемого начальника и незабвенного воспитателя! <…>
После умершего графа Коновницына главным директором Пажеского и всех кадетских корпусов, а также и Царскосельского лицея назначен генерал-адъютант граф Павел Васильевич Голенищев-Кутузов, родственник князя Смоленского.
Я считаю нелишним передать некоторые сведения о впечатлениях о бывшем наводнении в Петербурге 7 ноября 1824 года.
В тот день, с раннего утра, по случаю чрезвычайно сильного ветра с моря вода в Неве начала прибывать с неимоверной быстротой, так что с 9 часов утра она выступила из берегов, затопив все низменные места в городе и по окрестности. Из первого верхнего класса, расположенного в среднем этаже, против корпусных ворот, где я провел все утро 7 ноября, в отворенную калитку можно было видеть постоянно возраставшую прибыль и быстрое течение воды по улице или 1-й линии Васильевского острова <…>.
По окончании классов в 11-м часу вода ворвалась в корпусный сад и во двор, сорвав все ворота с невероятной силой, вместе с толстыми железными крючьями. Вода бушевала целый день со страшной яростью, разрушая и истребляя до основания все встречающиеся ей на пути сколько-нибудь слабые преграды.
При этом общем бедствии нижний, жилой этаж в Первом корпусе, а также подвалы и кладовые со съестными припасами (частью спасенными) были затоплены водой; по этому случаю наш ужин в тот день состоял из остатков от обеда, но зато было вдоволь хлеба и булок. Впрочем, того же дня вечером мы чрезвычайно обрадовались, увидев из окон, что <…> начал ходить народ с фонарями, по чему можно было заключить, что вода сбыла; с этим радостным чувством кадеты легли спать, но многие из наших бывших товарищей провели ту ночь с душевным беспокойством, вспоминая о своих родных, живших в Галерной <улице> или в других, более низменных частях города, в которых бывшим наводнением произведены весьма значительные, страшные опустошения[12]12
При таких обстоятельствах неудивительно, что на другой же день после наводнения некоторые из кадет по чувству сыновней их любви решались уходить ночью из корпуса, дабы проведать родных и узнать о их положении после наводнения. – Примеч. К. Зенденгорста.
[Закрыть].
В ту зиму кадеты не были увольняемы в домовый отпуск даже на праздники Рождества Христова, в том внимании, что многие из их родных и знакомых по бедности оставались жить в сырых домах, бывших затопленными наводнением, а потому посещение родных в сырых их жилищах могло иметь вредное влияние на здоровье воспитанников. <…> При этом общем бедствии в корпусе, благодаря Бога, не было особенных несчастных случаев, даже все наши верховые лошади были спасены; но по случаю повреждений в манеже и мокрой земли в оном, а затем замерзшей от морозов, кадеты высших классов на долгое время были лишены единственного удовольствия в корпусе – верховой езды.
В 1825 году я удостоился быть представленным в офицеры и высочайшим приказом, состоявшимся в 28 день апреля, произведен в прапорщики с определением на службу в 1-й пионерный (ныне саперный) батальон…
Из воспоминаний
(М. Я. Ольшевский, 1816–1895)
[13]13
Первый кадетский корпус в 1826–1833 гг. // Русская старина. 1886. Т. 49. № 1. С. 63–95.
[Закрыть]
Второго сентября 1826 года, в день, назначенный для приема, матушка повезла меня рано утром в 1-й кадетский корпус и, по предварительно собранным ею сведениям, явилась прямо на квартиру директора, которым был в то время генерал-майор Михаил Степанович Перский. В приемной, указанной швейцаром, находились уже два других отрока со своими родителями или родными, явившимися с той же целью, как и я с матерью. Тут же находились два корпусных офицера и чиновник в вицмундире[14]14
Вицмундир – полупарадная одежда чиновника, укороченный фрак из цветного сукна с гербовыми пуговицами.
[Закрыть]. Один из них, высокий, стройный, красивый, был адъютант директора – капитан <Егор Иванович> Сивербрик. Он, подойдя ко мне, спросил мою фамилию, сколько мне лет, откуда я приехал и где обучался, – и мои ответы записал в находившуюся у него в руках книжку. То же самое повторено было им и с вошедшими вслед за мною другим будущим кадетом.
Недолго пришлось ждать директора. Он вошел в залу в мундире, при шпаге и со шляпой в руке, в какой форме, как оказалось впоследствии, он являлся всегда перед кадетами, обходя классы ежедневно утром и после обеда, посещая лазарет, дортуары, рекреационные и столовые залы. Ни один кадет не видел его в сюртуке или другой одежде. <…>
Подойдя ко мне и поклонившись матери, он обратился к ней с вопросом: «Это, без сомнения, ваш сын?» По получении же утвердительного ответа и по прочтении адъютантом моей фамилии, лет, откуда приехал и где обучался, директор обратился ко мне: «<…> садитесь вот за этот стол, и вас проэкзаменуют».
За указанным большим столом, стоявшим посередине залы, на котором стояло несколько чернильниц и лежали листы бумаги, уже сидели два будущих кадета и втихомолку решали арифметические задачи. Подошедший ко мне офицер сначала продиктовал из истории, а потом предложил несколько вопросов, касающихся продиктованного. Я хотя сообразил, что это относилось до древней истории, потому что речь шла о римлянах и карфагенянах, но не мог понять по сути по той единственной причине, что не обучался истории, как равно был малосведущ и в географии. А потому предложенные мне вопросы остались без ответа, притом, судя по выражению лица офицера, читавшего мое писание, заключить можно было о немалом числе сделанных мной орфографических ошибок. Когда же я взглянул на экзаменатора во время проверки моей арифметической задачи, состоявшей из простых именованных чисел, далее которых мои математические сведения не простирались, то я окончательно убедился в ничтожности моих познаний. Я был совершенно смущен; слезы готовы были брызнуть из глаз, но слова подошедшего ко мне директора, говорившего с матерью и потрепавшего меня по щеке, ободрили меня: «Voyons, mon cher; que vous serez un bon cadet[15]15
Прекрасно, мой милый; вы приняты в кадеты (фр.).
[Закрыть]. По опыту могу сказать, что у вашего сына много хороших начал», – прибавил он, обращаясь к моей матери. <…> Мое переодевание было непродолжительно, и хотя нельзя сказать, что мундир и брюки хорошо сидели, но они меня мало беспокоили. Моими же мучителями с момента облачения моего в кадетскую форму оказались галстух и сапоги. Первый, надетый поверх рубашки, сшитой из довольно толстого холста, давил и тер мне шею; вырезковые же сапоги с дратвенными узлами и гвоздями на каблуках жали и терли мне ноги. Поэтому неудивительно, если по выходе из цейхгауза[16]16
Цейхгауз – помещение для хранения запасов оружия, боеприпасов, обмундирования, снаряжения, продовольствия и проч.
[Закрыть] я со слезами бросился в объятия матери и успокоился только после совета каптенармуса: «Не плачьте, сударь: если кадеты узнают – прохода не дадут, будут смеяться».
И эти слова простого человека сильно подействовали на мое детское воображение и задели мое самолюбие. Эти слова, так сказать, выжгли мои слезы, и я даже не заплакал при прощанье с матушкой, несмотря на то что расстался с нею до субботы. По заведенному в то время порядку свидания с родителями и родственниками в будничные дни не допускались, и кадеты увольнялись из корпуса только по воскресным и праздничным дням, с большой разборчивостью и не иначе как с провожатыми. Исключения делались для фельдфебелей, унтер-офицеров и кадет верхних классов, притом хорошей нравственности. Не увольнялись и такие кадеты, у которых не было в Петербурге родителей и родных, и таких затворников, не видевших Невского, Морской, Летнего сада, было немало. С новичками поступали тоже весьма строго и даже немилосердно; их не увольняли из корпуса до тех пор, пока они, кроме надлежащей выправки, не научались делать повороты и маршировать, а также носить кивер[17]17
Кивер – военный форменный высокий головной убор с плоским верхом, одним или двумя козырьками и подбородочным ремнем.
[Закрыть] и тесак[18]18
Тесак – рубящее или колющее холодное оружие, состоящее из короткого широкого клинка и рукоятки с крестовиной или дужкой.
[Закрыть], дабы могли отдавать честь как следует. <…>
Жизнь кадета прошлого времени, в особенности младшего возраста, уподоблялась автомату, действовавшему по барабану. Барабанный бой заставлял его просыпаться в 6 часов утра и против его желания оставлять, в особенности ежась зимой, свою хотя не мягкую, но теплую постель. Этот же бой укладывал его поневоле в постель в 9 часов вечера. По барабанному бою он нехотя, едва передвигая ногами, отправлялся в классы; по этому же бою стремглав вылетал из класса и сломя голову несся, если была зима, по скользким и занесенным снегом открытым галереям. Барабанный же бой, и притом самый приятный, призывал его в половине первого к обеду, а в восемь часов вечера – к ужину; по такому же бою пелась кадетами молитва, садились они за стол и вставали с молитвой из-за стола. Даже по воскресным и праздничным дням, а также в Великий пост во время говения кадеты собирались и отправлялись в церковь по барабанному бою.
У кадет не было своей собственной воли; они жили и действовали по приказанию и команде своего начальства. А начальства у него, в особенности в неранжированных третьей и второй ротах, было немало. В этих ротах, кроме ротного командира, его помощника, дежурных офицеров, имели право оставлять без сбитня, обеда и ужина, класть на доски, ставить в угол и даже на колени, драть за уши и давать затрещины фельдфебель и отделенный унтер-офицер. Новичкам же и «плаксам» доставалось еще несравненно более от так называемых «старых» кадет, которые старались выказывать над ними своего рода власть и вымещать злобу. Пожалуй, в поступках таких кадет и проявлялась воля, но за то, что они осмеливались своевольничать, наказывались, а иной раз даже очень строго.
К категории «старых» кадет принадлежали лентяи, отъявленные шалуны и коноводы всех побоищ и скандалов. «Старый» кадет носил особый отпечаток и своими манерами, походкой и неряшеством бросался в глаза каждому постороннему наблюдателю. Вот наружный очерк старого кадета: ноги колесом или кривые; куртка и брюки запачканные, а иной раз и разорванные, притом у первой крючки на воротнике и несколько пуговиц по борту не застегнутые, сапоги нечищеные, волосы взъерошенные, руки исцарапанные с грязными ногтями, кулаки сжатые, физиономия мрачная, а иной раз и подбитая, разговор грубо отрывистый, голос басистый.
За исключением гренадерской роты, как долженствовавшей состоять если не из самых прилежных, то нравственных кадет, каждая рота имела своих «старых» кадет, бывших на счету у начальства. Само собой разумеется, что меньшинство «старых» кадет находилось в неранжированной роте; наоборот же, первая рота по преимуществу состояла из таких кадет. Притом громадная разница была между теми и другими. «Старые» кадеты младших рот еще не могли считаться закоснелыми, испорченными отроками; шалости и проступки их не были так грубы и предосудительны, как проступки перворотцев.

Построение кадетов Первого кадетского корпуса.
Фото (конец XIX – начало XX вв.)
«Старые» кадеты младших рот кроме других непозволительных шалостей вступали иногда между собой в ожесточенный одиночный бой или дрались партиями, но не случалось, чтобы при этом они осмеливались оскорблять унтер-офицеров и фельдфебелей, а тем более офицеров. В первой же роте не раз случалось слышать, что такой-то унтер-офицер, подозреваемый в наушничестве, избит до полусмерти, а такой-то дежурный офицер ошикан и обруган, иной раз даже ротному командиру оказывалось непослушание; или распространится молва, что седьмовцы выгнали из класса и едва не прибили учителя. А седьмовцы, или «рогатые» – те же «старые» кадеты первой роты, 18-летние лентяи, 8–10-вершковые верзилы, сидевшие в седьмом верхнем классе, творившие вместо учения разные безобразия и ожидавшие выпуска из корпуса в офицеры если не армейских полков, то гарнизонных батальонов. Прозвище «рогатые» они получили от кадет же, воспитывавшихся в одних с ними стенах и евших одну и ту же кашу, но только выше стоявших по умственным и нравственным качествам. Смысл этого прозвища был тот, «что вы, дескать, братцы, глупы и грубы, как рогатая скотина». <…>
Противоположностью «старому» кадету младших рот был кадет «плакса», слабый телом и духом. Таким кадетом делался тот новичок, который не был в состоянии стойко переносить щипки, пинки, затрещины, кукуньки, ерши и побои товарищей шалунов и распускал нюни. Если же новичок плакал так громко, что своим плачем обращал внимание начальства и что через это трогавшие его шалуны наказывались, а и того хуже, если они наказывались по его жалобе, то такой новичок становился мучеником, не имевшим покоя ни в роте, ни в классах. Его старались подводить на каждом шагу: пачкали ему платье, обрезывали пуговицы на куртке, мяли его кровать, марали и рвали книги и тетради, вместо подсказывания, доведенного до высокой степени искусства, сбивали его в ответах. Случалось, что за такими кадетами оставалось прозвище «плаксы» надолго, при переводе их в другие роты и классы. Случалось, что такие мученики не выдерживали, чахли и умирали или по болезни оставляли корпус. В число таких кадет-мучеников попал вместе со мной поступивший кадет Кудрявцев, через год оставивший по болезни корпус.
Еще более строгому и жестокому кадетскому самосуду подвергались доносчики, ябеды и наушники. Таких кадет, кроме наносимых им зачастую побоев, все чуждались, и никто не говорил с ними как в роте, так и в классах. И такое отчуждение продолжалось не недели и месяцы, а годы; провинившийся получал прощение только по принесении публичного раскаяния и сознания в совершенной им вине.
Может быть, по благодушию и слабости моей комплекции и меня постигла бы та же участь, как Кудрявцева, если бы я на третий день моего кадетства не привел с ловкостью в исполнение наставления <моего соседа по кроватям ефрейтора Полонского, сумевшего передать мне в такое короткое время первоначальные правила>. На моем теле уже было несколько синяков от щипков, правая рука болела от удара, голова трещала от кукуньки, и когда во время утренней перемены затрещина готовилась усилить мою головную боль, я так ловко отпарировал удар моего противника, что он упал, а я, воспользовавшись его падением, нанес ему несколько полновесных ударов кулаками и ногами.
«Надеюсь, что после этого ни ты, никто другой не осмелится меня более трогать», – проговорил я с гордостью победителя.
И действительно, после этого приставания ко мне шалунов сделались реже, и они вели себя осторожнее, после же громогласной пощечины, данной мной в роте одному из таких кадет, я избавился навсегда и от их приставаний.
Что же касается шалостей, в особенности совершаемых «старыми» кадетами, то по моей природе и воспитанию я не мог иметь к ним ни малейшего влечения и сочувствия. Побоище же между десятком таких кадет, случившееся спустя пять-шесть недель по поступлении моем в корпус, до того потрясло мой впечатлительный организм, что я заболел горячкой. Немало горя причинила эта моя болезнь не только моей нежной матери, но и доброму дядьке, просиживавшему целы дни у моей кровати. Они не оставляли бы меня и по ночам, если бы корпусные порядки делать этого не воспрещали. <…> Только на десятые сутки я встал на ноги и был переведен из отдельной комнаты <лазарета> в общие палаты. <…> Здесь, кстати, опишу с некоторой подробностью лазарет, тем более что в первые два года моего пребывания в корпусе мне частенько приходилось побаливать. Но только болезнь моя была всегда действительная, а не притворная, как это делывали зачастую кадеты лентяи, прибегая к разным непозволительным и вредным средствам. Например, сделанные надрезы ножом или царапины гвоздем растравляли до нагноения; производили искусственную рвоту и бледность проглачиванием табачной или просто бумажной с чернилами жвачки; для ускорения биения пульса ударяли локтем о стену, стол и другой твердый предмет. <…>
Кроме обставленной диванами и стульями, а также обвешанной зеркалами и портретами приемной залы, двух небольших комнат для труднобольных, сыпного, глазного и скарлатинного отделений, корпусный лазарет составляли шесть комнат или палат. В них размещались больные не только по роду болезней, но и по возрастам. Лечение больных, уход за ними и содержание их в лазарете были настолько хорошие, что бессовестно было бы требовать лучшего. Кроме прямого надзора за лазаретом со стороны полицмейстера корпуса, неуклонный порядок поддерживался в нем и по причине почти ежедневного посещения больных директором. Немало способствовал этому заботливый, обходительный, добросовестный, знавший свое дело старший доктор <Мартын Дмитриевич> Сольский, пробывший в корпусе весьма долгое время и, если не ошибаюсь, умерший тайным советником и придворным лейб-медиком.
Чистота и порядок в лазарете были образцовые. Паркетный пол блестел как зеркало. На алебастровых стенах не было ни пылинки, а в углах – ни паутинки. Вычищенные и блестевшие лампы и кинкеты[19]19
Кинкеты – масляные лампы особой системы, названные по имени их изобретателя, парижского аптекаря Антуана Кинкета (1745–1803).
[Закрыть] не издавали никакого запаха, потому что масло в них горело хорошее; то же самое можно было сказать и о ночных лампочках. На сальные свечи был остракизм, а где нужно – горели восковые свечи, стеариновых же в то время не знали. Шторы на окнах были из плотной материи, так что, когда они были опущены, то производили приятный для глаз полумрак. Температура надлежащая <…>, воздух чистый, как освежаемый посредством отдушин и частого прокуривания. Кровати хотя были такие же, как в ротах, но тюфяки мягче, и лежали они не на досках, а на холсте; постельное белье было тоньше ротного, притом вместо одной было две подушки. Белье, надеваемое больными кадетами, было также тоньше носимого здоровыми в ротах. Тиковые халаты летом и суконные зимой, а равно башмаки были тоже хорошие, как сшитые из добропорядочного материала. Пища, приготовлявшаяся из свежих и доброкачественных продуктов, была разнообразная. Кроме разнородных супов, куриных котлет, компота, чая с булками и сухарями выздоравливающим давали бифштекс и жареный филе. И все это приготовлялось чисто и вкусно, не то что здоровым в ротах.
Да, пища в ротах не в пример была хуже пищи лазаретной. <…> Однако за это следует винить не эконома[20]20
Эконом – заведующий хозяйством, прежде всего кухней, в закрытых учебных заведениях в России до революции.
[Закрыть] <Андрея Петровича Боброва>, а его помощников и поваров. Бобров же настолько любил кадет, что если бы он имел свои капиталы, то охотно пожертвовал бы таковые на улучшение их пищи. Но известно, что если бы не три тысячи рублей, присланные царем, то не на что было бы его похоронить[21]21
Бобров очень любил кадет, несмотря на то что сам был бездетен, потому что никогда не был женат. Он кормил втихомолку арестованных или оставляемых без обеда, приказывал переменять платье и сапоги рвавшим таковые во время игр и шалостей. Но проявление самой высокой доброты Андрея Петровича высказывалось на кадетах, выпускаемых из корпуса по слабости здоровья или по другим причинам не офицерами, а гражданскими чинами, и которые, не имея родственников, не знали, где преклонить голову и чем питаться. Таким бесприютным воспитанникам до приискания ими места он давал приют у себя на квартире, кормил и содержал их на свой счет. Бобров умер в 1836 г. – Примеч. М. Ольшевского.
[Закрыть].
Ежедневная пища кадета состояла из следующего. Утром фунтовая булка, всегда хорошо выпеченная из белой пшеничной муки, но без всякого прибавления. Только с 1832 года начал даваться сбитень: кружка величиной в стакан в младших и в два стакана в гренадерской и первой ротах. И с каким аппетитом и быстротой выпивался такой взвар из воды, меда, корицы и гвоздики, несмотря на то что иной раз был несладок по малости меда и горек по излишеству пряностей или водянист по малости того и другого. На обед, смотря по времени года, давали щи кислые, ленивые и зеленые или супы перловый, манный, рисовый, гороховый и пюре картофельное с куском говядины; пироги с мясом, капустой, морковью, гречневой и пшенной крупой; разные соусы неизвестных наименований и приготовленные из неопределенных продуктов; жаркого, состоящего, смотря по дешевизне, из куска курицы, гуся или утки, а чаще куска простой говядины. По воскресным и праздничным дням прибавлялось к этому пирожное из заварного или слоеного теста, а также из пышек или хворосту. Немногие же затворники, не увольнявшиеся из корпуса по неимению родных и в великие праздники, сверх обыкновенных кушаньев получали: в Рождество Христово на жаркое тощих индеек и несвежих тетерок; а на Воскресенье Христово – по куску пасхи и кулича, а также по три яйца. Ужин состоял из сухих блюд, по преимуществу же из гречневой, смоленской и пшенной каш, облитых растопленным маслом, и «картофеля в мундирах»[22]22
Под «картофелем в мундирах» на кадетском языке разумелся отварной картофель с кожей. – Примеч. М. Ольшевского.
[Закрыть], при этом на каждого кадета полагалась продолговатая, в виде сосульки, формочка масла. Но это масло редко когда употреблялось по своему назначению, а елось с «тюрей», составляемой по соглашению самими кадетами из вкусного ржаного хлеба и хорошего кваса, даваемого вдоволь в пищу и для питья. Однако не полагайте, чтобы на картофель не обращалось должного внимания, он поедался кадетами с солью также охотно, как и изготовляемая ими самими «тюря».









































