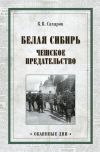Текст книги "Пионер – всем пример"

Автор книги: Виктор Астафьев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Виктор Астафьев
Пионер – всем пример
* * *
Свой первый червонец Антон Антонович Дроздов получил, как он сам выражался по этому поводу, за пререкания с партией.
Служил он в ту пору в Германии, будучи оставленным там в числе наших войск после войны. Командовал ротой, имел звание старшего лейтенанта, на фронт прибыл младшим лейтенантом и долгое время командовал взводом. Уже в звании лейтенанта, являясь замом командира роты, он тихо и плавно перекочевал из кандидатов в члены коммунистической партии. Было это на границе с Польшей, собрание состоялось на лесной поляне, пестрой от цветов, принимали в партию не его одного – целый отряд подкопившихся и созревших для вступления в партию фронтовиков. Говорились разные торжественные и красивые слова-напутствия принимавших в партию, что-то ответное лепетали новоиспеченные члены, они все, как один, тыкались губами в развернутый билет с красными корочками, иначе говоря, по-младенчески трогательно целовали холодный, но бесценный документ.
Исключали его из партии почти все те же люди, что и принимали когда-то, действовали они так же деловито и серьезно, как и при приеме, но уж не отечески – строго и торжественно, зато сурово, как и полагается вершить неприятные, но неизбежные дела.
Ему собирались записать строгий выговор за нарушения в роте, но старший лейтенант отмочил номер так номер – он так же, как и при получении билета, открыл его уже побуревшие от пота и грязи корочки и швырнул, желая угодить в морду замполита полка, который к этой поре посолиднел, потучнел, имел уже звание подполковника и дряблый, словно бы сметаной налитый, подбородок, как-то явственно и вызывающе отделяющийся от остального – загорелого, с багровым оттенком – лица.
Если б старший лейтенант Дроздов обошелся только этим неслыханно дерзким поступком, он бы понес наказание куда более мягкое, щадящее молодую жизнь, но он еще допустил и контрреволюционный словесный выпад:
– Я не хочу состоять в одной партии и служить в одной армии с такими бесчестными людьми, как вы!
«О-о, вот это ты напрасно, парень, напрасно, после этого мне не отмолить тебя и не защитить тебя», – было написано на лице командира полка, старого заслуженного вояки, дорожившего своими офицерами-фронтовиками. Но он сам всю почти войну был под неусыпным контролем партии и ее суровых помощников, обретающихся явно и неявно в полку, в дивизии, в армии, по всему фронту. И все они жаждали отличиться, искали и находили себе постоянную работу на ниве строгой бдительности. Кого-то судили, расстреливали, срывали погоны, сбывали в штрафные роты, кого-то могли и сберечь, покрыть его грешки, пожурить за промашку иль наказать, но так, чтобы наказуемый избывал вину без отрыва от производства, стало быть, от окопов.
Сами судящие, стреляющие своих в чем-либо провинившихся людей иль отсылающие их в штраф-батальоны и роты, разумеется, в окопах не мерзли и не месили ботинками грязи, не кормили вшей и не ходили в штыковую, они были всюду, но неосязаемо, не на виду, такая уж у них секретная, однако, как они считали, непостыдная миссия, может, и не очень благородная, но уж так бог или судьба рассудили: кому-то грязь обувью месить, кому-то выгребать ее из фронтовой толщи руками.
После войны, в особенности в первое время, работы у грязь выгребающих чистыми руками, порядок в армии наводящих прибавилось: надо было останавливать разгул мародерства и бесчинств, творимых расшалившимися вчерашними фронтовиками, точнее сказать, как можно резче поубавить число нарушений армейских приказов и дисциплины, отчитаться так, чтобы все эти проказы выглядели единичными недоразумениями. Ну разумеется, для общего устрашения и опять же отчета о неугасимой деятельности бдящих органов следовало расстрелять на виду у мирных жителей двух-трех преступников, объявить пьянствующим офицерам выговоры по партийной и всякой другой линии, но при всем при этом соблюдать в незапятнанном виде лик героической армии, которая несет не что иное, как мир и свободу народам Европы.
Рота Дроздова была хоть и боевая, но совсем не святая, пьянки и мародерство не обошли ее стороной. Но вот ротному доложили, что на недалеком хуторе его бойцы хором изнасиловали пожилую крестьянку, потом подались в глубь близлежащего городка, где их встретили с ликованием и пригласили в гости на швейную фабрику наши в неволю угнанные девушки. Порезвились хлопцы вволю, опившись, валили на пол всех, винных и невинных, одну девушку, что орала, прикинули матрацем и придушили. Ротный не успел еще отослать докладную командиру полка о бесчинстве, творящемся в его роте (он слышал и знал, не только в его роте), как грянуло новое ЧП, которое скрыть уж никак было невозможно.
Орлы из хозвзвода вынюхали уютную квартиру в центре городка и в ней хозяйку в расцвете женских лет. Она пригласила бойцов в гости, говорила им какие-то любезности, часто поминая слова «Рот фронт». Гости нажрались до потери рассудка и пустили хозяйку по кругу. На беду, в эту пору вернулась домой девочка-подросток и закричала, так ее тоже употребили в дело – не ори! Но на еще большую беду, через ночь домой вернулся освобожденный из концентрационного лагеря хозяин семьи, участник борьбы с гитлеризмом, живой ротфронтовец, известный в Германии антифашист.
Найдя мертвыми жену и дочь, он, навидавшийся страшных картин за войну, не сошел с ума – он, побившись головой о стену и порыдав, бросился в комендатуру, та скоро выявила виновных. Был сотворен показательный суд, на виду горожан ко вкопанному по старинному обычаю столбу привязали старшину хозвзвода, завязали ему глаза и, застрелив, почти трое суток не отвязывали, не хоронили.
«Показуха! – ахнул командир роты. – Опять показуха! И какая расчетливая!»
Тем временем старожилы хозвзвода и попутно еще десяток-другой ненадежного народа были демобилизованы и отправлены на родину. Комроты Дроздов кинулся искать правду, и искал он ее там, где ее отродясь не велось, да и до сих пор нету. Дело кончилось тем, что оказался он перед очьми вельможно себя чувствующего начальника особого отдела, увешанного наградами куда как гуще, чем он, недавний Ванька-взводный.
– Тебе чего надо? – раскуривая душистую заграничную сигарету, воззрился на него особняк.
– Правды. – Помедлив, комроты добавил: – И честности.
– И только-то? – удивленно вскинул брови бравый офицер. – Так вот она, вникай, вкушай, переваривай. – И подвинул к Дроздову подшивку газеты «Правда». – А насчет честности я тебе потом все объясню, потом, потом, когда ты поумнеешь. А пока – свободен. – И многозначительно добавил: – Пока.
Так вот, в борьбе за честность и правду старший лейтенант Дроздов дошел до партсобрания полка, потом и до скорого суда, пощады не знающего.
* * *
Его привезли в родные северные леса, загнали на знакомую с детства работу. Ему шел тридцатый год, от природы он был крепким мужиком, дважды раненный и оба раза легко, окопами и войной его уездить не успели. Он принял как веление судьбы свое присутствие в родных лесах. Он тут многое мог и умел, в отличие от со всех сторон гонимого украинского, узбекского, казахского и другого разношерстного народа.
Не употребляя никаких особых усилий, он скоро заделался бригадиром, имея опыт земляных и ратных дел, все устремления употреблял на то, чтобы в бригаде его не было урона и слишком уж дряхлых доходяг, от которых на тяжелых лесозаготовительных работах толку мало.
Второй срок – полчервонца – Антон Антонович Дроздов получил за пререкания с начальником режима Севлага. Этот был более крут и прямолинеен, нежели военный особист, но из той же породы, что рождена приказывать, распоряжаться, при этом не слушать и не слышать возражений. Старый лагерный волк, потрудившийся на Колыме, на Атке и в других довольно отдаленных местах, заподозрил, что бригада Дроздова работает вполсилы, как бы играючи выполняет и даже перевыполняет задание, при этом отходов в бригаде почти нет, в особенности среди сучкорубов, которыми сплошь был забит лагерный лазарет. Все дело в том, что не державшие топора в руках люди чаще рубили по коленке, чем по сучку. В сучкорубы назначались самые неумелые и неповоротливые работники, таких не жалко: порубятся, сдохнут, сгниют – туда им и дорога.
Но бывший командир роты Дроздов воевал, быть может, и не так лихо, как другие командиры, однако по христианской заповеди и застенчивости души умел жалеть людей и берег их, как мог. От этой навязчивой привычки он не избавился и в лагере. Сбивши бригаду в крепкий кулак, он не давал обирать ее блатарям, насколько возможно охранял покой своих работяг и положенную им пайку. Бригада за стахановский труд иногда получала кое-что в виде клеклой булки хлеба, банки килек в томате иль бутылку постного масла. Все это по велению бригадира большей частью отдавалось более слабым, истощенным на этапах работягам. Случалось, он ходил и на нож уголовников, но главное – с первых дней брал новичков под свою опеку, приставлял их к опытным, все умеющим и все повидавшим работягам. И вот за упорядоченный труд, за дисциплину, за безропотное послушание и поплатился бригадир – это всегда-то и везде при советском режиме вызывало подозрение. Вот если бардак, разброд, лихоимство, разного рода взбрыкивания и героизм людей, рубящих себе пальцы, пластающих пузо до кишок, хищение пайки, поножовщина, драки – тут все в порядке, тут надо воспитывать, наказывать и бдить. А так что ж делать-то? Так дальше дело пойдет, и без работы останешься, ведь это уж вроде как образцовое социалистическое предприятие получается, но не узилище, где провинившиеся перед обществом отбросы перевоспитываются и доводятся до кондиции образцового совтрудящегося.
Первоначальная беседа с бригадиром образцовой лесозаготовительной бригады носила характер почти отеческий, но это Дроздов уже проходил, цену родительских назиданий и напутствий идейного порядка знал. Начальник лагпункта, замполит лагеря и начальник режима того же лагеря скоро поняли, что сквозь броню закаленного, неглупого бойца им не пробиться; тогда грамотей замполит начал заход издалека:
– Говорят, что вы до ухода в армию учились в университете на гуманитарном отделении и слыли там сочинителем?
– Да, я окончил три курса филологического факультета и пробовал писать, к сочинительству меня тянуло с детства, дед был не только крепкий крестьянин, но и отменный сказочник. Он и заронил в меня, так сказать, божественную искру.
– И что же из той искры высеклось?
– Несколько рассказов фантастического уклона, вот пока и все. Рассказы опубликованы в местном альманахе, один – в молодежном московском журнале, их при желании можно найти, чтоб удостовериться.
– Уже нашли. Удостоверились. Многими талантами наградила вас природа, в том числе и в лесном деле, но вот характер у вас ущербен.
Немного помедлив – здесь, как на высокогорье, чтоб не задохнуться, никогда и никуда не следует торопиться:
– В чем же эта ущербность сказалась?
– Ну-у, мы тщательно ознакомились с вашим судебным делом. И это уже немало. Однако вот в работе, на делянах…
– У меня в бригаде не хватает для хорошего отчета увеченных людей, нарушителей режима и дисциплины?
Тут сорвался начальник режима, в течение всей беседы перекатывавший тугие комки желваков по лицу:
– Я вам говорил, что этого делягу сначала надо на три дня в бункер, потом уж на беседу.
– Его бригада крепко спаяна и воспитанна, она сядет на деляне, и никакими псами ее будет не задрать, не заставить работать, а у меня план. И он, как вам известно, горит, – включился в разговор начальник лагпункта.
– И бригаду – в бункер, сразу зашевелится, сразу пилой запилит, топором замахает.
– Ничем она после бункера не замахает, даже прибором мужским махать не сможет, ты же знаешь.
– Ну и что, ради плана, ради кубиков курорт здесь открыть?
– Курорт здесь не откроешь: зимой студено, летом комар. Словом, гражданин заключенный Дроздов, мы ждем от тебя конкретных дел, но не сочинений фантастических, план-задание твоей бригаде на первый случай добавляем на двадцать процентов, ну и, соответственно, дополнительный паек.
«В виде еще одной булки хлеба, миски баланды из гнилой кильки и откуда-то с юга завозимого жмыха подсолнечника, здесь называемого толокном». Однако вслух он сказал отчетливо, по-военному:
– Есть!
И, уходя, увидел еще более окаменелое от давней злой работы лицо и взгляд не нашего, какого-то заморского зверя черной масти, постоянно выслеживающего добычу и беспощадно ее терзающего. «Ты у меня не минуешь бункера», – обещал этот взгляд.
О-о, этот скромно упрятанный в уголке лагерной территории и отдельно огороженный бункерок… Кто в нем побывает, тот уже не поднимется, не воспрянет до облика и состояния человеческого, тот уже сломлен навсегда духом, вконец поврежден здоровьем, случается, и умом.
Еще в конце тридцатых годов Севлаг почти парализовало, прибыли никакой, убыль же настолько велика, что этап за этапом сюда прибывающие как бы заглатывались ненасытной утробой невольничьего пристанища, без могил и без крестов исчезали люди в болотистом лесу.
В лагере царила и правила им блатная орда, постепенно спаявшаяся холодным швом с обслугой и начальством лагеря.
Приезжали комиссии, ужесточался режим, принимались какие-то строгие меры, но уже ничего не действовало, не налаживало, не качало воздухом мехов полуостывшую кузню Севлага.
И тогда была разом снята с места и куда-то, зэки баяли, рассажена по лагерям (но тут они скорее всего принимали желаемое за действительность) вся руководящая камарилья, перетрясена охрана, службы управления. Новый начальник лагеря, опрятный, подтянутый и малоразговорчивый человек, привез с собою какого-то уполномоченного, по званию майор, по фамилии Беспалов, чахоточного вида человека с шелушащимися губами и следами лишая на лице, и еще одного майора, закаленного в боях за справедливость, начальника режима, да еще до десятка чинов поменьше. Из старых руководящих кадров уцелел лишь замполит да еще кое-кто из конторских работников; замполита голой рукой не тронь, у партии есть свои распорядители. Прибытие нового начальства ознаменовалось тем, что в углу старой ограды, с подгнившими столбами и ржавой проволокой, был вырыт котлован, затем прибыла бетономешалка, в бетон, ею мешаемый, засыпалась соль, целый кузов которой был выгружен у новостройки и зорко охранялся.
Как только котлован был закреплен стенами полуметровой толщины и почти метровой толщи полом, он тут же был поверху перекрыт бетонными балками, в бетонном же потолке оставлен был лаз, как в древнем, еще изначальном человеческом жилище, изнутри под потолком во весь обвод, там, где быть бы железным или деревянным угольникам, были протянуты застенчивые трубы парового отопления, сразу сделавшиеся мокрыми, к лазу протянута трубочка с водой и вентилем снаружи.
Чахоточный майор Беспалов начал с блатных, самых-самых отчаянных, самых отважных, никого и ничего не боящихся и не почитающих на этом свете. Они влетали в кабинет к чахоточному орлами, исторгающими не клекот, но изощреннейшую, отработанную на нарах до совершенства матерщину:
– Я тебя в р-ррэт, начальник!
– Куда-куда? – тонким голосом переспрашивал чахоточный майор Беспалов и, откашлявшись в платочек, тем же платочком махал, будто женщина, на прощание: – В кондей на трое суток, счас он для разговору непригоден, вот ковды перевоспитатца, осознат текущий момент, тогды и поговорим.
А то еще рысак горячий и молодой налетел:
– Я, начальник, такой грамотный, что слово «х…й» с мягким знаком пишу.
– А мы вот отсталые, все по старой грамматике пишем ето слово со знаком твердым. – И снова взмах платочком: – В кондей его для постижения словесных наук.
Бо-ольшого ума иль специальной химической подготовки был новый гражданин начальник.
Уже через сутки из бункера, по стенам которого сочилась все пронзающая сырость и проникала – иль пронзала – она не только тело, но и кости человека, раздавался скулящий вой. Создатель этого архитектурного сооружения велел ночью держать крышку люка открытой, чтоб везде, по всему лагерю слышалось сольное пение:
– Гражданин начальник!
– Гражданин начальник!
– Почти што созрел голубчик для трудовых и патриотических подвигов, – заключал полномочный человек, – но ишшо ночку пущай поразмышляет.
Неторопливо, с чувством высокого достоинства и исполненного долга умный воспитатель вышагивал к бункеру, велел приподнять крышку и кричал вниз:
– Ну и как мой университет?
За шкирку, будто кутенка, выволакивали наверх стучащего всеми зубами и костями, закатившего под лоб глаза, смятого, разжульканного; скомканное в комочек тело, еще недавно изрыгавшее остроумные изречения, бросали к ногам гражданина начальника. Подождав, когда это превращенное в нечто отдаленно похожее на человека существо наползало на хромовые, до блеска начищенные сапоги и дрожащими губами принималось тыкаться в них, потому как вымолвить что-либо благодарственное уже не могло, воспитатель, презрительно скривив синие губы, великодушно бросал, тыча худым, костлявым пальцем в раскаянье впавшую жертву:
– В барак эту тварь, накормить горячим и через два дня на общие работы. Теперь он готов героически трудиться на лесоповале.
В течение трех месяцев в Севлаге был наведен идеальный порядок, и чахоточный майор Беспалов отбыл дальше, в глубь гулаговского материка, наводить дисциплину, осуществлять социалистическую законность, перевоспитывать распоясавшихся преступников, напоминать им о том, что находятся они не на курорте, но в местах для содержания и перековки преступников.
Тихо и спокойно стало в Севлаге, начальник колонии поручил своему руководящему воинству разбить зэков на отряды, уж там, в отрядах, пусть сами выбирают бригадиров, с них и главный спрос за работу, за нормы, за дисциплину; если карать, то карать в первую очередь бригадира, дежурных по бараку, ответственных за колпит, за соблюдение режима. Это уж было поле деятельности начальника, ведающего режимом, не дай бог стать поперек его пути, в чем-то перечить, он не для того был рожден и дослужился до звания майора, чтобы терпеть какие-либо вольности.
– Ну, ребята, если не хотите, чтобы я попал в бункер и вы следом за мною, напрягите усилие, никаких вольностей, никакой болтовни, – объявил лесорубам бригадир.
* * *
Однако не всякое усилие, даже сверхнапряжение, могло подняться выше каких-то пределов. Выполняли нормы на сто пять, на сто десять процентов. Как нарочно, в середине зимы залютовали морозы, совсем не случайно угодила бригаде Дроздова лесосека на краю парящего в отдалении лешачьего болота, с мелколесьем, множеством сухостойника и густого чернолесья, из которого по глубокому снегу выпутывать долготье все равно что щуку из невода. Слабели, падали, кашлем исходили, но зиму все ж таки перевалили бы и все злосчастья превозмогли, да начальник режима был всегда начеку и с помощью сексотов подловил Дроздова на крестинах.
Велся среди этого обездоленного, горем-злосчастьем угнетенного народа попик Никодимка. Тайный попик с тайными обязанностями, главной из которых было крестить некрещеных рабов божьих. А вокруг были рабы, только рабы, и почти сплошь они припадали к стопам божьим, потому как больше им не к кому и не к чему было припасть.
Научились же в Стране Советов жить граждане Страны Советов, более никто, никакой народ не сумел бы выжить при том режиме, который сами же совтрудящиеся и создали, но они вот живут и даже радуются – по праздникам. И на окраинах этой огромной страны, саму себя погрузившей в безумие, научились маленько жить и даже выживать самые гонимые, самые отверженные люди.
Поп Никодимка получил свои полчервонца просто за то, что он поп и более чем попом не желал быть. Для избавления от поповской блажи и от напасти церковного дурмана он и попал в лесорубы. Служил Никодимка в бедном из бедных околочухонских приходов, ему самому приходилось добывать себе пропитание и грево. Он умел испечь хлебы хоть с лебедой, хоть с корою, сварить похлебку почти что из топора, картошку в землю закапывал и из земли выкапывал сам, весною пилил царские дрова из ольхи, ставил их в поленницы, осенью вязанкой волок сухие, звонкие, что кость, дрова на отапливание храма во дни службы и своего жилья – бревенчатого пристроя на задах деревянной, веселыми людьми срубленной церквушки, крытой осиновою крышей, пластины которой, однако, были в форме дубового листа, имеющего свойство в жару сохранять прохладу, в холода – легкое тепло.
Храмик сей был на десяток, не менее, северных деревушек и уцелел по недогляду властей, Никодимка ж уверял мирян – по божию велению. Ему и верили, более никому, и давно уж. Молодая поповна, было прибившаяся к Никодимушке, вынуждена была, однако, от бесхлебья, по его же смиренному совету, возвратиться к родителям. Как наступило охлаждение от войны и зачался уклон на наведение порядка в стране и душах людей, к маленькому храму были насланы молодые многоумные отроки из обкома комсомола; вместе с много знающими ревнителями старины сочли они нужным сделать уютный деревенский храм этнографическим музеем, иконы из него и прочую древнюю утварь свезть на реставрацию.
Никодимка восстал, говорил, что в храм этот божий переступят только чрез его многогрешное тело, собранные божьи лики с пятнадцатого и семнадцатого веков он будет отбивать с топором в руках. За дерзостный вызов, за неколебимое упрямство, за сопротивление представителям властей Никодимке присудили пять лет, хотя сулились дать все десять, однако учли его патриотическое поведение в годы войны, когда он, голодуя и холодуя, нес каждую святую копейку, добытую в храме, на оборону Родины, такожде и за неразумность, выразившуюся в угрозе всех посечь и вместе с собою спалить свой богоспасаемый храм.
Имущество, какое было в скудном обиталище Никодимки, но главное, одеяние все его, не представлявшие никакого материального интереса, и церковный мелкий хлам: медные кресты, какие-то кисточки, пояски, ризы, подрясник, смолу в коробочке, называемую ладаном, масло в пузырьке, именуемое елеем, и прочая, и прочая – молодыми борцами за правое дело, за окончательную победу полного безбожия в стране и очищение от церковного смрада в небесах и повсюду – имущество то было побросано на снег. Христиане его, Никодимкиного, прихода все это добро пособирали в котомку, излаженную из холщового мешка, на подводу, под зад своему любимому пастырю, отныне блаженному человеку, сунули.
Попик безболезненно прошел на этапах все обыски и шмоны, его хлам, церковное имущество, уверен был Никодимка, хранил сам господь, как верил он и в то, что никакие врази земные не сокрушат в душе его небесной благодати, он еще вернется в свой бедный храм и послужит в нем во славу господа. На шмонах, тряхнув его котомку, безбожные держиморды спрашивали: «Эт чё?» – «Хламида». – «А в пузырьке не спирт?» – «Елейное масло». – «Картошку на ем можно жарить?» – «Подгорит». – «А смола? Наркотик?» – «Смолой этой, под названием ладан, доставленной из земли обетованной, окуряется храм, челяди в утешение, воскуряется и в конце пути упокоенный раб божий». – «Чтоб не вонял, что ли?» – «Чтоб душа его в благодати пребывала и не чувствовала смрада, исторгаемого безбожниками». – «Во придурок!» – следовало заключение, и Никодимка нес дальше свою неразграбленную суму.
В лесосеке худенький, с подростка величиною новоприбывший на общие работы выявил сноровку, с первого же дня потянул норму, и буквально через неделю было доложено бригадиру: новый лесной кадр не простой человек, но человек он божий, из священнослужителей он. Дроздов отвел Никодимку к костру, попросил охранников обойти с собаками объект, сказал Никодимке, кто он и откуда, и попросил его заняться прямым, богом ему назначенным делом.
Ох, как много грешников оказалось в лесу, желающих исповедоваться и креститься!
И пошло, по одному, но выливаясь в поток, зэковское братство обращаться в праведных христиан.
Во глубине деляны на сваленной лесине либо на пеньке пристраивал свои ритуальные предметы попик, из котелка брызгал на раба божия натаянной из снега водой, елейным маслицем крещаемому намазывал крестики на лбу, на руках, на ногах, читал молитвы, какие-то причеты, говорил, как полагается: «Крещается раб божий», а вокруг кипела работа, рушились в снег лесины, звенели пилы, стучали топоры, рычал трелевочный трактор, стрелки, греющиеся подле своего костерка, задобренные, подмазанные, делали вид, что ничего особого в тайге не происходит. Кипит работа до седьмого пота, сам бригадир ворочает стягом хлысты, наваливает их на погрузочную площадку трактора, кому-то дает указания, не повышая голоса, не матерясь, – требы ж святые справляются вблизи, не богохульствуй.
И вот однажды на деляну ворвался отряд автоматчиков, впереди, пар из ноздрей, начальник режима, за ним разъяренный пес рвет поводок из рук вохровца, слюну на снег роняет. Попа ищут, хотят его застать врасплох на месте преступления, если это удастся, тут же затравят собаками.
Но сработала лесная сигнализация, и, когда нашли бывшего попа Никодимку, он уже орудовал сучкорубным топором, да так ловко и ладно, что стеклянные от мороза сучки как бы сами собой отделялись от ствола дерева и лохматой грудой зеленели в сугробе. Начальник с налета обыск учинил, ничего не нашел, наладился было заворачивать гавкающего пса вспять, да зорок же, опытен надзорный страж, задрал на Никодимке бушлат – под ним в ватные брюки заправлен подрясник, и под зэковской ушанкой поповская шапочка, на нитке крест под рубаху спущен. «Что это? Откуда это?» – «Еще из дому, из храма божьего, подрясник поддевается для тепла, на груди – крест божий, человек я глубоко верующий, без креста мне никак не возможно», – кротко отвечал бывший попик.
Начальничек режима был заматерелый фашист, однако привык управляться и истязать послушное стадо; что такое клин, расчленение, окружение – он не ведал. Но в бригадах зэков были большей частью фронтовики, они многому научились в тяжких сражениях с иноземными фашистами. Начальника режима и собаку незаметно оттерли от Никодимки со всех сторон объявившиеся лесорубы, рассекли на части и взяли в круг автоматчиков, почти у каждого зэка на сгибе левой руки топор, правая рука сжимает топорище. Попробуй тронь святого человека, вмиг вся команда будет изрублена на куски. Не те времена, чтобы целые колонны из пулеметов выбивать, непослушные бараки зимою из шлангов водой заливать.
– Убери пса, пес! – внятно сказал бригадир.
Отступил начальник, со скрежетом зубов покинул лесосеку, но все же факт крещения людей без отрыва от производства, покровительство бригадира не остались безнаказанными, их судили по заведенному, пусть и недоказанному преступлению, за саботаж, за нарушение лагерного режима. Слова «бунт», «восстание», «контрреволюция» опасались произносить: как бы не накликать беду.
На всякий случай накинули по пятерке и бригадиру, и хитроумному деляге тайному попику. Обоим им посулен был бункер, но Никодимка ночь напролет простоял перед медным складнем, пристроенным в уголке нар, и бог внял его молитвам.
Начальник Севлага, без пяти минут генерал, вызвал к себе чужеприезжего режимника и вручил ему командировочное удостоверение в Ухталаг, где его соратник по труду майор Беспалов наводил порядок в тамошних лагерях.
– Поезжайте, поезжайте, вы там нужнее, здесь мы как-нибудь и сами управимся, охрана и ее начальник многое почерпнули из вашего богатого опыта.
* * *
Докатилось. Докатилось и до Севлага – совсем недалеко, всего-то за две тыщи километров, вспыхнуло восстание в Воркуте, руководили восставшими бывшие фронтовики; по оперативным сводкам, и в Казахстане, и по Уралу отозвался гром Воркуты. Темная, но праведная сила, накапливаясь многими годами, не могла она не дать знать о себе. И хотя восстания всюду и везде подавлялись жесточайшим образом, с помощью танков (вот зачем их так много навыпускали в Стране Советов), иначе привыкшим повелевать и не встречать сопротивления вохровцам было не справиться с бунтарями, да и перебили вохру поголовно. По Уралу и в Коми рубили руки тем, у кого они чесались и часто пускались в дело.
Вот отчего начальник Севлага на прощание сказал режимнику загадочно:
– Берегите руки.
Бункер был завален на другой же день бульдозером, разрешена была переписка с родными без ограничений, в лагерях появились ларьки с махрой и кое-какими продуктами, охрана сделалась обходительней некуда, тут и замполит нарисовался, предложил Дроздову написать стишки в многотиражку. «Сможешь?» – вежливо спросил. «Н-ну, в пределах районной газеты и газеты «Правда», наверное, смогу». – «Правду» не чепляй, «Правда» Лениным затеяна, и там все на высшей идейной высоте».
Стихи Дроздов написал барабанные, крикливые, поэтому именно их базланили в праздник со сцены лагерного клуба, перепечатали из многотиражки в райгазете, и так вот одухотворенно и незаметно он попал работать в библиотеку, там интеллигентный, высоколобый зэк, забыв, где и почему он находится, взялся пить и склонил к сожительству помощницу из вольнонаемных, за что и был назначен на этап в штрафное отделение. Место, такое важное и теплое, не могло и не должно было пустовать.
* * *
Без особой надсады добил свой срок Антон Антонович Дроздов и, поскольку ехать ему было некуда, решил поселиться на берегу порожистой реки, вытекающей, однако, из глубин и широт местных болот, в деревушке под названием Тяж. Она ему приглянулась еще в те первые послевоенные годы, когда вместе с ордою зэков он шел вперед на север, сбривая с земли ее миллионолетнее богатство – леса. И еще он ведал, знал по судьбам и рассказам братьев по неволе: поезжай хоть куда, везде нынче доля худа. Тут хоть ехать недалече, а еще смолоду засел в его голове стих Кондратия Худякова, немало, знать, повидавшего на своем недолгом веку:
Ты должен сам восстать из праха
И тьмы духовной нищеты.
Ты сам себе палач и плаха,
И правый суд себе – сам ты.
Многие села, многочисленные деревни оставили невольники-лесорубы на оголенной земле, и те, уже начавшие угасать без леса, без его прикрытия и защиты, отмерли, опустели и куда-то подевались. Но вокруг Тяжа темнели колхозные леса, и, хотя в них пускались похозяйничать разные конторы под названием «Кабардалес», «Астраханьлес», «Ростовлес», все же кое-что и осталось от нашествия варваров, за лес возивших в колхоз «Рассвет» корма скоту, вино руководству, когда и семена, когда и маслишко подсолнечное иль рыбную консерву народу.
Тяж устоял. В семи домах его еще шевелились люди, горел электросвет, работала конюшня, мычал телятник и вокруг, хоть на скорую руку, засевались пшеницей, овсом и льном неширокие, худородные поля.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!