Текст книги "Режимный город"
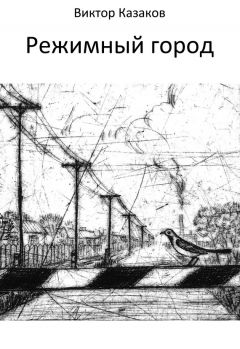
Автор книги: Виктор Казаков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Виктор Казаков
Режимный город
© Виктор Казаков, 2015
© Издательство «Книга-Сефер»
* * *
Глава первая
1
В полночь Михаил пересек небольшой, низкорослый лиственный лес и вышел на большак, к тому месту, где у обочины дороги стоял невысокий столб, а на жестяной выкрашенной в белый цвет табличке, прибитой к столбу, было написано: «г. Клинск». Надпись Савичев прочитал без труда – во-первых, потому, что столб, обозначавший восточную границу города, был ему хорошо знаком с детства; во-вторых, черные буквы на табличке ярко освещала, застыв в чистом небе, огромная полнотелая луна.
Теперь до дома он доберется не позже чем через полчаса…
Сразу же поясним читателю смысл предпринятого нашим героем путешествия, но чтобы была понятной некоторая экстравагантность избранного им маршрута, расскажем сначала об одном важном обстоятельстве.
Клинск располагался в пограничной зоне. И хотя от западной окраины города до маленькой деревеньки, принадлежавшей уже сопредельному государству, было еще километров пятнадцать, приезжать сюда иногородним гражданам разрешалось только по специальным пропускам, которые проверяли пограничники, перегородившие все дороги, ведущие в Клинск, полосатыми шлагбаумами.
Лет десять назад пограничная зона здесь была в пять раз уже (город оставался свободным), и никаких чрезвычайных происшествий на границе в ту пору не случалось. Поэтому сооружение шлагбаумов у жителей Клинска вызвало некоторое недоумение, а поскольку местные власти по поводу шлагбаумов публично высказывались неохотно и неконкретно, горожане стали самостоятельно объяснять причину непонятного им поступка государства. Кто-то предположил: сопредельная дружественная страна сделала легкомысленный реверанс в сторону капиталистического окружения, вот Москва и навострила уши. Предположение обсуждалось неделю-другую, не более того, потому что в недисциплинированность соседей верилось плохо. В конце концов, большинство обывателей разделило мнение местных циников, утверждавших: в Клинском районе богатые охотничьи угодья, в Реке много рыбы; вот власти и ограничили число приезжающих сюда любителей природы, а также добытчиков дичи, потому что сами любят здоровый отдых на малонаселенной местности. Некоторые факты и в самом деле подтверждали возможную правдивость этого суждения. Например, после расширения зоны недалеко от контрольно-следовой полосы пограничников был построен двухэтажный охотничий домик – по утверждению тех же циников, «для особо важных гостей», со всеми вытекающими из этого обстоятельства удобствами.
Чтобы не отклоняться далеко от главной линии повествования, автор не станет излагать свою версию по поводу строительства пограничных шлагбаумов, а ограничится лишь констатацией факта: в тот день, когда Михаил Савичев под покровом ночи пробирался в Клинск, для законного посещения города пропуска у него не было, как не было и клинской прописки (которую он потерял, уехав после школы работать на Север, где и пробыл два года). И не потому не было пропуска, что он не мог его получить, а потому, что, имея все законные основания приехать на каникулы к родителям, жившим в Клинске, он в то лето в милицию за пропуском принципиально не пошел.
– Я и без их ср….. бумажки проникну в Клинск, – объявил он еще не разъехавшимся на каникулы товарищам по университетскому общежитию.
Когда же товарищи задали ему естественный для нормальных людей вопрос, мол, а зачем тебе это нужно, герой наш ответом их не удостоил и поступил так не потому, что не уважал товарищей или был человеком не по заслугам гордым, – промолчал он в силу специфичности целей задуманного.
Путешествием без пропуска Савичев хотел испытать некоторые грани своего характера – степень мужества, волю, смелость и предполагаемую (и в ту пору казавшуюся достоинством) склонность к авантюризму. В двадцать два года – а именно столько к моменту повествования было нашему герою – многих представителей сильной половины человечества переполняет ощущение безграничности сил и исключительности своих способностей. Жаль только, что это ощущение часто возникает не из опыта жизни (какой опыт в этом возрасте!), а лишь из-за интенсивной игры половых гармонов, зов которых (в части «исключительности» и «безграничности») может оказаться, увы, и преждевременным.
Была у Михаила еще одна веская причина без бюрократических проволочек начать путешествие в Клинск: в городе на лето оставалась юная Танька, учительница начальных классов той же школы, которую четыре года назад окончил Савичев. С Танькой он познакомился в прошлом году, когда приезжал (тогда – с пропуском) на каникулы. В маленькой, пухленькой Таньке оказался заключенным такой сладострастный бесёнок, во время каждой встречи с ней в маленькой комнатке, которую учительница снимала в доме одной старушки, Танька одаривала Михаила таким изобретательным каскадом ласк, что наш герой целый год ждал повторения пройденного и чем ближе подкатывало лето, тем сильнее любил Таньку.
В отличие от вышеизложенных причин, характеризовавших нашего героя как человека нормального и в меру положительного, последняя причина, напротив, выдавала в нем человека, по молодости лет еще склонного к поступкам легкомысленным: Михаилу, задумавшему нелегально преодолеть шлагбаумы пограничников, кроме того, о чем мы уже выше упомянули, хотелось еще и подразнить мать, в недавнем прошлом партработника, а ныне персонального пенсионера районного значения, человека строгих правил, законопослушного и, с точки зрения Михаила, во многом старомодного.
Попасть в город Савичев планировал просто: собирался сойти с автобуса в последнем перед шлагбаумом селе Мирном и по знакомым полям и лесу, где, конечно, не должно быть никаких пограничных постов, несколько километров пройти до Клинска пешком.
Так он и поступил.
И путешествие его, как видим, успешно завершалось.
Поигрывая легким портфелем в руке, ощущая во всем теле лишь незначительную усталость, Михаил, в клетчатой легкой рубашке с закатанными выше локтей рукавами и потертых джинсах, купленных на последние заработанные на Севере деньги, шел по безмолвному в тот час городу и время от времени, лукаво щурясь, с гордым видом человека, сделавшего что-то очень значительное, глядел на луну.
2
Мать его в это время не спала. Лежала в постели и, окончательно потеряв надежду уснуть, думала…
Несмотря на пенсионный возраст (в прошлом году исполнилось 55), а, главное, томивший её пенсионный образ жизни (который, неизбежно сокращая интересы человека, неумолимо и быстро мчит к старости), Мария Павловна всё ещё оставалась женщиной энергичной и полной сил. Год, прошедший не у дел, не успел отучить её от привычки даже за семейным столом держаться прямо – как, бывало, в президиумах партийных собраний, слушать собеседника, гордо задрав вверх курносый носик на строгом лице; о жизни Савичева продолжала судить ясно и категорично: в отличие от ученых, мысли которых в поисках истины бывают устремлены в разные направления, а порой, наверно, вообще напоминают броуновское движение, Мария Павловна логические звенья всегда выстраивала только в одном направлении – от партийных директив и фундаментальных истин марксистского учения, что позволяло ей легко находить объяснения любых проблем. Одним словом, мать Михаила по привычке продолжала ощущать себя на передовой постоянно обострявшейся борьбы за светлое будущее и продолжала волноваться за страну. Чтобы закончить её портрет, добавим: она заботливо следила за тем, чтобы вовремя покрасить ещё густые, но уже поседевшие волосы, подстричь их и строго причесать; ухаживала за лицом – употребляла незаметную для посторонних косметику, в результате чего лицо её оставалось почти без морщин, а возраст выдавала только подвянувшая кожа шеи, которую Савичева, выходя на улицу, обязательно закрывала шелковым голубым – под цвет глаз – платком.
Если бы она могла ещё и спать по ночам!
Увы…
Бессоница Марию Павловну стала мучить сразу после того дня, когда Клинская швейная фабрика под аплодисменты коллектива наградила её почетной грамотой, дала пятьдесят пять рублей в конверте и устами нового секретаря парткома Пандюкова пожелала «здоровья и хорошего настроения на заслуженном отдыхе». Со здоровьем у Савичевой, как мы уже отметили, и на пенсии все оставалось, как сказали бы врачи, в пределах нормы, а вот с настроением сразу же не заладилось. И причины тому были не столько личные (к жизни на пенсии, в конце концов, можно было и привыкнуть), сколько государственные: страну нежданно-негаданно взвихрила перестройка; на глазах расстраивался привычный и казавшийся безусловно справедливым порядок; магазины, и до этого не радовавшие глаз, окончательно опустели, цены на все выросли; с отменой цензуры обнаглела пресса; новые демократы всё настойчивее стали требовать многопартийности, ученые перетолковывали историю; послушать их, так и она, и всё её поколение жили зря, шли (и зашли) в тупик…
Савичева стала бояться наступления худшей для нее поры суток – ночей, когда, невольно бодрствуя, она оставалась один на один со своими невесёлыми мыслями.
Но в ту ночь Мария Павловна не столько мучилась бессоницей, сколько, не сомкнув глаз, думала о моментах приятных.
Два дня назад звонил Миша, сообщил, что сдал экзамены, собирается, конечно, приехать в Клинск; дату приезда, как всегда, скрыл – «чтоб был, мама, сюрприз».
«Может, сын уже в поезде, утром на станции Каменской пересядет в автобус»… (железная дорога проходила в шестидесяти километрах в стороне от Клинска).
Мария Павловна любила сына – и по зову природы (может, сильнее обычного «зов» она слышала еще и потому, что был Миша дитем не только единственным, но и поздним), и за несомненные, вовсе ею не преувеличенные достоинства отпрыска. Михаил был высок, по-юношески тонок; плечи его, не испытав главных житейских тяжестей, еще не раздались вширь, не придали фигуре законченной мужской крепости, зато лицо… По отцовской линии на генеалогическом древе Савичевых среди ближайших к Савичеву-младшему ветвей, кроме русских (которые преобладали), были украинцы, греки и молдаване, и их характерные генетические следы можно было разглядеть на лице Михаила. Например, большие черные глаза с длинными ресницами, которые первым делом замечали половозрелые барышни, точь-в‑точь повторяли глаза покойной бабки-гречанки из-под Мелитополя, профиль же, несомненно, был профилем деда-молдаванина, не без основания считавшего себя потомком античных римлян.
…Мечты о встрече с сыном незаметно сменились воспоминаниями о вчерашнем выступлении в клубе кирпичного завода.
По какому поводу и как проходило торжество до ее речи, Мария Павловна восстанавливала в памяти нехотя и без интереса. Слабой тенью и будто окутанный туманом мелькнул и сразу же исчез наполовину пустой клуб; потом возник на трибуне докладчик – инструктор райкома партии Лопусов, что-то толковавший о «перестройке», начатой, как он назойливо все время подчеркивал, по инициативе партии; потом из тумана выплыл небольшой президиум за столом, застеленном двумя белыми простынями… Но вот картинки – будто объектив, рассматривавший их, кто-то, наконец, навел на резкость – заиграли деталями и цветами. Заведующая райкомовским агитпропом Зоя Михайловна Жукова, в легком шелке, лишь наполовину прикрывавшем ее в меру пышный бюст, встала со своего стула в президиуме и голосом звонким, хотя и несколько фальшивым, сообщила залу: «А сейчас, товарищи, перед вами выступит ветеран партии, участник великих строек…» Савичева недолюбливала легкомысленную (и даже, как ей казалось, глуповатую) Жукову, подозревала, что партийную карьеру та сделала по недоразумению или благодаря вовсе не обязательным для работы в райкоме достоинствам. Но на этот раз она простила Зое Михайловне и яркое платье с бесстыжим декольте, и фальш в голосе…
Савичева успела вспомнить первые слова своего выступления (как ей казалось, лучшего за последнее время), когда в дверях раздался негромкий стук. И сердце Марии Павловны, не успев испугаться, отозвалось на него до боли сладкой радостью.
«Миша приехал!»
Она набросила на плечи халат, бегом кинулась в прихожую, повернула в дверях ключ и – конечно же! – на пороге, улыбаясь, стоял ее сын!
…Какой разговор в два часа ночи?
– Прими душ.
– Отец спит?
– Дежурит… Я разогрею картошку. Не устал?
Нет, он не устал. Он даже готов хоть сейчас рассказать матери о своих приключениях в дороге.
Марии Павловне, конечно, хотелось узнать, почему сын появился в доме в столь необычный час, когда ни один автобус из республиканской столицы или со станции Каменской в город не приходит, – однако, сдержав нетерпение, она предложила:
– Сначала, сын, поешь.
Накрыла скатертью стол в гостиной. Через несколько минут на столе шипела сковородка с подрумяненной картошкой.
– Сейчас принесу тарелку.
Мария Павловна опять пошла на кухню, где в шкафу, прибитом к стене, стояла посуда, а когда вернулась, взору её предстала такая картина: ещё не остывшая сковородка была пуста, а Михаил, положив голову на стол, крепко спал.
Мария Павловна с трудом уговорила его раздеться и лечь в кровать.
3
Лучи солнца, упав на подушку, не разбудили Михаила, а, судя по улыбке, вдруг оживившей его лицо, только добавили увлекательности его утренним сновидениям.
А Мария Павловна, с большой сумкой и в новой белой кофточке, – она надевала её только по торжественным случаям, – в эту минуту уже шла на рынок.
Воздух улицы был прохладным, чистым, в нем ещё не было пыли – той, что скоро поднимут на разбитой мостовой шумные, коптящие черным дымом грузовики, – поэтому дышать было легко и приятно. Савичева радовалась утру, обдумывала покупки, которые она сделает сегодня, и по привычке, укрепившейся в ней в последнее время, подсчитывала предстоявшие на ближайший час расходы. Делала она это не потому, что отличалась бережливостью или жалела деньги, а в силу того угнетавшего её обстоятельства, что жалеть-то в сущности было нечего: пенсий, которые получали они с мужем, и зарплаты Владислава Владимировича в те дни едва хватало на еду.
К неожиданно подступившей к семье бедности Мария Павловна, кажется, уже начинала привыкать, а чтобы совсем утешиться, часто вспоминала жизнь в войну – несравненно более тяжелую, чем нынешняя («уронишь, бывало, крошку хлеба на пол и поднимешь»). Но иногда она, узнав об очередном повышении цен, всё же впадала в уныние и начинала думать сердито и даже зло: до «перестройки», конечно, тоже не питались разносолами, но хлеб, селедку, молоко, крупу, картошку, к празднику водку можно было на зарплату купить. А что сейчас?
По поводу того, что происходило в стране сейчас, в квартире Савичевых в последние месяцы часто случались споры и даже ссоры, потому что Владислав Владимирович, в отличие от жены, спорил как будто и спокойно, однако слова часто подбирал обидные. Например, однажды сказал: «Тот, кому ничего, кроме хлеба, селедки, а также водки, в жизни не нужно, будет, конечно, выворачивать шею к твоему, Маруся, социализму; но в России, слава Богу, ещё живут не только вороватые люмпены»… Спор, обычно начинавшийся с обсуждения простых бытовых проблем, иногда уводил супругов в лоно большой политики, где, к ужасу Марии Павловны, она всё чаще стала обнаруживать признаки даже мировоззренческих разногласий с мужем.
Единственным утешением в нынешней жизни была надежда на то, что смутное время в стране скоро кончится, ЦК партии обретет былой авторитет и прикажет восстановить всё, как было.
…От размышлений ее отвлек знакомый женский голос:
– С добрым утречком, Мария Павловна!
Савичева остановилась и, близоруко щурясь, всмотрелась в противоположную сторону улицы. Там, на тротуаре, держа за руку маленькую девочку в коричневом платье, стояла когда-то работавшая на фабрике уборщицей Шура. Была она в парусиновых тапочках, длинном старом сарафане и давно выцветшем пиджаке – кажется, в том самом, в котором до ухода на пенсию подметала коридоры фабрики.
«Совсем не следит за собой», – узнав Шуру, с укором подумала Савичева, но тут же и устыдилась этой, возможно, не до конца справедливой мысли.
– Здравствуй, – Мария Павловна подождала, когда Шура перейдет улицу. – Ну, как живешь?
– Да так… Вот идем с внучкой в садик, – Шура улыбнулась девочке, уцепившейся в ее сарафан. И вдруг заговорила хорошо знакомыми Савичевой интонациями – так она, бывало, пересказывала в парткоме свои бесчисленные неприятности, без которых, кажется, не обходился ни один день шуриной жизни: – Представляете, Мария Павловна? Вчера с Леночкой приходим в садик, а заведующая сердито спрашивает меня: «Зачем, – говорит, – вы рассказываете Леночке истории из «Библии»? Она эти истории пересказывает детям». Мне бы помолчать, а я ей – встречный вопрос: «А почему, – говорю, – Леночка дома не пересказывает истории, которые вы тут детям читаете?» Ну, заведующая разобиделась: «Вы, – говорит, – мешаете нашей идеологической работе!»
– Атеизм в людях надо воспитывать с детства, – нахмурившись, сказала Мария Павловна и, чтобы не продолжать не вовремя начатый разговор, миролюбиво спросила:
– Как чувствуешь себя, Шура, на пенсии?
– Перестраиваюсь, как все, – Шура неуверенно пожала плечами: – Вслед за зятем Толиком третьего дня вышла из партии.
– Ты с ума сошла!
– Толик говорит…
Не дослушав Шуру и торопливо попрощавшись с ней, Савичева поспешила покинуть место, где уже, кажется, запахло дымком идеологического пожара.
Впрочем, до самого пожара дело в то утро вряд ли дошло бы. Савичева хорошо представляла себе интеллектуальные возможности Шуры, а о степени «нового мышления» её зятя Толика – как видно, по пьянке уговорившего тещу выйти из партии, – легко догадывалась. Поэтому спорить на тротуаре она в любом случае, даже если бы и не торопилась за покупками, не стала бы.
И всё-таки встреча с Шурой расстроила Марию Павловну: поступок бывшей уборщицы был изменой не только партии, но и ей лично, когда-то рекомендовавшей Шуру в «передовые ряды».
Вскоре Мария Павловна свернула в переулок, который минут через десять уперся в ворота рынка.
Еще недавно клинские обыватели приходили на городской рынок не только для того, чтобы купить здесь продукты. У торговых рядов, переполненных овощами, фруктами, рыбой, дичью, прочей снедью, которая привозилась сюда со всей округи, интересно было и просто потешить глаз, полюбоваться на праздник запахов, красок и форм, экспромтом созданных природой; ценилась и возможность тут же, у рядов, бесплатно посмотреть народные, искрившиеся интернациональным юмором спектакли-торги. Женщины на рынке узнавали новости, а мужчины обменивались соображениями, при этом быстро организовывались в компании по интересам, а поскольку интересы у компаний, в конце концов, оказывались похожими, все к полудню сходились в большом, пахнувшем вином и жареным мясом буфете.
Время то прошло, стало забываться…
Когда Мария Павловна миновала металлические ворота рынка, ей открылись безлюдная площадь, усеянная стайками голубей, и почти пустые торговые ряды, между которыми быстро шныряли люди с хозяйственными сумками. Десятка полтора продавцов, рассредоточившись вдоль длинных лавок, предлагали обычный, но сильно подорожавший за последний год товар – картошку, помидоры, кабачки…
Посреди рыночной площади две ещё не состарившиеся женщины, в одинаковых байковых халатах и с одинаковыми тощими «авоськами» в руках (из ячеек их «авосек» выглядывали картошка и маленькие кочаны капусты), громко, бесстыже и, по-видимому, уже давно скандалили. Никто из посетителей рынка не прислушивался к их разговору, не старался понять, вокруг чего они плели свою канитель, только голуби при особо громких восклицаниях на некоторое время переставали крыльями взбивать пыль.
К тому времени, когда Мария Павловна пришла на рынок, диалог женщин заметно выдыхался, стороны, всё ещё не желавшие мира, с трудом находили продолжение своим сюжетам и поэтому уже говорили друг другу что попало.
– У вас, Нина Васильевна, – жалила соперницу одна из скандалисток, – язык и туда и сюда! Что вы всем рассказываете, что мы у вас зимой уголь воровали?
– А вы, Тамара Ильинична, что говорите, что мы вас на седьмое ноября объели, когда в гостях у вас были? Вот мы к вам больше и не заходим! Не заходили и на Новый год!
– Вы бы зашли, но вам дулю показали!
В это время в спор встрял маленький и, кажется, уже совсем пьяный мужичок. До этого никем не замеченный, он будто пророс сквозь пыль, встал рядом с байковыми халатами и, подняв вверх дрожащий указательный палец, сказал опешившим от неожиданного появления мужичка и потому замолкнувшим женщинам:
– Бабы, заткнитесь. Скоро будет ещё хуже!
И, шатаясь, пошел вдоль пустого торгового ряда.
А женщины с «авоськами», так и не поставив достойной точки в разговоре, молча разошлись в разные стороны.
Мария Павловна, оставив на рынке половину пенсии, аккуратно уложила покупки в сумку и поспешила прочь от угнетавших ее лавок.
Она собиралась приготовить на завтрак блюдо, которое с детства любил сын: молодые кабачки, поджаренные на сковородке, а потом, в сметане и сливочном масле, потушенные в чугунке в духовке. Но торжественного застолья в то утро в доме Савичевых не получилось: когда Мария Павловна вернулась с рынка, Михаил ещё крепко и сладко спал.
Так что оставим на некоторое время квартиру Савичевых. Познакомимся еще с одним героем нашей повести, который как раз в тот час, когда Михаил видел полные приключений сны, в автобусе подъезжал к Клинску.
4
Из Москвы в столицу этой небольшой южной республики писатель-документалист Гуртовой прибыл самолетом. А двести километров до Клинска решил преодолеть не торопясь.
Писателю нравилось путешествовать в автобусах. Во-первых, потому, что этот способ передвижения казался ему самым безопасным; во-вторых, сидя у окна движущегося по земной тверди транспорта, он любил созерцать; это был самый приятный и легкий способ изучения жизни – ради последующего отражения этой жизни в документальных произведениях. В пользу автобуса на этот раз было ещё и желание Гуртового, как он сам себе сказал, «под шелест шин» поразмышлять над некоторыми последними событиями в московской писательской среде, а также не спеша обдумать, как лучше выполнить работу, ради которой он ехал в Клинск.
Автобус шел быстро, плавно уминал колёсами хорошо заасфальтированную магистраль. За окном прямо у обочины дороги бежала небольшая и неглубокая (видны были камни на дне) река, впадавшая, как оказалось, в большое озеро. К берегу озера подходило длинное село; автобус свернул на его центральную улицу и на небольшой площади сделал первую остановку. За селом пошли зелёные холмы, на них росли сады, виноградники и небольшие лиственные рощи… Документалист, поглаживая черную бороду, отрощенную в последние годы, увлеченно всматривался в ландшафты, старался всё хорошо запомнить, чтобы потом использовать увиденное в своем очередном произведении. А Москву он стал вспоминать, примерно, с половины пути – когда за окном автобуса зелёные холмы сменила однообразная, колосившаяся созревающей пшеницей степь.
Три дня назад писателю исполнилось сорок пять лет. Юбилей он отметил с размахом, потратив на торжества – без сожаления, но с некоторым отчаянием – половину гонорара за последний сборник очерков: гостей пригласил в ресторан Центрального Дома литераторов, где заранее заказал вдоволь крепкой выпивки и вкусной еды. Бородатые друзья, опорожнив первые рюмки и закусив фирменными солеными грибками, сразу же стали высокопарно объяснять писателю, а также его жене (молчавшей весь вечер, но пившей водку наравне со всеми), какой замечательный талант в лице юбиляра подарила природа читающему народу… Комплименты некоторое время казались Гуртовому несколько преувеличенными, выслушивая их, он сначала даже испытывал неловкость; но после первых трех бутылок водки, быстро опустошенных за столом, ощущение неловкости прошло.
Сначала вклад юбиляра в отечественную культуру гости характеризовали в целом:
– Ты, Анатолий Сергеевич, – неутомимый правдоискатель.
– Истинный патриот.
– Писатель и гражданин.
– Золотое перо…
После «золотого пера» стали говорить о частностях.
– Созданный тобой, Толя, образ секретаря райкома партии, который, обутый в сандалии на босу ногу, во время сдачи хлеба ночует на привокзальном приемном пункте, даже если это и придуманная деталь…
– Как это так придуманная?!
– Перед нами – документ эпохи!
– Секретарь райкома, конечно, мог переночевать и не на привокзальном приемном пункте…
– На что ты намекаешь?
Разговор ускользал в несвоевременную плоскость, и Гуртовой миролюбиво разъяснил:
– Босые ноги придуманы, остальное – правда.
– Ты, Толя, – летописец наших дней, – через минуту говорил лучший друг Гуртового Аркадий Винтов. – Как древние летописцы не дали исчезнуть из памяти народа целым эпохам, так и ты…
Писатель, слушая друга, согласно кивал в его сторону уже захмелевшей головой, но в то же время испытывал желание, в силу вдруг обострившегося чувства справедливости, кое-что в длинном, но не утомительном выступлении Винтова и уточнить: например, сказать, что в последнем своём сборнике – «Именем вождя» – он не на каждой странице был на высоте, к которой обязывала ответственная тема…
Эта мысль отвлекла документалиста от приятных воспоминаний о юбилейном вечере в ресторане и расширила рамки его размышлений до стен большого дома Союза писателей.
С начала «перестройки» в Союзе друг против друга стояли две разделенные политическим моментом стенки: одна высокомерно и принципиально не слушала и не читала «патриотов» (лишь иногда в своих журналах снисходила до кратких, но полных сарказма и даже издевательства обзоров их «вранья, помноженного на бездарность»); другая, в других журналах, не уставала злобиться и разоблачать подрывное (конечно, направляемое оттуда) творчество новых демократов.
«Нет, не будет между нами мира…» – вспоминая последние встречи и разговоры с коллегами, время от времени философски вздыхал Гуртовой, пока не ощутил, как некая вдруг парализовавшая его тело и волю сила стала неодолимо клонить ко сну.
Это обстоятельство не позволило писателю до конца выполнить намеченную им «под шелест шин» программу; вскоре он крепко спал и вместо степей видел тревожные, по-видимому, навеянные московскими воспоминаниями сны.
Спал Гуртовой до самого Клинска и проснулся не по своей воле: автобус, съехав с асфальта республиканского значения и вкатившись в Клинск, тотчас же стал судорожно корчиться на бесконечных городских колдобинах.
Минут через двадцать желтый «Икарус», наконец, прибыл на городскую автобусную станцию – остановился у маленького деревянного дома с открытыми настежь дверями и двумя зарешеченными окнами. Гуртовой прыгнул с подножки автобуса и, ощутив под ногами прочную опору, с наслаждением вобрал в ноздри свежий, хотя и теплый воздух. Потом неторопливо и с достоинством пригладил ладонью черную бороду и огляделся.
Взору его предстала маленькая площадь. Мусор отсюда, по-видимому, никгда не убирался, его просто сметали в придорожные канавы, что проходили по границам площади, так что к тому моменту, когда документалист рассматривал канавы, они были похожи скорее на высокие брустверы, вдоль вершин которых торчали грязные бутылки, куски ржавой проволоки, консервные банки, пакеты из-под порошкового молока, полусгнившая обувь и прочий уже отслуживший свой век жалкий человеческий скарб.
«Автобусные станции у нас всюду одинаково сирые», – со вздохом подумал писатель и почувствовал подступившую к сердцу патриотическую скорбь.
Центральная улица оказалась метрах в двухстах от автостанции. Писатель сразу понял, что это она, – во-первых, потому что улица, судя по табличкам на домах, носила имя Вождя; во-вторых, была она значительно шире других и лежал на ней аккуратно заштопанный асфальт. Улица была застроена старинными крепкими домами, в которых располагались районные учреждения, магазины и службы быта.
Гуртовой обошел магазины главной улицы, надеясь купить что-нибудь полезное. Нужны ему были, например, заграничные лезвия для бритья, на которые он надеялся выменять у соседа по даче рулон рубероида; или погружной электрический насос «Малыш» – за него знакомый председатель колхоза обещал привезти писателю на дачу машину навоза; или шампунь для волос жене… Но ничего такого в магазинах не было.
В булочной стояла небольшая очередь и продавались серые батоны.
Проголодавшийся в дороге писатель купил батон и, пока шел в райком партии, съел его с немалым аппетитом.
5
Здание райкома располагалось на главной улице города. Это был двухэтажный кирпичный дом, построенный специально для власти лет десять назад.
По первому, застеленному линолиумом, этажу дома, где размещались небольшие и скромно меблированные кабинеты, гордо ходили, всем внешним видом и даже походкой демонстрируя государственную озабоченность и важность доверенного им занятия, молодые, серьёзные инструкторы. Второй этаж предназначался секретарям, и его облик заметно подчеркивал это обстоятельство: на полу здесь лежал дубовый паркет, коридор устилала тяжелая зеленая дорожка, а двери в большие кабинеты были обтянуты натуральной коричневой кожей; столы и стулья в кабинетах были отечественными, но, изготовленные по специальному заказу, отличались некоторой канцелярской изысканностью.
В половине девятого утра первый секретарь райкома Весенний – человек высокого роста, с большой головой, покрытой седой, но ещё густой и даже вьющейся шевелюрой, – вошел в свой кабинет. У дверей по привычке огляделся. На длинном столе, предназначавшемся для приглашенных, в белой вазе стоял букет полчаса назад срезанных уборщицей – на клумбе у входа в райком – красных роз; луч солнца дрожал на середине большого письменного стола, ещё свободного от бумаг; рядом, в углу, неколебимо стоял двухэтажный сейф, где хранились секретные документы, а на верхней полке под желтой фланелевой салфеткой лежал полагавшийся секретарю по должности черный пистолет; у стены, противоположной той, где был письменный стол, бесшумно отсекал секунды бронзовый маятник больших, как шкаф, напольных часов.
Так здесь было и вчера, и позавчера, и год и пять лет назад.
«И будет всегда», – как заклинание, произнес про себя Степан Федорович и, ухмыльнувшись, сел за стол.
Два природных свойства Весеннего способствовали его ни при каких обстоятельствах не иссякавшемуся оптимизму: Степан Федорович был незаурядно умён и ещё более незаурядно циничен. Благодаря этим, хорошо взаимодействовавшим друг с другом свойствам, он, в отличие от многих своих коллег (которых уже первые речи Горбачёва заставили нервничать), быстро просчитал перспективу «начатых по инициативе партии» реформ и хорошо представил себе, чем закончатся все эти, как он говорил, «московские стенания». Закончатся возвратом к прежнему порядку жизни (и произойдет это скоро и тоже по инициативе партии, но уже без Горбачёва), потому что для создания лелеемого прогрессистами демократического общества в государстве нет главного: за семь десятилетий партия создала крепкую, как гранит, и не поддающуюся изменениям социальную базу существующего строя – сделала народ, который, подобно дрессированному животному, способен двигаться только по периметру циркового круга и никогда не перескочит через барьер. Такому народу не нужна перестройка, тем более, что улучшение ему обещают через ухудшение жизни (понятно, что даже ремонт крыши дома временно ухудшает жизнь). Ну, а без поддержки народа, как справедливо учит самая передовая теория, любое государственное начинание обречено на провал…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































