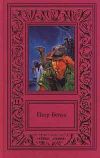Текст книги "Служитель Аполлона – Александр Бенуа"

Автор книги: Виктор Меркушев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Виктор Меркушев
Служитель Аполлона – Александр Бенуа

© Меркушев В.В., составление, 2020
© «Знакъ», 2020
«Мне жизни дался бедный клад, с его неясными словами…»[1]1
Александр Пушкин
[Закрыть]
«Герою этой истории надо ставить памятник…»
А. Эфрос. «Бенуа»
«Деятельность же моя отнюдь не ограничивалась театром. Я и художественный критик, я и журналист, я и просто живописец, я и историк искусства… Если идти по линии тех разных дел, которые я возглавлял и коими заведовал, то я был и редактором двух весьма значительных художественных журналов, я был в течение трёх лет и чем-то вроде содиректора Московского Художественного театра, я был и полновластным постановщиком в Большом Драматическом театре в Петербурге, я был управляющим одним из самых значительных музеев в мире – петербургским Эрмитажем и т. д. Всё это, правда, относится к царству, подвластному Фебу-Аполлону, но не могу же я на карточке поставить: Александр Бенуа, служитель Аполлона».
Казалось, сама судьба с первых дней жизни Александра Бенуа позаботилась об успешности всех его начинаний. А их значение в русской и мировой культуре сложно переоценить. Он известен не только как одарённый график и живописец, деятель театра и кино, искусствовед-энциклопедист и талантливый литератор (хотя всего этого вполне бы хватило на полдюжины полновесных биографий), но и отмечен как выдающийся музейный работник и активный пропагандист искусства, организатор художественных выставок и гастролей балета.
Александр Бенуа был младшим ребёнком в многочисленной семье архитектора Николая Леонтьевича Бенуа, основателя славной династии, давшей миру плеяду известных представителей отечественной культуры, которая не заканчивается Лансере и Серебряковой, а продолжается и по сию пору. Будучи «из всех архитекторов своего времени наиболее чуткой художественной натурой», Николай Бенуа воспитывал своих детей в атмосфере творчества и почитания культурного наследия мировой цивилизации, предоставляя им возможность проникнуться значимостью и красотой искусства. Не меньшей задачей глава семейства считал необходимость прививать домашним хороший вкус и нетерпимость к дилетантизму – весьма распространённому явлению последней трети XIX века. И, разумеется, как градостроитель, отразивший в своей деятельности тенденции и устремления эпохи, как знаток и ценитель зодчества, Николай Леонтьевич передал детям собственное чуткое отношение к городу, к великолепию и славе которого был непосредственно причастен архитектурным творчеством. «Своим культом Санкт-Петербурга как целого я в значительной степени обязан своему отцу», – писал в воспоминаниях Александр Бенуа. Семья во многом способствовала развитию талантов ребёнка, наделённого удивительной зрительной памятью, редким музыкальным слухом и превосходным артистическим даром. «Однако среда средой (не мне отрицать её значение), но всё же, несомненно, во мне было заложено нечто, чего не было в других, в той же среде воспитывавшихся, и это заставляло меня по-иному и с большей интенсивностью впитывать в себя всякие впечатления», – вспоминал своё детство сам герой нашего повествования.
Сколь красочны и существенны были эти впечатления можно судить по его мемуарам, где автор внимательно и подробно разбирает всякую «мелочь», пленившую его богатое воображение. Великолепной россыпью удивительных подробностей Александр Бенуа сопровождает свои литературные «петербургские пейзажи», а также пейзажи его окрестностей: Петергофа и Ораниенбаума, Павловска и Царского Села, Гатчины и прилегающей к Петербургу части Финляндии. Словно живые вырастают перед читателем узорчатые башни Нового Петергофа, дышат прохладою и умиротворением парки принца Ольденбургского, пленяют влажными тенями аллеи Сильвии с её тёмными бронзовыми статуями и предстаёт во всю свою исполинскую ширь Камеронова галерея, в нишах которой в вычурных позах стоят каменные мифологические персонажи.
И как бы ни подчёркивал автор свою «особость» среди остальных братьев и сестёр, в своих воспоминаниях семье и её окружению он уделил столько внимания и места, что становится совершенно ясно, что именно семья сыграла основную роль в становлении личности художника, писателя и искусствоведа. Александр Бенуа пишет: «…Моё положение в семье было особенным. Явившись на свет после всех и без того, чтобы у родителей могла быть надежда, что за мной последуют и ещё другие отпрыски, я занял положение несколько привилегированное, какого-то Вениамина. Я не только пользовался особенно нежной заботой со стороны моих родителей, но был как бы опекаем и всеми сёстрами и братьями. Особенно нежны были со мной сёстры, годившиеся мне по возрасту в матери (старшей был 21 год, когда я родился, а младшей 20 лет). Но и братья всячески меня баловали, заботились обо мне и каждый по-своему старался влиять на моё воспитание. Всё это подчас не обходилось без маленьких драм и недоразумений, без ссор и обид; иные заботы и попечения принимали неприемлемый для меня оттенок, и тогда я всячески против таких посягательств на мою независимость восставал. Однако в общем мы все жили дружно, и о каждом из братьев и сестёр я храню добрую и благодарную память…»
Размышляя о своём детстве, Александр Бенуа при всяком удобном случае подчёркивает своё нерусское, итало-французское происхождение и космополитичность, оговариваясь, правда, что он всегда являлся и является гражданином и патриотом Санкт-Петербурга, самого нерусского города во всей России. Чего здесь на самом деле было больше – истинного ощущения себя как наследника великой культуры Франции и Италии или всё-таки рефлексии на консервативный, религиозно окрашенный русский патриотизм рубежа веков? Хотя выпустившему «Историю живописи всех времён и народов», написанную для русского читателя и измеренную западническими мировоззренческими лекалами, вполне логично было оказаться космополитом. В главном искусствоведческом труде своей жизни современную ему Россию Бенуа представляет воскресшей Византией, со всем её догматизмом, «целительным мраком» и утомительным светом. Он пишет: «Недаром же Византия из самой “загнанной” области истории искусства привлекает теперь самый жгучий интерес. Недавно ещё это искусство казалось “чуждым варварством”, теперь оно начинает казаться близким и родным. Вся “одичавшая эстетика” первых столетий нашей эры, её ребячество и упрощённость по сравнению с периодами предшествующими и последующими, кажется для нас снова прельстительной. В частности, элементы этого одичания: преследование роскошной декоративности, наслаждение яркой красочностью, забвение многих знаний (или мертвенное к ним отношение), наконец, тяготение к загадочному символизму и схематичной стилизации, всё это то самое, что нас теперь волнует, и в чём мы даже видим какое-то предельное достижение. Мы – византийцы, или, по крайней мере, те поздние римляне и эллины, которые не сумели (и, по воле судеб, не должны были) отстоять грандиозную, простую, самодовлеющую красоту, доставшуюся от отцов и дедов. Для достижения “настоящего византизма” нам не хватает лишь внешних событий».
Предки Бенуа по отцовской линии были из Франции, провинции Бри, из местечка Сент-Уэн, находящегося неподалёку от Парижа. «Мы не можем похвастать благородством нашего происхождения, – свидетельствует о своей генеалогии Александр Бенуа. – Самый древний из известных нам предков Никола Дени Бенуа значится на родословной, составленной моим отцом, в качестве хлебопашца, – иначе говоря, крестьянина. Женат он был на Мари Аеру, очевидно, тоже крестьянке, но уже сын их – Никола Бенуа (1729–1813) успел значительно подняться по социальной лестнице. Этот мой прадед получил достаточное образование, чтобы самому открыть школу, в которой воспитывались и его собственные дети».
«Мои предки с материнской стороны, – продолжает рассказывать о себе Бенуа, – пожалуй, более “декоративны”, нежели предки с отцовской. Они принадлежали если не к венецианской знати, то к зажиточной буржуазии Венеции. В XVII веке какой-то Кавос – бывший, если я не ошибаюсь, каноником одной из главных церквей Венеции, сделал щедрый дар библиотеке Сан-Марко, а мой прапрадед Джованни Кавос состоял директором театра “Фениче”. Сын его Катарино был необыкновенно одарён в музыке. Двенадцатилетним мальчиком он написал кантату в честь посетившего Венецию императора
Леопольда II, а в четырнадцать сочинил для театра в Падуе балет “Сильфида”. Концерты, которые он давал в “Скуоле Сан– Марко” (что близ церкви Сан-Джованни в Паоло) и в соборе Св. Марка, пост органиста в котором он получил по конкурсу, привлекали толпы венецианских меломанов. Однако после падения Республики Катарино, как и многие его сородичи, предпочёл отправиться искать счастья в чужие края, и после короткого пребывания в Германии он оказался в Петербурге, где талант Катарино Кавоса был вполне оценён и где он вскоре поступил на службу в императорские театры».
Будучи носителем множества талантов, наш служитель Аполлона всё-таки в первую очередь считал себя художником, в его случае, в самом полном значении этого слова. Найдётся немного деятелей культуры и искусства, которые столь подробно и так осмысленно описывали этапы своего творческого становления, как это делал Александр Бенуа. Вот, к примеру, один из таких пассажей, относящийся к самому раннему периоду его жизни:
«Одно можно только сказать про художников (точнее, про тех, кто готовятся стать художниками), – что для них общий закон не писан, а писан иной закон.
Им нужна своеобразная “эстетическая и моральная гигиена”. Я при этом вовсе не имею в виду какое-либо преимущество художественных натур перед другими; не в том интерес – выше ли, ниже ли стоит художник по сравнению с другими людьми, а в том, что, несомненно, он обретается в какой-то иной плоскости и, пожалуй, именно в этом весь смысл его существования. Моральное развитие художника должно идти своим особым путём, и этот путь лежит в иной сфере, нежели моральное развитие “простых смертных”. Вся его натура так устроена, что даже в самом своём бессознательном периоде он по-особенному выхватывает из окружающей жизни то, что ему может “пригодиться”…»
И многое из впечатлений детства ему действительно «пригодилось». Это и «газовый дух», наполняющий коридоры и залы казённых театров; и «зрелище люстры и занавеса», пленяющее чуткое детское воображение; и мечущий столбы искр «локомотив, въезжавший на сцену, покрытую снегом, и большущий, прыгавший по волнам пароход…» Всё это в дальнейшем, особым образом преломилось в сознании художника, «обозначившись» в его непосредственной творческой деятельности как постановщика и живописца.
Любопытно, что в возрасте семи лет будущий художник ещё не умел ни читать, ни писать – случай довольно-таки редкий в той социальной группе, к которой принадлежала семья Бенуа. У Николая Леонтьевича была хорошая личная библиотека, которая, конечно, занимала сына, но, как он сам впоследствии признавался, в ней его интересовали «не тексты, а картинки».
Подходящим заведением для обучения юного Александра родители посчитали «Детский сад Фридриха Фрёбеля», частное воспитательное заведение Евгении Вертер, основанное на принципах известного немецкого теоретика дошкольного образования. Сам воспитанный в духе немецкой классической школы, Фридрих Фрёбель требовал от своих последователей воспитывать детей, исходя из принципов идеалистической философии Канта, Фихте и Гегеля. Через игру воспитатели старались раскрыть природные особенности ребёнка, развивать «свою сущность» и «своё божественное начало». Как в любом «киндергардене» (Kindergarten – детский сад, нем.) в заведении Евгении Вертер, было немало унылой дидактики, однако существовала и действительно интересная педагогическая новация – через игру воспитанников приучали быстро и легко переключаться с одной задачи на другую. Этот замечательный навык Александр Бенуа сохранил на всю жизнь. Утром он мог писать искусствоведческий трактат, днём – заниматься живописью, а вечером включаться в жизнь театра, всецело сосредоточившись на костюмах, сцене и декорациях.
Обучение в школе Фрёбеля длилось два с половиной года, и Александр Бенуа всегда с теплотой вспоминал это безмятежное время. Там он научился «читать и писать по-русски и по-немецки, а также первым правилам арифметики». Далее следовал подготовительный класс казённой гимназии и домашнее воспитание, поскольку поступить в классическую гимназию с таким багажом знаний было бы невозможно. В подготовительном классе случилась та же самая история, что и в «киндергардене»: «совершенно большому» мальчику-переростку пришлось сидеть на одних скамьях с «малышами». Благодаря такому запаздыванию и тому обстоятельству, что в восьмом классе ему пришлось просидеть целых два года, «счастливый избранник Феба-Аполлона» аттестат о гимназическом образовании получит лишь по достижении двадцати лет.
Гимназия императорского «Человеколюбивого общества», избранная родителями Бенуа по причине территориальной близости к дому, с первых же дней обучения не понравилась новому воспитаннику. «Я думаю, что она особенно претила моему вкусу, в ней был какой-то специфический – “слишком русский” – дух», – писал будучи в эмиграции Александр Николаевич. Александр Бенуа не расшифровывает в своих воспоминаниях особенности этого «русского духа», сославшись лишь на «казёнщину» и «мещанство», к которым он всегда «чувствовал непреодолимое отвращение». Вызывает удивление, что «француз» Бенуа, так уничижительно отзывающийся о русском духе, при встрече с «настоящим французом», нанятым в детстве родителями для совершенствования языка, Андре Потлетом, так и не обнаружил в нём «брата по крови», а поспешил поскорее от него отделаться. Всё, что Александр Бенуа почитал подлинным воплощением всего французского, у Андре Потлета наличествовало в должной мере, однако французский дух бывшего знакомца его быстро утомил, к тому же он не увидел в пресловутом «французском духе» ничего, кроме олицетворения вульгарности и пошлости.

В казённой гимназии будущий художник проучился пять лет, после чего вернулся в знакомую ему по школе Фридриха Фрёбеля систему немецкого образования, поступив в частную гимназию Карла Мая.
Новоиспечённого «майца», мечтавшего после гимназии «Человеколюбивого общества» только о Лицее, такой выбор отца, принявшего решение о его дальнейшем обучении, сильно расстроил. Однако вскоре он привык к новому заведению, и по причине заведённых там порядков, и благодаря личности его директора – Карла Ивановича Мая. Гимназия Мая имела большое значение для становления разносторонних дарований юного Бенуа, не говоря уже об обретении им круга близких друзей и единомышленников. Учебное заведение, называемое в народе «Майской гимназией», в отличие от гимназий классического образца имело наряду с чисто гуманитарным отделением, отделение с прикладной, инженерной направленностью. Эмблемой заведения был майский жук с раскрытыми крыльями, шутливо намекающий на фамилию своего основателя, последователя и продолжателя дела великого русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского. Преподаватели
«Майской гимназии» подбирались исключительно по принципу профессиональной одарённости, не говоря уже о том, что руководство учебного заведения предъявляло повышенные требования к моральному облику соискателей.
Вот некоторые основополагающие принципы обучения и воспитания гимназии К.И. Мая:
«От юного существа можно добиться всего посредством высказывания к нему доверия; пример преподавателя – самое действенное средство воспитания; ценны не голые сведения, а внутренняя просвещённость, чутьё правды, сила воли; пусть пути будут различны, но образование и воспитание, во всяком случае, должны оставаться конечной целью всякого преподавания…»
Система обучения предполагала взаимное уважение сторон – как обучающих, так и обучающихся, индивидуальный подход к каждому гимназисту и вовлечённость семьи в процесс обретения знаний и воспитания. Поэтому неудивительно, что в числе гимназистов были не только дети виднейших представителей столичной интеллигенции, но и дети аристократов. В этом смысле заведение К.И. Мая вполне могло конкурировать с Александровским Императорским лицеем, переведённым в 1843 году из Царского Села в Петербург.
Через гимназию Александр Бенуа познакомился с Константином Сомовым и Львом Бакстом, Дмитрием Философовым и Сергеем Дягилевым… А вот что он пишет о Николае Рерихе: «…Имя того моего товарища по гимназии Мая, который впоследствии приобрёл наиболее распространённую славу, – Н.К. Рерих. Но как раз в стенах нашей общей школы я общался с ним мало, и моим другом он тогда не стал. На то причина простая: он был двумя классами ниже моего, и встречались мы с ним лишь благодаря случайностям системы комбинированных уроков. Поэтому я мало что о нём запомнил в те годы – разве только, что это был хорошенький мальчик с розовыми щёчками, очень ласковый, немного робевший перед старшими товарищами. Ни в малейшей степени он не подпал влиянию нашей группы, да и после окончания гимназии он многие годы оставался в стороне от нас». У Александра ещё в ранней юности проявился яркий организаторский талант, он «рано стал ощущать в себе педагогическое призвание и потребность собирать вокруг себя единомышленников». Так в гимназии образовался некий школьный клуб, центром которого стала квартира сына архитектора, в основном по причине большой библиотеки и множества «наглядных пособий для просвещения». В каком-то смысле это стало репетицией формирования объединения творческих личностей на платформе общих взглядов и мировоззренческих позиций, каким впоследствии окажется «Мир искусства». Бенуа называл своё школьное содружество «приготовлением к чему-то большему». И он был прав, оставалось только немного подождать.
«Искусство… Вместе с зарницами личного счастья, – единственное, несомненное благо наше…»[2]2
Александр Герцен
[Закрыть]
«Старайся увидеть в незнаемом светлые стороны его потаённой природы. Если они не сразу заметны, измени расстояние и ракурс: тогда возможно то, что тебе казалось тёмным, окажется светлым. Только так следует познавать суть вещей и явлений».
Восточная мудрость
«Что же касается моего отношения к искусству, то надо различать два момента: я в одно и то же время любитель искусства (и знаток его), я и творец-художник. Иначе говоря, я являюсь и получающим и дающим субъектом».
Художник и искусствовед в одном лице – явление не такое уж редкое в отечественной культуре, хотя совмещение художественной практики с теоретическими изысканиями требует особенного таланта. Художник, как правило, смотрит на произведение искусства с позиций собственного творчества и ему очень непросто быть непредвзятым в суждениях и оценках. Но у художника Александра Бенуа такой особый талант был, не говоря уже об уровне гуманитарных знаний и широте взглядов, о которых много говорили его современники.
Если Стасов был душой и голосом творчества передвижников – наиболее яркого течения в живописи периода распространения демократических идей, то на долю Александра Бенуа выпала иная роль: быть выразителем нового веяния в искусстве, явления гораздо более сложного и противоречивого, однако также вызванного общественными настроениями в среде российской интеллигенции.
Разночинная интеллигенция со второй половины XIX века стала полностью определять социокультурную жизнь страны, в то время как дворянство, образованной части которого мы обязаны «Золотым веком» русской культуры, потеряло всяческое влияние и фактически растворилось в обществе. В отличие от дворянства русская интеллигенция была принципиально неоднородна, однако, начиная с екатерининских времён, у неё обнаруживаются общие «родовые черты», такие как необузданный индивидуализм, аристократический скептицизм и безыдейная сатирическая фронда.
Вот что писали о «властителях дум» того времени современники Бенуа – писатели и философы.
Н. Бердяев: «Русская история создала интеллигенцию с таким душевным укладом, которому противен был объективизм и универсализм, при котором не могло быть настоящей любви к объективной, вселенской истине и ценности».
С. Франк: «Если можно было бы одним словом охарактеризовать умонастроение нашей интеллигенции, нужно было бы назвать его морализмом. Русский интеллигент не знает никаких абсолютных ценностей, никаких критериев, никакой ориентировки в жизни, кроме морального разграничения людей, поступков, состояний на хорошие и дурные, добрые и злые».
П. Новгородцев: «…Идейные источники утопического сознания русской интеллигенции лежат за пределами русской действительности. Отыскать их не представляет труда: они восходят, несомненно, к тем социалистическим и анархическим учениям, которые в европейской мысли XIX века представляют собою самый яркий пример рационалистического утопизма и безрелигиозного отщепенства. В свою очередь, и утопические учения социализма и анархизма имеют свои прообразы в утопизме французской революционной доктрины XVIII века с её верой во всемогущее значение учреждений, в чудесную силу человеческого разума, в близость земного рая. Отсюда можно провести длинную цепь преемственности идей к ещё более старым учениям национализма и утопизма. Столь же древние корни имеет и то другое течение русской интеллигенции, которое ведёт свою генеалогию от Чаадаева, Достоевского и Влад. Соловьёва…»
И. Ильин: «…Интеллигенция делала обратное своему призванию и не только не строила здоровый дух русской государственности, но вкладывала свои усилия и свой пафос в его разложение».
Ограничимся этими высказываниями, хотя можно было бы привести суждения более резкие и категоричные. В конце концов, нам интересно, как из такой среды смог выйти служитель Аполлона Александр Николаевич Бенуа, и какие идеи российского общества конца XIX века послужили для него мировоззренческой основой. Ведь и он, и все его друзья и сподвижники – выходцы из той самой интеллигенции рубежа веков и, как оказалось впоследствии, рубежа времён.
Осенью 1890 года, оставив надежды на профессиональное образование в Академии, отношения с которой у начинающего художника не сложились по причине его завышенной самооценки и неготовности принимать существующие принципы художественного обучения, Бенуа поступает в Императорский Санкт-Петербургский университет на юридическое отделение. Такой выбор, в сущности, был ничем не мотивирован, разве что возможностью более свободно распоряжаться своим временем. Определённая вольность обучения на факультете позволяла иметь студенту достаточно свободного времени, что было весьма привлекательно для будущего художника и искусствоведа, позволяя ему «осмотреться, самоопределиться, понять, куда… действительно тянет». Ещё неизвестно, как бы сложилась жизнь Александра Николаевича, останься он в 1887 году в стенах Академии, куда стараниями отца его определили на подготовительное отделение. Вполне возможно, что он повторил бы судьбу двух своих братьев, воспитанников этого заведения. Но, будучи формально независимым и от «школы», и от корпоративной солидарности художественной среды, он сумел на удивление успешно воспользоваться своей независимостью. Ещё в последнем классе гимназии Бенуа сформировал вокруг себя «Общество самообразования» – пока без определённых целей и без каких бы то ни было планов на будущее. Так, на всякий случай. А случай, как известно, всегда благоволил Александру Николаевичу. Вот как он сам рассказывает об этом событии: «Осенью 1889 года мы, гимназисты 8-го класса, сочинили полушуточный устав для нашего общества и дали ему тоже полу– ироническое название “Общество самообразования”. Через несколько же месяцев к нам присоединился ученик Академии художеств Лёвушка Розенберг (Бакст), а через ещё несколько месяцев, ранним летом 1890 года, вступил в наш кружок и приехавший из Перми Серёжа Дягилев. Осенью 1890 года мы всей компанией (кроме академиста Бакста) поступили на юридический факультет, и все в том же составе мы проделали в университете переход к молодости».
Пришествие Дягилева в компанию молодых энтузиастов очень много значило как для самого Бенуа, так и для всей его группы. Александр Бенуа в своих воспоминаниях, в сущности, отдаёт ему пальму первенства во всех интеллектуальных начинаниях «Общества самообразования». Для убедительности приведём одну большую цитату, свидетельствующую об этом.
«Не будучи одарён каким-либо талантом к рисованию, к живописи, к скульптуре (он никогда и не пробовал своих сил в этих отраслях), Дягилев и сам считал себя если не полным профаном, то всё же любителем, дилетантом (в итальянском понимании слова), и мнения авторитетов среди его ближайших друзей-художников – моё, Бакста и Серова – являлись для него абсолютными. Всё же и здесь он готовил нам сюрпризы. Какими-то скачками он перешёл от полного невежества и безразличия к пытливому и даже, страстному изучению, причём он как-то вдруг приобретал компетентность в вопросах, требовавших значительной специализации…Постепенно он приобретает облик того Дягилева, каким он выступил, когда вполне осознал (вернее, почувствовал) свою миссию. Таким созревшим Дягилевым знали его все, кто впоследствии входил с ним в общение, все, кто вступал с ним в сотрудничество, кто видел его во время творчества.
Именно на вопросе о творчестве надо остановиться, ибо творчество и есть основа и смысл его существования. При этом всё же трудно определить, в чём именно это его творчество заключалось. Картин Дягилев не писал; за исключением нескольких (очень талантливых) статей, он не занимался писательством, он не имел ни малейшего отношения к архитектуре или к скульптуре, а в своём композиторстве очень скоро совершенно разочаровался; запустил он и пение. Иначе говоря, Сергей Дягилев ни в какой художественной области не был исполнителем, и всё же вся его деятельность прошла в области искусства, под знаком творчества, созидания. Я совершенно убеждён, что и при наличии всех представителей творческого начала в искусстве (в музыке, в литературе, в театре), при участии которых возникли выставки “Мир искусства” и в течение шести лет издавался журнал того же наименования, при наличии тех, кто принесли свои таланты на дело, ныне вошедшее в историю под названием “Дягилевские русские спектакли”, и т. д., я убеждён, что и при наличии всех этих сил, ни одна из названных затей не получила бы своей реализации, если бы за эти затеи не принялся Дягилев, не возглавил бы их, не привнёс бы свою изумительную творческую энергию туда, где художественно-творческих элементов было сколько угодно, но где недоставало главного – объединяющей творческой воли.
У Дягилева была своя специальность, это была именно его воля, его хотение. Лишь с момента, когда этот удивительный человек “начинал хотеть”, всякое дело
“начинало становиться”, “делаться”. Самые инициативы его выступлений принадлежали не ему. Он был скорее беден на выдумку, на идею. Зато он с жадностью ловил то, что возникало в голове его друзей, в чём он чувствовал зачатки жизненности. С упоением принимался он за осуществление этих не его идей. Случалось, что я, Бакст, Серов делали усилия, чтобы заразить Дягилева идеей, явившейся одному из нас, и что в ответ на это он проявлял полную инертность. Мы обвиняли его в лени (смешно сказать, но больше всего попадало этому неустанному делателю от нас за лень), как вдруг через день
(а то и через час) положение оказывалось опрокинутым. В глазах только что не верившего Серёжи загоралась радость делания, и с этого момента он сразу принимается выматывать у того, кто предложил идею, всё, что нужно для её реализации. Взяв навязанное дело в руки, он его превращал в своё, и часто с этого момента инициаторы, вдохновители как-то стушёвывались, они становились ревностными исполнителями своих же собственных затей, но уже понукаемые нашим вождём». Увлечённость искусством – музыкой, живописью и театром, а также влияние, которое оказывали молодые люди друг на друга, позволяло им выработать тот особый дух взаимопонимания, к которому некогда так стремились члены кружка «Общества любомудрия» Владимира Одоевского и Дмитрия Веневитинова. «Круг Бенуа» по-своему воплотил в жизнь основную идею «любомудров» – «искусства для искусства». Подобно «архивным юношам» Веневитинова, интеллигенты-разночинцы Бенуа эстетически и идеологически противопоставляли свои воззрения на жизнь и творчество консервативной ценностной системе общества, создавая собственную концептуально оформленную культурологическую модель. В какой-то степени это было рефлексией на навязчивый официоз, с его обскурантизмом и благочестием, ориентированным на богобоязненного мещанина, бесконечно преданного самодержавию, с невысоким уровнем духовных и культурных запросов. «Основные ноты мещанства – уродливо развитое чувство собственности, всегда напряжённое желание покоя внутри и вне себя, тёмный страх пред всем, что так или иначе может вспугнуть этот покой, и настойчивое стремление скорее объяснить себе всё, что колеблет установившееся равновесие души, что нарушает привычные взгляды на жизнь и на людей», – писал Максим Горький.
Разумеется, Бенуа и его друзьям был исключительно неприятен мещанин «контрреформистской» России Александра III, не способный «видеть ничего, кроме отражений своей серой, мягкой и бессильной души». В интеллигентской среде страны подобное отношение к мещанству являлось всеобщим. От суровости и казёнщины настоящего, столь милой сердцу истинного мещанина, Бенуа обратился к «пленительной поэтичности» прошлого, находя в нём свою спасительную Итаку. Именно отторжение неприемлемой действительности и её последующая метафорическая деформация, побудили Александра Николаевича Бенуа сделать странный на первый взгляд «уклон» в сторону культа прошлого, а вовсе не на те театральные впечатления, о которых он так красочно и подробно писал впоследствии. Вот как он объяснял этот ключевой момент своей творческой биографии:
«Этот уклон отразился затем на всей художественной деятельности нашего содружества – в наших повременных изданиях – в “Мире искусства”, в “Художественных сокровищах России”, а позже и в “Старых годах”; он же выявился в наших книгах – в дягилевской монографии Левицкого, в моей монографии Царского Села. Вообще этот наш пассеизм (ещё раз прошу прошения за употребление этого неказистого, но сколь удобного термина) дал вообще направление значительной части нашей творческой деятельности. Своим пассеизмом я заразил не только тех из моих друзей, которые были уже предрасположены к этому, как Сомов, Добужинский, Лансере, но и такого активного, погружённого в суету текущей жизни человека, как Дягилев…»
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?