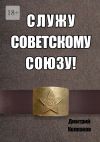Текст книги "По замкнутому кругу"
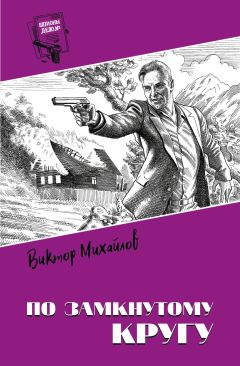
Автор книги: Виктор Михайлов
Жанр: Шпионские детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
«Шалаш» Яковлишина оказался емким – большая столовая, дубовый резной буфет, стулья в полотняных чехлах, прямоугольный стол, уставленный соленьями и копчением. В центре на стене висел поясной портрет свердловского епископа Флавиана и поменьше фотография священника, дьякона, групповой снимок церковного совета с прихожанами. Хорошо сфотографирована церковь Всех Скорбящих и вековые сосны.
Мы сели за стол. Женщин не было. Хозяин сам разлил по рюмкам «Столичную».
– Мне нельзя, – прикрыл я ладонью рюмку.
– Ну одну?
– Ни капли.
– Неволить не буду. Тогда кваску домашнего.
– Квасу с удовольствием.
Чокнулись, подняли в мою честь рюмки, выпили. Я обратил внимание на руки Черноусова: в заусеницах, с ломаными ногтями и въевшейся краской, особенно выделялся сурик.
– Отчего вы, Никон Фадеевич, не бережете руки? – спросил я.
– А как их убережешь?
– В перчатках можно работать…
– Что вы, разве можно в перчатках! Да и на мои руки где их взять? – Он положил на стол кисть крупной волосатой руки. – Вот Донату Захаровичу перчатки в самый раз. А я и зимой хожу в рукавицах.
– Никон руки портит машиной, – вставил хозяин.
– Водите машину? – поинтересовался я.
– Вон стоит во дворе «Москвич», – охотно ответил Черноусов.
За столом зашла речь о живописи.
– Если по секрету, – разоткровенничался я, – занимаюсь и я живописью. Очень заинтересован, Никон Фадеевич, вашим лаком.
– Охотно поделюсь, – сказал Черноусов. – А что вы пишете?
– Пейзажи Подмосковья.
– Надо вам поглядеть работы Доната Захаровича. Большой мастер!
– Если вы разрешите…
– Завтра воскресенье, с утра уйду на этюды, а часов в двенадцать – пожалуйста, – без особого желания ответил Юколов. – Живу я на Слободке у Марфы. Спросите, каждый покажет.
По дому слышались женские голоса, суетня. Где – то в двери мелькнул Мишкин веснушчатый нос.
Дородная женщина внесла на вытянутых руках большую миску со щами, бросила любопытный взгляд в мою сторону и ушла.
Видимо, Яковлишин возлагал большие надежды на «Столичную», а я спутал ему карты.
– Вот закончим иконостас с Донатом Захаровичем и махну на недельку в Москву, – шумно прихлебывая щи, сказал Черноусов. – Кто там у вас памятниками занимается?
«С запозданием, но все-таки проверка началась», – подумал я и ответил:
– Научно-методический совет по охране памятников культуры.
– Где совет помещается? – вступил в разговор хозяин.
– На набережной, в бывшей церкви Николы на Берсеньевке. Рядом еще палаты дьяка Аверкия Кириллова.
– А как там, не собираются дать команду здешнему начальству взять под охрану Всех Скорбящих? Все-таки восемнадцатый век!
– Вернусь в Москву, доложу, посоветуемся, – сказал я нечто загадочное.
Яковлишин сделал вид, что понял и такой ход дела уважает.
– Так оно, конечно, с кондачка такое дело не решишь.
– Скучно здесь у вас? – задал я ничего не значащий вопрос.
– Почему скучно? Радио слушаем, у некоторых телевизоры есть. Иной раз в картишки перебросимся. Вы преферанс не уважаете? – спросил Черноусов.
– И вы радио слушаете? – улыбаясь, я обратился к Юколову.
– Я человек старый. Ежели интересуюсь тем, что происходит в мире, покупаю газету. Признаюсь, редко. Больше меня природа трогает в своем первоздании. Я могу день просидеть в кедровнике да слушать птичий перехлест, беличью суету в ветках, хруст подсыхающего валежника.
– Божий человек, – ввернул Яковлишин.
– Вы верующий? – поинтересовался я.
– Я верю в человеческую совесть, она простерла над нами свои крыла…
Когда Юколов это говорил, глаза его были удивительно ясные, наполненные каким-то скитским покоем, тишиной забытого, старого погоста.
Обед как начался, так и закончился в молчании да еще сытом тяжелом оцепенении.
Еще раз напомнив Юколову, что завтра в двенадцать приду, я поднялся, снял пиджак, повесил на спинку стула и сходил во двор умыться. Затем, вернувшись в столовую, последовал за Яковлишиным в дом, там мне была приготовлена комната. Очень старая женщина указала мне постель со взбитыми подушками и ушла к самовару, где в одиночестве пила чай.
Оставшись один, я заглянул в карманы пиджака. Ход был правильный: кто-то из художников проверил содержимое карманов и еще раз удостоверился в моей личности.
Надвигался вечер. Тишина, ощутимая, почти зримая, стояла вокруг.
Я сел в старинное кресло и попытался осмыслить минувший день.
Скорее всего, секретом лака владеет Юколов, он настоящий художник, и секреты мастерства ему ближе. Юколов мог открыть рецепт Черноусову. Таким образом, конверт в одинаковой степени может принадлежать им обоим. Черноусов близорук и носит очки в металлической оправе. У Юколова отличное зрение, он работает без очков. Перчатки, чтобы скрыть экзему, конечно, абсурд. Нельзя все время больные руки держать в перчатках. Скорее всего, перчатки нужны, чтобы скрыть профессиональные признаки, по которым легко уличить преступника. Черноусов, пожалуй, прав: на его руку не найти нужного размера. Юколов мог бы легко подобрать перчатки – у него почти женская рука с сильными тонкими пальцами, но также в краске, глубоко въевшейся в поры. Перед обедом они оба мыли руки, но краска осталась, особенно сурик и французская зелень. Помнится, Глаша Богачева говорила: «бескорыстие», «доброта», «глаза добрые-добрые»… Эти эпитеты подходят Юколову и совершенно отпадают при взгляде на Черноусова. Художник Осолодкин дал характеристику Юколову: «бородат», «благообразен»… «мужик такой – из печеного яйца цыпленка высидит»… А где, в чем Осолодкин усмотрел эту цепкую изворотливость? Ведь то, что сказал Юколов, было разумно. Вряд ли Черноусов был способен на такое. А Юколов умен. Верно: благообразен, вежлив, как-то обтекаем, что ли.
Захотелось поговорить со своим человеком, перед которым можно оставаться самим собой, да и узнать новости: ведь Лунев выехал из Свердловска значительно позже меня.
Я вышел из дома. Чтобы не сбиться с пути, я выбрал прежнюю дорогу – через Слободку, мимо церкви к шоссе и оттуда на Поворотное. Дом Стромынского…
Вечер был безветренный.
Я шел быстро к холму, чернеющему невдалеке, поднялся по лестнице, вырубленной в скале, и вышел напротив паперти. Ку – пол лучился светом редких звезд. Черные кроны деревьев были недвижимы. Я постоял, поглядел и шагнул на дорогу, но меня окликнул незнакомый голос:
– Товарищ Никитин!
Я вернулся к паперти, и ко мне навстречу поднялся со ступенек московский студент Ковалихин:
– Не торопитесь?
Мне сразу не пришло на ум, что сказать, и я ответил:
– Да нет…
– Посидим. – Он подвинулся, уступил мне место рядом.
– Тишина какая!.. – Помолчав, он сказал: – Будем знакомы, Кирилл Ковалихин. Вы, наверное, думаете, студент за длинным рублем погнался… – Снова помолчав, он признался: – Меня действительно соблазнили деньгами. Жена ждет ребенка. Одна стипендия на двоих. А тут предложение. Согласился я, приехал, досталось мне писать Христа в состоянии невесомости. Я его с космонавта сдул, в «Огоньке» обнаружил. А лицо позаимствовал Юколова – без пяти минут христианский мученик…
– Поэтому вы лицо листом бумаги закрыли?
– Он мне знаете какой скандал устроил? «Перепишите, требует, иначе пожалеете!»
– Мне думается, Кирилл, вы к своей работе отнеслись легкомысленно. Ничего в вашем деле нет зазорного, а вы какую-то комедию из этого сделали.
– Небось считаете, что церковная роспись дело богоугодное?
– Нет, Кирилл, не считаю, но охрана памятников культуры – дело почетное, к нему надо относиться без насмешки. Я знаю честных людей, настоящих художников, одержимых творческой страстью, а стоят они месяцами по пояс в битой щебенке и занимаются тем, во что вы и не поверите. Они извлекают из мусора кусочки фресковой живописи, моют в воде, едва прикасаясь пальцами, и бережно укладывают на стенд с просеянным песком. Их глаза светятся радостью открытия…
– Где же такое?
– Верстах в трех от Великого Новгорода, церковь там есть такая – Спаса-на-Ковале. Да не одна она, много таких сооружений русского зодчества – его священная история. Нельзя, Кирилл, шутить этим.
– Вы и Всех Скорбящих ставите в ряд?
– Нет. Не ставлю. В этом сооружении нет ничего ценного и фрески плохие, ремесленные. Разве иконы Юколова, но и они хорошо выполнены, и только…
– Не Феофан Грек и не Симеон Черный, – вставил он со смешком.
– Скажите, Кирилл, у вас есть ключ от церкви?
– Есть.
– А свет на лесах?
– Электричество есть. Хотите посмотреть моего Христа?
– Да, Кирилл, очень хочу.
– Пойдемте.
Ковалихин открыл дверь. Мы вошли в церковь и поднялись по приставной лестнице на леса. Кирилл взял в одну руку лампу-времянку, висящую на шнуре, другой сорвал лист бумаги…
Лицо Христа было выскоблено до штукатурки.
На свежей краске остался след ножа с зазубринами.
И я вспомнил деревянные плашки в руках капитана Трапезникова.
Хельмут Мерлинг
Сутра я читал увлекательную книгу о Новгороде Великом, а без десяти двенадцать собрался к Юколову.
На улице ветром несло тополиный пух. В середине августа тополиный пух! Неужели цветут тополя?
– Где здесь дом Марфы? – обратился я к прохожему.
– Марфы-собачницы?
– Это почему же «собачницы»? – удивился я.
– Марфа собак держит, торгует щенками. Из шерсти вяжет рукавицы. Вон пух летит, стало быть, она своих псов вычесывает. Третий дом направо, с голубыми ставнями.
Направился я в третий дом направо. Еще близко не подошел к воротам, как поднялся неистовый собачий лай.
Калитку мне открыл Юколов.
Под яростный лай собачьей своры я торопливо вошел в дом и через хозяйскую половину в комнату художника.
На стенах комнаты висели десятка полтора этюдов и законченных картин, написанных в манере художников-миниатюристов. Одна особо привлекла мое внимание. Ничего особенного в ней не было, но почему-то я не мог оторвать от нее глаз. Две березки, меж ними качели. Рубленая стена домика в три окошечка. Старые, покосившиеся наличники. Настежь распахнуты рамы, сквозняком выпростанные ситцевые занавески и на подоконниках в буйном цвету герани. Красные, белые, темно-вишневого тона герани.
Я перешел к другим пейзажам местной природы. Яркие, запоминающиеся уголки леса, приусадебные сады. Но вот этюд мужского портрета, мужественное лицо немолодого человека. Из-под ворота рабочей блузы выглядывает уголок морской тельняшки. Глаза смотрят сурово, углы губ опущены. Он курит голландскую трубку, поддерживая чубук кистью сильной руки с длинными пальцами.
– Это кто, моряк? – спросил я.
– Союз художников поручил нам писать портреты строителей для первомайской выставки. Это рабочий, по фамилии Дзюба, в прошлом моряк.
– Интересное, волевое лицо.
– Да. Я написал портрет, он был на выставке, его купило строительное управление.
Мы сели на старинный, красного дерева диван, бог знает как попавший к собачнице Марфе. На столе лежала «Шагреневая кожа» Бальзака, заложенная на странице.
Увидев книгу в моей руке, Юколов спросил:
– Любите Бальзака?
– Да. Философские вещи меньше, чем другие из этого цикла.
– Вот вы вчера интересовались, как в этой глуши мы проводим время. С утра ходил на этюды, затем хорошая книга, послеобеденный отдых. Мне под шестьдесят, Федор Степанович, огонек поугас, любопытство притупилось. Тихо катится тележка под гору по булыжной мостовой…
– Грустно что-то, Донат Захарович. Так владеть кистью, писать так вдохновенно, так мастерски и думать о тележке под гору. Один писатель сказал об этом еще ярче: «Едем с ярмарки». Но вы зря об этом. Право, зря!
Я осмотрел спартанскую обстановку комнаты. На вешалке висел плащ, подбитый шерстяной шотландкой. Шляпа и светлый шарф. Теплый вязаный жилет. Стеганая синяя куртка. Узкая железная койка застелена чисто и строго, по-военному. На тумбочке стопка книг. Очень хотелось полистать эти книги, но я воздержался. Круглый стол в углу. Гимнастическая резина с блестящими от частого употребления ручками. Мольберт с начатой картиной, закрытой пестрым головным платком. На столе кринка, видимо с молоком, и стакан.
Всякая попытка с моей стороны завязать разговор кончалась неудачей. Еще раз похвалив картины Юколова, я ушел.
До обеда еще было время – Яковлишин предупредил меня, что обедают они в три, – и я направился в Поворотное. Шел я быстро – сорок минут. Сразу нашел дом Стромынского. Во дворе привлек внимание ижевский мотоцикл. Навстречу мне вышел Лунев. Мы оба обрадовались друг другу.
– Знаете, Федор Степанович, я уже беспокоиться начал. Ну как?
– Идем по следу. Это ваш мотоцикл?
– Мой.
– Завтра, коли меня не подведет один парень, наш московский студент, будет срочное дело. Я занесу материал на экспертизу. Надо срочно установить идентичность ножа. Гоните в управление, нажимайте везде, где только можно, чтобы экспертиза была выполнена срочно, и привезите мне. Есть что-нибудь новое?
– Есть. Допрошены стюардессы обоих рейсов. Они сошлись в описании старика, это он – «Маклер»! Брезентовый плащ, очки, перевязанные тряпицей на переносье, борода, усы.
– Протокол есть?
– Здесь, при мне. Предъявить им для опознания снимки?
– По этим фотографиям они не опознают, у нас есть опыт. Но скоро, боюсь об этом говорить, скоро они понадобятся. Держите с ними связь. Это все?
– Пока все.
– Я спешу на обед к трем часам. До завтра, Женя!
На следующий день, делая заметки в своем блокноте, я взял планы церкви и стал их тщательно изучать. Работал я усердно, так же как трое художников. Ближе к полудню, присев на солею у ног Юколова, я вытер пот со лба и с огорчением сказал:
– Хорошо бы, Донат Захарович, объемную модель вылепить…
– За чем же дело стало? – спросил он. – Пластилин захватить не догадался.
– Съездим после обеда на моей машине в Невьянск, купим, – сказал Черноусов.
– Как же, найдете вы в Невьянске пластилин! – с лесов отозвался Ковалихин. – Я из Москвы привез, но ни разу не пользовался. Могу с вами поделиться, инспектор!
– Буду очень признателен, – обрадовался я.
Ковалихин спустился с лесов, держа под мышкой завернутый в марле пластилин.
– Разрешите? – спросил он и, не дожидаясь разрешения, выдернул нож из щели солеи возле Юколова, развернул марлю и отрезал кусок. Нож был каленой стали, хорошо заточен, но с зазубринками, хорошо отпечатавшимися на куске пластилина.
– Отличный у вас нож! – похвалил Ковалихин. – Лезвие я вытер, – сказал он, возвращая нож Юколову.
– Ничего, я им вместо шпателя пользуюсь, – ответил тот и взял нож не глядя: в это время он прописывал какую-то деталь иконы.
– Вот хорошо, не придется в Невьянск ехать, – продолжил я разговор. – Я модельку сделаю, а вы, Донат Захарович, подправьте тогда, если что не так будет…
Юколов согласно кивнул.
Чтобы не возбуждать подозрения, я еще с час поработал, затем, простившись, предупредил:
– Иду домой. Скажите Брониславу Хрисанфовичу, к обеду буду.
Окрыленный удачей, я быстро пошел домой. Высыпал из металлической коробки зубной порошок, вымыл ее тщательно, обложив ватой, упаковал пластилин.
Через минут сорок, вручая Луневу перевязанную коробку, сказал:
– Гоните, Женя, что есть сил на вашем «ижике»!
– Федор Степанович, трудно так, не зная существа дела. Можете мне объяснить, что к чему?
– Что понимается в криминалистике под понятием «след»?
– След – это всякий материальный признак, возникший в результате каких-то явлений, связанных с событием преступления, – отчеканил Лунев.
– Очень заумно, Женя, но в общем-то правильно. А в трасологии следом называют отображение внешнего предмета на другом предмете или веществе. Такой след позволяет установить тождество, этот ли именно предмет оставил след. Причем в данном случае нож обладает индивидуальными особенностями в виде зазубрин, заусениц, выщербин. Преступник отрезал ветки деревьев, они отпилены в виде плашек, на торцах остались следы…
– А где, у кого эти плашки?
– Я их видел у Трапезникова. Но все материалы по делу сосредоточены в управлении.
– Все ясно, Федор Степанович, буду через час в управлении.
Я не успел перейти шоссе и углубиться в проселок, как мимо меня промчался Лунев на мотоцикле по направлению к Свердловску.
Встреча в «шалаше» Яковлишина прошла, как всегда, бесцветно, но после обеда художники заторопились, а я, рассчитывая поговорить с хозяином наедине, задержался. Мы остались одни за большим столом, медленно прихлебывая из стаканов чай. Потом я понял, что Черноусов и Юколов тоже ушли неспроста.
– Так вы говорите, Федор Степанович, что окончательное решение совета взять или не взять церковь под охрану будет в значительной мере зависеть от вашего доклада в Москве? – как бы невзначай спросил Яковлишин.
– Нет, Бронислав Хрисанфович, я этого не говорил. Насколько мне не изменяет память, я сказал: вернусь, доложу.
– В этом нет никаких противоречий. От того, как вы доложите, что посоветуете, зависит решение совета.
– Вы переоцениваете значение моего доклада. В научнометодическом совете работают люди знающие и достаточно само стоятельные.
– Простите за нескромный вопрос, Федор Степанович. Сколько вы получаете зарплаты? – Гладкое, без растительности лицо Яковлишина выражало крайнюю доброжелательность.
– Не понимаю вашего любопытства, – сказал я, хотя уже давно понял, к чему он клонит, – но ответить могу: я получаю сто двадцать рублей.
– Хватает?
– Не жалуюсь.
– А если церковный совет подкинет вам рублей, скажем… пятьсот? – Он произнес цифру и стал с интересом глядеть через окно во двор, где Мишка загонял хворостиной в сарай телка.
– За какие же такие мои услуги вы мне пятьсот рублей? – спросил я с усмешкой.
– Кто нас помнит, того и мы помянем.
– Так вот, Бронислав Хрисанфович, вы этот разговор забудьте. Не было его.
– Понимаю.
Возле дома, взвизгнув, затормозила машина, в калитку вошел Вано Трушин, спросил, здесь ли я, и передал мальчугану синий конверт. Мишка в столовой вручил мне пакет.
Я вскрыл конверт.
«Уважаемый Федор Степанович!
Сегодня в Управлении культуры облисполкома в семь часов вечера состоится заседание добровольного Общества по охране памятников старины.
Повестка дня:
Обсуждение плана восстановительных работ по реконструкции бывшего Харитоновского дворца – памятника культуры начала девятнадцатого века.
Прошу Вас временно прервать Вашу командировку и вернуться в Свердловск.
С приветом.
Инспектор Гаршин».
Я дал письмо Яковлишину, он прочел и спросил:
– Вы что же, не вернетесь?
– Вернусь. Сколько я должен вам за питание?
– Да что вы, помилуй бог, Федор Степанович!
– Давайте не будем ссориться! Рублей по пять за день? – Я положил на стол пятнадцать рублей и быстро пошел к двери. – Мы не прощаемся!
В доме, где я остановился, забрал портфель, плащ, расплатился с хозяйкой и пошел в церковь; Яковлишин уже был там и успел рассказать о моем внезапном отъезде. Художники простились со мной, спустился с лесов и Ковалихин. Я сел в машину, и Трушин включил скорость.
Очевидно, были важные новости, если полковник Шагалов срочно вызывал меня.
Всю дорогу до Свердловска я нервничал. Как назло, под Верхней Пишмой спустил баллон. Вместе с Трушиным мы быстро поставили запаску и к восьми часам вечера добрались до города. Водитель затормозил возле облисполкома. Я забежал в подъезд, выждал, пока Трушин уехал, решив, что до управления придется добираться пешком, вышел на улицу и увидел «газик» Машкова.
Полковник Шагалов был в кабинете.
– Вот и вызвал вас, Федор Степанович, как договаривались, – сказал он, направляясь ко мне навстречу. – Пришел ответ из Москвы на запрос о Черноусове и Ежове. Читайте!
Я вынул из пакета документ и прочел:
«…на ваш запрос сообщаем:
Среди документов гитлеровского архива, поднятых в этом году со дна озера Теплиц-Зее имеется переписка концентрационных лагерей, в том числе письмо, в котором упоминаются фамилии Черноусова Н.Ф. и Ежова К.З.
“Вахмистру и рядовым эйнзацгруппы “С-7”, принимавшим участие в акции “Кугель” по освенцимскому транспорту от 26 января 1944 года: унтершарфюреру СС Гансу Штопке, рядовым Н. Черноусову, С. Рауху, Ф. Лундману, К. Ежову и Р. Вазе выдача особого рациона спиртных напитков с медицинской точки зрения разрешается.
Гарнизонный врач войск СС гаубтштурмфюревр СС запаса – подпись ”.
Под акцией “Кугель ” (пуля) надо понимать расстрел военнопленных.
Научный сотрудник архива капитан Лесота».
Документ как бы все расставил по своим местам. 27 ноября 1941 года под Тихвином Черноусов и Ежов перебежали к врагу. Перебежчики становятся пособниками врага, их направляют в эйнзацгруппу. Когда же Советская Армия подходит к рубежам Пруссии, Черноусова и Ежова, как ценные кадры «вервольфа», переправляют в Кульмский лагерь военнопленных. Они получают задание: после освобождения лагеря частями Советской Армии вернуться к месту постоянного жительства и, приспособляясь всеми силами, ждать появления человека из Германии. Следовательно, агент, получив явку к Ежову и Черноусову, был переправлен через границу. Так «Маклер» приобрел крышу и легализовался.
– Думается, Владимир Иванович, пришло время оформить постановление, получить санкцию прокурора на арест и обыск. Не позже завтрашнего дня я дам вам третьего… Все равно сегодня вы уже не успеете связаться с прокуратурой. Где Лунев?
– На срочной экспертизе. Мне звонил эксперт, жаловался на его настойчивость…
– Да, действительно экспертиза срочная… Что с Авдеевым?
– Никаких изменений.
– Наблюдение за Ежовым и Магдой?
– Также ничего существенного. Кстати, «Магду» зовут Мелания Егоровна, фамилия ее Тутошкина. А как у вас?
– У меня новостей полно, но давайте наш разговор отложим. Помните, в цепочке Авдеев – «Маклер» не хватало нескольких звеньев. Кажется, они вырисовываются, и цепь будет замкнута.
В кабинет вошел Лунев, радостный, возбужденный.
– Федор Степанович, полная идентичность! – сказал он, протягивая мне заключение экспертизы.
Я прочел документ и, передавая его Шагалову, невольно включился в состояние Лунева.
– Вот вам и третий – Донат Юколов! Можно с уверенностью предъявить ему обвинение в убийстве Тарасова. Вот что, Евгений Корнеевич, разыщите капитана Гаева, объясните ему, как добраться до общежития стройуправления. Пусть он срочно привезет ко мне в гостиницу Александра Саввича Дзюбу. И скажет Дзюбе, что он очень нужен, что разговор будет коротким и после мы его домой доставим на машине. Дзюба вас знает, поэтому я поручаю это Гаеву.
В гостинице я принял ванну, побрился и, чувствуя себя бодрым и свежим, приготовился к встрече. Ждать пришлось недолго. Постучав, в номер вошел Гаев с Дзюбой; он был в блузе, изображенной на этюде, тельняшке и в чем-то вроде робы, но на «молнии» и с вязаным воротником. Его густые вьющиеся волосы с проседью были мокры от начинающегося дождя.
Спросив разрешение, Дзюба набил трубку, раскурил и удобно устроился в кресле.
– Я должен извиниться перед вами, Александр Саввич, что побеспокоил в поздний час, но время не терпит. Скажите, в середине апреля ваш портрет для выставки писал художник?
– Писал.
– Сколько сеансов вы ему позировали?
– Три.
– Где он вас писал?
– В комнате общежития.
– Вы живете в этой комнате один?
– Нет. Со мной проживает молодой рабочий Семен Авдеев.
– Авдеев присутствовал при сеансах живописи?
– Он следил с интересом.
– Говорил в вашем присутствии художник с Авдеевым?
– Нет. Но я обратил внимание на какую-то общность меж ними.
– В чем она заключалась?
– Парень оказывал художнику мелкие услуги, хотя это было не в его характере. Авдеев груб и заносчив.
– А мог парень общаться с художником помимо вас?
– Мог. На второй сеанс я задержался: вышел конфликт с бригадиром из-за нарядов. Я послал Авдеева предупредить художника. Когда вернулся, подходил к двери, то слышал какой-то разговор, но с моим приходом он прекратился. После третьего сеанса было поздно, художник опасался идти один, и парень вызвался его проводить. Вернулся он часа через два. Я спросил его: «Что так поздно?» Авдеев ответил: «Трепались!»
– На сколько вы опоздали во втором сеансе?
– Примерно на час.
– Вы знаете имя и фамилию художника?
– Донат Юколов.
– Вы могли бы узнать его по фотографии? – Я разложил перед ним снимки бородачей.
– По-моему, этот… – Он взял со стола фотографию Юколова.
– Вас не затруднит написать все, что вы мне сказали?
– Если надо…
– Надо, Александр Саввич, очень надо. Вот вам бумага, перо. Садитесь к столу.
Раздался звонок телефона. Гаев поднял трубку.
– Одну минуту. – И обратился ко мне: – Вас, Федор Степанович.
– Звонит полковник Каширин, – услышал я. – Можно его переключить на ваш телефон в номере?
– Пожалуйста, переключайте.
Наступила длительная пауза, во время которой я наблюдал за Дзюбой. Он отлично справлялся со своей задачей, писал легко, почти не задумываясь, попыхивая трубкой.
Наконец женский голос сообщил: «Будете говорить с Москвой».
– Федор Степанович? – услышал я голос Каширина. – Задал ты нам работенку!
– Простите, Сергей Васильевич, обстоятельства! – Я пододвинул к себе лист бумаги. – Слушаю вас.
– Хельмут Мерлинг, гамбургский немец. Прибыл в США в 1930 году; через два года принял американское подданство и работал в городе Цинциннати на шелкоткацкой фабрике художником по рисунку тканей. В 1940 году Мерлинг, вызванный телеграммой о смерти отца, выехал в Германию. В Берлине он два года учился в гитлеровской «академии» шпионажа и диверсии, а в сорок втором был заброшен в. Америку. В газете «Джексонвилл Стар» опубликована фотография Мерлинга. Мы сделали копию в пяти экземплярах и завтра утром высылаем со всеми материалами авиафельдсвязью. Я сообщил только существо дела, а подробности узнаешь из фотокопий репортажа. Три газетных подвала.
– Все ясно. Главное я записал. Спасибо! Утром буду звонить!
Я положил трубку. Дзюба уже ждал меня. Написал он грамотно и довольно подробно.
– Очень вам благодарен, Александр Саввич. Понимаю ваше естественное любопытство, но еще некоторое время не могу его удовлетворить. Очень вас прошу не разглашать нашего разговора. Авдеев ничего не должен об этом знать.
– Понятно.
– Слово?
– Даю слово!
– Николай Алексеевич, отправьте товарища Дзюбу на машине.
– Не надо. Схожу в парикмахерскую, постригусь. После доеду автобусом. – Он простился и вышел из комнаты.
– Соедините меня с Шагаловым, – поручил я Гаеву и углубился в свою торопливую запись. Заметив на лице Николая мальчишескую улыбку, я спросил: – Ты что?
– Телефон занят. А вы про мою улыбку? Так я, Федор Степанович, просто люблю, когда вы на этом этапе. Вы вот за собой не замечаете, а со стороны видней. Вы, как пружина, готовая спрямиться, нанести удар! У вас и походка другая, и голос молодой, звонкий!..
Я снова занялся сообщением Каширина.
– Полковник Шагалов? С вами будет говорить майор Никитин.
Полковник давно ждал меня, и я поспешил к нему.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?