Текст книги "Восторг и горечь (сборник)"
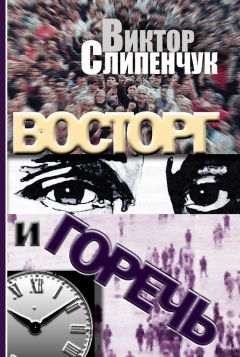
Автор книги: Виктор Слипенчук
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Пригласил меня в гости, дал адрес – недалеко от Пицунды. А так как я не зацикливался на семинаре, то решил съездить к нему. К тому же в те времена в Барнауле не было лука, а жена сказала: без лука не приезжай. Думаю, если что, хотя бы луку куплю.
Лохматый человек не обманул. Со всей его семьёй посидели. Меня они снабдили луком и десятилитровым пластмассовым бочонком с вином («изабеллой»). Приехал в Пицунду уже потемну, а поутру выхожу из комнаты – сидит в палисаднике одинокий-одинокий человек, совсем одинокий. Смотрю и поверить не могу – Конецкий, он ли?! Подхожу.
– Здравствуйте, Виктор Викторович!
– Ну здравствуй.
Стало быть, он. Говорю, я такой-то, из Барнаула, просил у вас рекомендацию. Он хмуро так ответил – не помню, вас таких здесь много.
А он, оказывается, на фуршете по окончании семинара так горячо выступил против всех этих семинаров, семинаристов и писателей-учителей, плодящих графоманов. Но я-то не был на фуршете, добывал лук. И меня задело – вас таких здесь много. Говорю, но вы же написали мне в письме, что отдали мои книги полякам на момент перевода.
– А, так ты за гонораром пришёл?!
Поодаль от него сел на лавку, сижу, сказать нечего. Сижу, а в мозгах одна мысль – надо уходить, ещё подумает, что действительно жду гонорара. А он взглянул на меня и словно мысль прочитал, со злым ехидством подытожил:
– Сидишь, ждёшь?!
– Да ничего я не жду, – встал и пошёл к себе.
Он остановил – слушай, старик, у тебя не найдётся опохмелиться?
К моей комнате подошло ещё человек пять. Что-то как бы по воздуху передалось. Так, гуськом, друг за другом, и вошли в мою комнату. И такой хороший разговор получился о писательстве, о предназначении писателя, о человечности.
Где-то в обед за мной провожающий прибежал, сообщил, что руководитель нашего семинара Виктор Андреевич Ильин (прекрасный, незаслуженно забытый очеркист) сказал, чтобы немедленно шёл в автобус, на самолёт опаздываем. Я схватил что мог, а на мешок с луком рук не хватило. Виктор Викторович вскинул мешок себе на плечи, и мы побежали к автобусу.
Автобус фешенебельный, с затемнёнными окнами, как витрина роскошного магазина. А мы с какими-то сумками, мешками. Все расступились – Виктор Викторович Конецкий, живой классик. А он прошёл в автобус и, по-моему, кого-то нарочно мешком зацепил. Мы обнялись, больше для окружающих, он вышел из автобуса, и сразу дверь захлопнулась – поехали. Поехали, и тут Виктор Андреевич Ильин со свойственным ему добрым юмором заметил:
– Ну, знаете, Виктор Трифонович (он с первого дня семинара и потом всегда называл меня по имени-отчеству), я ждал от вас всего чего угодно, но чтобы классик помогал вам внести в автобус мешок с луком, – такого нет, не ожидал.
Разрядил обстановку.
А потом, уже много лет спустя, я послал Виктору Викторовичу свой рассказ, опубликованный в журнале «Слово» (к сожалению, это было время какого-то склочного размежевания писателей на «своих» и «чужих»), и он позвонил мне по мобильнику, мобильники тогда только входили в жизнь. Очень удивился, что я в Берлине. Восхищённо сказал: надо же – чудеса. Сообщил, что читать мой рассказ не будет, что он поэтому только и позвонил, чтобы я не обижался и не ждал ответа. И это тоже был жестокий урок того времени.
На следующий день я ему сам позвонил. Мы говорили о другом. Но в молчаливых паузах – прощались. Я сказал, что сразу после Берлина приеду к нему, но он не разрешил.
Проза Виктора Викторовича Конецкого полна сверкающих алмазных россыпей. Он умел говорить о поэзии как о замечательном путешествии, а о путешествии – как о замечательной поэзии. Он любил Виктора Петровича Астафьева и Василия Владимировича Быкова, которому в разговоре со мной всегда передавал привет.
17. – Вы автор как прозаических, так и поэтических книг. Какие особенности имеет проза поэта и поэзия прозаика?
– Наверное, такой вопрос имеет смысл в статистическом плане, если исследовать большое количество прозы поэтов и поэзии прозаиков. А в обычной жизни больше бросаются в глаза индивидуальные качества писателя. Когда в поэзии и прозе работают такие гениальные мастера, как Пушкин, Лермонтов, Бунин, практически невозможно по их произведениям производить сортировку – в какую корзину надо отправлять автора, где он больше поэт, а где прозаик. Всё исполнено на высочайшем уровне мастерства.
Единственное, что всегда отмечал для себя в прозе Пушкина, – у него проза голая, практически отсутствует живопись, свойственная Гоголю. Но значит ли это, что проза Пушкина уступает гоголевской или затмевается ею? Нет, и ещё раз нет. Тонкое наблюдение, владение словом иногда дают сто очков вперёд живописанию, и наоборот. Не случайно кому-то нравятся стихи Пушкина, а кому-то Лермонтова. А возьмите стихи Ивана Алексеевича Бунина и его же рассказы – ей-богу, решительно невозможно определить, в какую «корзину» – поэта или прозаика – надо «класть» этого мастера слова.
Лев Николаевич Толстой восхищался прозой Лермонтова. Именно прозой. Он считал, что из Лермонтова получился бы величайший прозаик.
Мне представляется, когда писатель держит себя в хорошей рабочей форме – настроение способствует угадыванию жанра произведения. Как говорится, по наитию иду к общежитию.
18. – Вы помните, когда написали своё первое стихотворение?
– Помнить не помню, но прикинуть могу – где-то в восемь-девять лет.
19. – В поэтический сборник «Свет времени» вошли стихотворения, написанные вами в разные годы. Их объединяют доверительная авторская интонация, желание осмыслить пройденный путь. Помните ли вы обеты, данные в юности?
– Обеды помню. Обеды в офицерской столовой, в которой мы, пацаны, ели на талоны военных лётчиков, воевавших в Северной Корее. Впрочем, об этом написано в повести «Смеющийся пупсик». А вот обеты, подобные Александру Герцену и Николаю Огарёву, присягнувшим на Воробьёвых горах пожертвовать своей жизнью за-ради борьбы с самодержавием, – такого не помню.
Хотя все мы были патриотами. Село Черниговка своей сутью делилось как бы на зоны. Собственно Черниговка и черниговцы: это средняя школа № 1 и семилетняя школа № 2. Станция Мучная: дети рабочих рисозавода, мехзавода, мы – колхозники, дети военных из гарнизона – всё это зона школы № 3. Дрались улицами и зонами. Колхозники считались самыми безответными, нас, колхозников, никому не возбранялось обзывать, бить и гнобить. Мы были рабами рабов. Сталинский посыл – чем ближе к коммунизму, тем жёстче классовая борьба – до того закомпостировал людям мозги, что вот совсем недавно известный театральный режиссёр Юрий Петрович Любимов вдруг сравнил работу своих таганских птенцов с колхозом. Маразматическое сравнение, как говорится, ни к селу ни к городу, но тем наглядней продемонстрировал идеологический маразм существовавшего в нашем советском обществе классового неравенства заводского рабочего и колхозного крестьянина.
И всё же мы, колхозники, росли патриотами своего села, своего государства. Нам хотелось, чтобы наша Черниговка была лучшим селом Приморья. И село таки было лучшим. В наше время все улицы были озеленены. Мой отец, председатель колхоза имени Молотова Трифон Аксентьевич Слипенчук, уделял особое внимание благоустройству села. Возле шоссейных трасс были вырыты отводы для воды – в Приморье не редкость затяжные дожди. Я, как сын председателя колхоза, искренне мечтал, чтобы Черниговка наполнилась Героями Советского Союза. Чтобы вот так просто шёл куда-нибудь и мог встретить настоящего Героя, потому что с детства знал, что всюду, где есть они, на них дивятся и восторгаются местом, где они родились или живут.
Когда прочёл «Дерсу Узала» Владимира Клавдиевича Арсеньева, а потом услышал в одноимённом фильме гениального Акиры Куросавы упоминание о Черниговке (там кто-то, идя по железнодорожной насыпи, сказал, что до Черниговки осталось восемьдесят километров), – представляете, не сто, не двести, а ровно восемьдесят, – и сразу мостик – «80 000 километров под водой» Жюль Верна, и Черниговка уже не Черниговка, а в некотором роде таинственный порт приписки «Наутилуса» капитана Немо. Восемьдесят километров до Черниговки! Я был на седьмом небе. Мне очень хотелось, чтобы в Черниговке было как можно больше знаменитых, известных людей и о моей родной Черниговке знали хотя бы чуть-чуть даже в Москве.
20. – Ваши стихи на аудиодиске читают народные артисты России Александр Филиппенко и Михаил Козаков. Расскажите, как складывалось сотрудничество с ними?
– Никак не складывалось, то есть сотрудничества, в полном понимании этого слова, не было. И не надо думать, что автор или артисты в том виноваты – нет, никто не виноват. Помните стихи великого Расула Гамзатова?
Если верный конь, поранив ногу,
Вдруг споткнулся, а потом опять,
Не вини его – вини дорогу
И коня не торопись менять.
«Не вини коня» – очень точное наблюдение. Мы живём в такое время, когда художник как творец не представляет интереса. Во всяком случае, в мире денег, где главным движущим постулатом является покупка и продажа, он не в состоянии конкурировать даже со своими произведениями. Они в цене, они за большие деньги принадлежат музею или какому-то частному коллекционеру, а художник в это время может прозябать и умереть под забором. Нечто подобное произошло с французским поэтом Полем Верленом. Журналисты находили его на чердаках, в подвалах, записывали его гениальные строки, а потом публиковали в своих газетах и журналах и таким образом увеличивали тиражи своих изданий.
В данном случае меня не интересует пристрастие Верлена к абсенту и его, так сказать, беспорядочная жизнь. Хочу лишь указать, что присутствие автора на рынке, где происходит приобретение его творений, не только не обязательно, но даже и не желательно. Начнёт ещё, чего доброго, не к месту кричать, что его гениальная картина не продаётся.
По моей просьбе разговаривал с народными артистами главный редактор журнала «МетроФан» (издание ИФК «Метрополь») Олег Зверьков. Он указал на мои стихи, которые я подобрал, а всё остальное – уже Александр Филиппенко и Михаил Козаков.
По-моему, стихи «Возвратясь из поездки раньше…», «У истоков будущей морали…» и «Какая мука – сидеть во Внуково…» очень сильно прочитаны Александром Георгиевичем. Мне сказали, что, придя на радио (на запись), он был окружён таким количеством поклонниц, что всё равно бы меня к нему не пустили.
Что касается прочтения моих стихов Михаилом Козаковым, то для меня было не важным, как он их прочтёт. Для меня было важным, что мои стихи читает Козаков. Этот артист запомнился мне с детства с первой же его роли в фильме «Убийство на улице Данте». Там он играл фашиствующего молодчика, убившего свою мать. Одно или два стихотворения Михаил Михайлович выбрал сам. Выбор стихотворения о художнике «Я кружу по городу, как шакал…» показался мне символичным. Я его привожу в дневнике-путешествии «Золотой короб» о поездке в Израиль.
Дело в том, что в 1999–2000 годах, как раз на двухтысячелетие Бога Иисуса Христа, мы с Галой, моей женой, совершили паломничество по святым местам и по не зависящим от нас причинам вместо двух недель пробыли на Святой земле ровно сорок дней. Об этом, как уже сказал, мной написан дневник-путешествие, в котором мы с женой упоминаем о Михаиле Козакове и о его пустующем театре в Яффе (о том, что Козаков вдруг, всё бросив, вернулся в Москву). Так что стихотворение о художнике, которое Михаил Михайлович по своему усмотрению прочёл на диск, я воспринял как привет мне. Мол, знаю-знаю, о чём ты там, в Тель-Авиве, судачил со своей супругой. И ещё меня убедил в этом его вопрос к главному редактору «МетроФана» – сколько мне лет?
В общем, никакого сотрудничества не было. Обычное разделение труда, обычный рынок и обычная работа по найму, за деньги. И тут рынку – моё невольное спасибо!
21. – В одном из стихотворений у вас есть превосходные строки:
Мне суть вещей открылась неожиданно
И стала частью моего сознания.
Под микроскопом в капельке обыденной
Вдруг отразились свойства мироздания.
Увидеть в малом большое – в этом и состоит талант художника?
– В вашем вопросе (№ 15) – каковы цели и задачи писателя сегодня, я уже ответил на этот вопрос в соответствии со своим пониманием призвания литератора. То есть для меня талант заключается в правдоподобном отображении сути характера. Главным предметом художественной литературы является характер. Эпоха только выпячивает те или иные черты характера. Запечатлеть характер в новом, ранее не встречавшемся сочетании качеств или чувств – это, как уже говорил, главная мечта поэта. И тут всё сгодится: и малое в большом, и большое в малом. Если удалось талантливо отобразить движение характера, то об остальном можно не тревожиться, потому что, как говорил Антон Павлович Чехов, что талантливо, то и ново.
22. – К сожалению, сегодня людям не до стихов. Канули в прошлое миллионные тиражи сборников поэзии, поэтические вечера, собирающие стадионы. В чём сегодня назначение поэзии?
– Мне представляется, что на этот вопрос уже был ответ, но, судя по тому, как вы его сформулировали, связав с тем, что ныне людям не до стихов, что в прошлом были миллионные тиражи сборников поэзии, а поэтические вечера собирали стадионы, вы, очевидно, уверовали, что назначение поэзии как-то связано с массовостью. Дескать, есть же поп-музыка, почему не может быть поп-поэзии? В этом смысле всё может быть, но ненадолго. В конце концов, всё возвращается на круги своя, и остаются единицы, действительные мастера художественного слова, поддерживающие вечный огонь поэзии. Как правило, их очень и очень немного. В Китае, например, в эпоху Тан (она длилась около трёхсот лет, с VII по X век) было издано две тысячи семьсот поэтов. Это эпоха наибольшего могущества Китая, именно в эту эпоху было изобретено книгопечатание, и первая напечатанная книга (тогда в Китае был широко распространён буддизм) называлась «Алмазная сутра».
Даже по сегодняшним меркам две тысячи семьсот поэтов – это очень много, но, когда мы говорим об этой эпохе, мы, как говорится, навскид вспоминаем трёх поэтов: Ли Бо, Ду Фу и Ван Вэя.
В позднее советское время издавались стотысячные тиражи не только Роберта Рождественского, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, но и стотысячные тиражи, например, Эдуарда Асадова и других ныне, возможно, незаслуженно забываемых авторов. Я далёк от того, чтобы кому-то выставлять оценки. В моём понимании все поэты, как эпохи Тан в Китае, так и у нас, достойны уважения. Большое количество поэтов – это же не большое количество алкоголиков и тунеядцев. Именно они, авторы стихов, свидетельствуют об образованности той или иной эпохи. И всё же, повторюсь, профессиональная работа с поэтическим словом – удел немногих, но именно они поддерживают вечный огонь поэзии, и это ни в какой мере не связано ни с тиражами поэтических сборников, ни с тем, что сегодня людям не до стихов. Бог дунет, и у поэта – стихи, и поверьте, и читатели найдутся.
Игорь Павлович, пожалуй, ваши вопросы под номерами 23 и 33 объединю, в моём понимании они перекликаются.
23. – Ваши книги популярны у читателей разных возрастных и социальных групп, потому что в них говорится о том, что волнует каждого человека, – о дружбе и верности, о любви и надежде. Как вам удаётся расположить к себе читателей?
33. – Писатель – ремесло одинокое, а в жизни вы общительный человек? Расскажите о своих близких, друзьях, родных.
– Начну по порядку, с двадцать третьего вопроса, но не буду разделять ответы.
Да, вот такой я весь из себя писатель, пишу о том, что волнует каждого, и читателю просто некуда деваться, он полностью в моих мозолистых руках. (Разумеется, шучу.) Но в вашем вопросе, Игорь Павлович, присутствует ответ. И невольно возникает соблазн согласиться с вами. И я бы с удовольствием согласился. В конце концов, никто не враг самому себе. Но увы! Как-то мне довелось выступать по ТВ РБК вместе с Антоном Михайловичем Треушниковым, владельцем издательства «Городец», которому я очень признателен. Они издали и дважды переиздавали мой сборник стихов «Свет времени», издали мой фантастический роман «Звёздный Спас» – словом, много сделали для меня как своего автора. По-моему, выступление на ТВ РБК, которое упоминаю, организовано тоже с их помощью.
И вот мы с Антоном Михайловичем Треушниковым в эфире, подчёркиваю, в прямом эфире. И он вдруг говорит, что писатель Слипенчук никогда не будет издаваться массовыми тиражами. Вот, думаю, ничего себе пророчество. Я даже не выдержал и возразил ему, мол, не надо – будет! Возразить-то возразил, а, придя домой, призадумался. С чего это он? Стал интересоваться у читателей – как пишу, понятно или не очень? А читатель мой такой доверчивый (может быть, у всех они такие?). Говорю читателю, мол, где-то слышал, что пишу недостаточно понятно, надо как-то постараться мне и писать более понятно, как вы считаете?
Отвечают едва ли не хором, наперегонки, причём кивают головами, сочувствуют. Да-да, пишете недостаточно понятно, надо как-то вам перестроиться и постараться писать более понятно. Это вам наше читательское напутствие.
В другой аудитории говорю уже в иной плоскости, мол, где-то слышал, что пишу без всяких новомодных выкрутасов и настолько понятно, что буквально всё разжёвываю, – как вы считаете, понятно ли пишу?
И опять наперегонки, и опять кивают головами. Да-да, вы очень понятно пишете. Ну до того разжёвываете, что нам, читателям, остаётся только глотать, и мы глотаем. Так что наше вам решительное напутствие: продолжайте и дальше так понятно писать.
А тут намедни разговариваю по Скайпу с главным редактором газеты «Аргументы недели» Андреем Ивановичем Углановым. У меня с этой газетой впервые в жизни сложились дружеские отношения, то есть в преамбуле к моим публикациям редакция иногда указывает, что В.Т. Слипенчук – их автор.
Разговор у нас абсолютно деловой, они разместили мои ироничные стихи из цикла «Примитивные», причём в двух газетах отвели на стихи по полосе. А я, вот такой «фон-барон», ещё остался недоволен задержкой с публикацией. Внешне так получилось, на самом деле был очень доволен. Они в прошлом году дали мою поэму «Путешествие в Пустое место» отдельной вкладкой. В советские времена отдельной вкладкой в газете, кажется, в «Известиях», давали стихи только Твардовского. Поэмы «За далью – даль», «Тёркин на том свете». Александр Трифонович был Человеком в полном смысле этого слова с большой буквы. Очень смело и бережно вёл литературное хозяйство. Я его иногда перечитываю, и советское время выглядит не таким уж потерянным и в его стихах, и в «Новом мире» вообще. Но вернусь к разговору с Углановым. Говорю: «Андрей Иванович, как вы решаетесь помещать мои стихи в газете? Ныне чтение стихов имеет практически нулевой рейтинг».
А он – мне: «Ваши стихи понятные. Читаю, и в них мне всё понятно. Но у вас политики много».
Упрёк относительно политики не воспринял. Политика – это жизнь. Великое произведение итальянского поэта Данте Алигьери «Божественная комедия», являющееся бессмертным памятником мировой литературы, – это же квинтэссенция политики всей Европы XIV века.
Говорю Угланову, ловлю на слове: «Вы не против, если прочту новое стихотворение “Человек в оконце”?» Выслушал. – «Ну, что я говорил? Всё понятно!» Вы представляете, какой для меня комплимент! Предлагаю ему: хотите, это стихотворение посвящу вам? Конечно, немного разволновались – не каждый день и я посвящаю стихи, и он принимает посвящённые стихи.
Так что, Игорь Павлович, был бы вам очень признателен, если бы вы поспешествовали мне с этой публикацией в «Вечерней Москве». Заодно бы и конкретно прочувствовали свою просьбу – рассказать о своих близких, друзьях, родных. Друзья и близкие не падают с неба, они рядом и познаются в общем деле.
ЧЕЛОВЕК В ОКОНЦЕ
Андрею Угланову
Солнце яркое светит,
Но меня не заметит.
Да и кто я для солнца —
Человек из оконца.
Человек из оконца,
Как пылинка для солнца,
Как пылинки частица,
Что на солнце искрится.
И мне кажется, солнце —
Это тоже оконце,
За которым нас знают
И тайком наблюдают.
Наблюдают сквозь солнце,
Как ты смотришь в оконце:
Как пылинка искрится,
Как твой разум струится,
Как восходит сквозь солнце
К человеку в оконце.
Что касается родных, то нас, детей, шестеро, три старших сестры и три брата. Я из них самый младший. Во время войны нас стало семеро (удочерили сестру Ларису, она одногодок со средним братом Эдиком). Все вышли замуж, и все женились, у всех дети, и у детей дети. Я уже четырежды внучатый прадед. Моя жена – Галина Михайловна Слипенчук. Если доживём до 2013 года, то справим с ней золотую свадьбу. Мой отец, Трифон Аксентьевич, и мама, Наталья Антоновна, – справляли.
У нас с Галой двое детей. Миша – старший, у него сын, наш внук Гриша. И дочь Наташа, у неё трое детей, наших внуков, – Ваня, Марфа и Глафира.
Миша закончил МГУ, профессор, доктор экономических наук, кандидат географических наук, недавно избран депутатом Еравнинского района Республики Бурятия, известный предприниматель, руководитель ИФК «Метрополь».
Наташа закончила сельскохозяйственную академию, Тимирязевку, кандидат экономических наук. Пытается дать детям европейское образование. Говорит мне: «Папа, подрастут внуки и переведут твои стихи и романы на все языки Европы и Азии». Молчу. А что скажешь? Отец мой, будучи председателем колхоза, с детства привил – если ты где находишься, то в силу своих возможностей несёшь ответственность за всех. Слипенчуковская ветвь. Так что ей и подумать о себе некогда. Ну да ладно.
Вы, Игорь Павлович, прислали мне тридцать шесть вопросов, и хотя понимаю, не все мои ответы придутся вам или вашей газете по душе, отвечаю на все, потому что не избалован вниманием прессы. Есть вопрос – должен быть ответ. Наберитесь терпения, это ваши вопросы.
24. – В России писательское слово всегда было камертоном общественных настроений, к нему прислушивались и «низы» и «верхи». Интересно, а к чьим словам прислушиваетесь вы, кто из современных писателей вам интересен и почему?
– Искренне сомневаюсь, что писательское слово было всегда (стало быть, является и ныне) камертоном общественных настроений и к нему прислушивались и «низы» и «верхи». Увы, увы, это не так. Ландшафт общественных настроений в начале XX века и вообще в XX веке не был однородным. Горы, степи, лесостепи, реки, озёра и так далее и так далее. Множество сословий, причём гордящихся своим сословием, являлись внутренне обособленными, лишь внешне соприкасаемыми структурами. Крестьянина интересовало одно. Разночинного интеллигента – другое. Купца – третье. Служилого чиновника – четвёртое. А рабочего пролетария – пятое. И так во всех сословиях, которых в царское время было более десятка. Газеты, журналы, книги художественной литературы обслуживали грамотную часть страны, то есть весьма ограниченную часть. И говорить, что к ним прислушивались и «низы» и «верхи», – это миф. Никто ни к кому не прислушивался, всем сословиям (поднимите газеты тех лет) достаточно было смысла жизни в своём сословии.
Но вот когда проводились стратегические реформы или начиналась война, то тут уже всё менялось. Ландшафт человеческих настроений становился более однородным, особенно во время затяжных войн. Вступали в силу общечеловеческие чувства: бесприютности, боли, холода, голода или невыносимых потерь. Ареал распространения печатной продукции увеличивался, а с ней – и вес писательского слова. Война, как говорится, равняла всех, разделительные стенки между сословиями становились прозрачными или исчезали вовсе.
Где-то в середине Отечественной войны советская власть помирилась с РПЦ, Русской православной церковью, а через неё – со своим народом. Никакого участия в этом писатели не принимали. Всё решила советская, то есть безбожная, власть единолично. Сейчас находятся знатоки, которые упрекают за это известных иерархов. Задним умом каждый из нас крепок. Но суть любой Церкви в том, что где народ – там и Церковь. Там, где Церковь, – там и народ. Какой бы ни была власть, она не может обойтись без народа. Правда, у любой власти есть средства принуждения, насилия, за которые так или иначе приходится расплачиваться. Иногда кровью своей, а ещё хуже – кровью своих детей и внуков. Мировая история накопила достаточно примеров на этот счёт. Но и здесь писатели всегда были как бы «сбоку припёка». На них всегда ссылались как на известный пример отношения к той или иной власти.
Во времена царизма Лев Николаевич Толстой возвысил голос. Встал как бы над царём и над Церковью. Результат известен – остался и без Нобелевской премии, и без креста даже над гробом.
В советское время Михаил Александрович Шолохов (у нас на ВЛК был курс о Шолохове и его творчестве) вполне мог закончить жизнь как предводитель белогвардейского казаческого движения на Кавказе. И вот ирония, как раз в тот момент закончить, когда в газете «Правда» (1938 г.) печатался его роман «Поднятая целина». Роман, воспевающий коллективизацию, воспевающий колхозы.
Всё это говорю не для того, чтобы кого-то предостеречь не возвышать голос, а к тому, что в моём понимании писатель сродни живому горну. Одному Времени дозволяется на нём трубить «подъём», другому – только «отбой», а для третьего – искореняется сама возможность звука на живом горне. Как это сделал колумбийский писатель, журналист Габриэль Гарсиа Маркес – дав антипиночетовский обет молчания.
Михаила Шолохова спас Сталин. Как оказалось, спас будущего лауреата Нобелевской премии. Спас от своих же клевретов, по сути, от самого себя спас. Кроме того, Шолохов был членом ЦК КПСС. То есть хочу подчеркнуть, что власть в состоянии не только похоронить того или иного писателя, но и поднять его, сделать знаменитым. Но, как говорил поэт Грибоедов, занимавшийся дипломатией по прямому долгу службы, «минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь».
С политиками дружить затруднительно, но к их словам, учитывая всё вышесказанное, всегда прислушивался и прислушиваюсь. А к писателям – не ко всем. Но всем – моё уважение и сочувствие. Все писатели обязаны прислушиваться не столько друг к другу, сколько к народу. Как ни крути, а творец языка, на котором мы говорим и пишем, – народ.
25. – Писатель острее других чувствует боль и надежды своего времени. Как вы относитесь к тому, что происходит в нашем обществе? Вы оптимист или пессимист?
– Вообще-то по своему складу отношу себя к оптимистам. Но вот только что разбился один самолёт, другой. Ушёл на дно в течение четырёх минут пассажирский теплоход «Булгария», а вместе с ним команда и его пассажиры. Это невосполнимые утраты, и если я отвечу, что оптимист и на всё смотрю оптимистично, то это покажется не только претенциозным, но и весьма странным. Сегодня все мы скорбим и зачастую уже воспринимаем обычные информационные программы «Вести», «Время» и другие как сводки боевых действий или бездействий нашей исполнительной власти. И что лукавить, откуда-то из души поднимается волна протеста – доколе?
И тут самое время остановиться и спросить себя: а что, министры наши будут за нас водить корабли, следить за техникой безопасности, чтобы многотонные генераторы не вырывало из станин крепления на гидростанциях? Чтобы не ослепляли лазерами наших лётчиков идиоты-злочинцы (лучшего слова им не нахожу)? Мы к месту и не к месту ориентируемся на Запад. Вот у них там – так-то и так-то, а у нас?! Может, и нам пора действовать, как действуют, например, простые обыватели-немцы? Неправильно припарковался, поставил машину на пустующее место инвалида, и сразу телефонный звонок в полицию с требованием, чтобы тебя оштрафовали по полной программе с вытекающими последствиями на право вождения машины. И так во всём: и в розжиге костров в неположенном месте, в замусоривании помещений и дворов и так далее и так далее. Тогда легче будет спросить и с министров, и с прокуроров-оборотней, и с оборотней-полицейских, и с военных, устраивающих под грифом секретности склады-могильники в соседстве с населёнными пунктами. Или мы ждём, как всегда, сверху ободряющего наказа на этот счёт?
В своих «Заметках с затонувшей Атлантиды» писал, что у меня из-за моей астмы дача в Крыму с советских времён. Сам её строил вместе с сыном, впрочем, всей семьёй строили, на каждый купленный гвоздь была квитанция для ОБХСС. Место дачи – степные каменистые выселки. С одной стороны – ракетчики, с другой – моряки. Сдуру написал о чистой тёплой воде в море (у нас вода теплее, чем в Ялте), о каменистом пляже, и что же?! Армию убрали, и началась всемирная стройка. За пять лет ещё один Черноморск вырос, не узнать мои выселки. Идут отдыхающие, в основном минчане и москвичи, и бросают мусор где ни попадя – пакеты, пластмассовые мятые бутылки, окурки, пачки из-под сигарет. Написал уже вторую вывеску с просьбой – не сорить – и указал стрелкой, где стоит контейнер для мусора. (Сам добивался его установки.) На три недели уехали с женой. Приезжаем. Дальше рассказывать нет смысла. Подошёл к ограде, где три недели назад висел красивый щит с просьбой, и закурил. Постоял, покурил, жена подошла. Вместе молча постояли, пошли во двор. Жена говорит: «Что же ты сигарету бросил под ноги и, главное, ещё и растёр?!» Бесконтрольно получилось, я же русский. А будь я немцем, наверное, заплакал бы и убежал куда глаза глядят. Простите меня, собратья, но порою не хочется быть таким русским, таким бесконтрольным. Наши министры, наши прокуроры, наши партийные деятели, больше похожие на бухгалтеров, – в общем, все наши начальники, они же такие, как мы, они из нас произросли. Ну, может быть, в чём-то более умные, более информированные (не без этого, конечно), но характер-то у них наш.
И тут, прежде всего себе, говорю: ладно вывеска с просьбой – напишу новую. Щит жалко, такой хороший щит в наших местах не сразу и найдёшь.
Впрочем, вернусь к началу нашего разговора и тоже с вопроса. Скажите, а что, прежде не было подобных техногенных катастроф? Не разбивались самолёты, не сталкивались поезда, не тонули корабли?! Один Чернобыль чего стоил. А сколько при советской власти замалчивалось, скрывалось под всякими записками «Только для служебного пользования» и документами под грифом «Сов. секретно»? Фасад государства всегда был чист, но что творилось за фасадом – одному только Богу известно.
Теперь достоянием журналистов становится буквально всё. И это вселяет надежду, что мы уже готовы воспринимать правду жизни без всяких прикрас. Ещё бы научиться взглянуть на себя честно, с достоинством и работать не показухи ради, а с любовью к ближнему своему. И вот здесь я – оптимист. Думаю, если хотим жить по-человечески, все к этому придём. Все в конце концов станем оптимистами или разбежимся по всем странам и континентам – в общем, куда глаза глядят. А земля наша всюду покрыта прахом отцов и дедов наших и ждёт от нас лишь одного – быть Человеком.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































