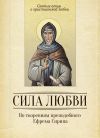Читать книгу "Трактат о любви. Духовные таинства"

Автор книги: Виктор Тростников
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Виктор Тростников
Трактат о любви. Духовные таинства
От автора
Эта книга для меня дороже любого из других моих текстов, ибо она – плод более чем тридцатилетних размышлений. Еще в семидесятых годах я почувствовал, что, не разгадав сущности любви, я не пойму в этом мире ничего, и, посвятив раздумьям на эту тему несколько лет, решил, что нашел наконец разгадку. Воодушевленный этим, я засел за пишущую машинку и напечатал самиздатовскую рукопись почти в пятьсот страниц «Мысли о любви». В кругу моих знакомых она пользовалась успехом – Владимир Высоцкий, например, сказал, что от неё «в полном восторге». Отрывки из моих «Мыслей» были напечатаны в журнале «Кубань» и ещё где-то, но полностью книга, к счастью, опубликована не была. Почему «к счастью»? По той причине, что положенная в её основу концепция была, как я понял много позже, неправильна. Я повторил ошибку Владимира Соловьева, считавшего, что экстаз влюблённых имеет божественное происхождение. Это придало моему сочинению резкий антифрейдовский пафос, приведший к тому, что заодно с ложью психоанализа о якобы присущих всем нам «комплексах» я отверг и его верное учение о «сублимации». Находясь все еще в своём соловьёвском заблуждении, я продолжал работать над книгой и сократил её почти вдвое. Эту редакцию согласились опубликовать в издательстве «Паломник» и взяли книгу в производство. Однако архимандрит Тихон посчитал, что такая тема более подходит для издательства Сретенского монастыря, и выкупил рукопись у «Паломника». Над текстом начал работать новый редактор и сделал много замечаний, которые рекомендовал мне учесть. Получив от него текст, испещрённый пометками на полях, я на время отложил его в сторону, так как был тогда занят чем-то срочным. И опять «к счастью», так как именно в этот период я начал осознавать феномен любви по-новому. Я глубоко признателен многим людям, мне помогавшим. Всех их не перечесть, но я не могу не назвать поименно Наталью Сёмину, Петра Проценко и Андрея Шулика, Дарью Ананьеву, Елену Колчанову и трёх моих дочек: Лену, Нину и особенно младшенькую, Лизу, которые вдохновили меня самим своим существованием. Лизоньке я и хотел вначале посвятить эту книгу, но потом понял, что она должна быть адресована всем любящим сердцам.
Виктор Тростников
От издателя
Умеем ли мы любить? Куда, в какие пространства проложит нам дорогу любовь, если попытаться довести её до логического умственного совершенства?
Новая книга «ТРАКТАТ О ЛЮБВИ. Духовные таинства» современного русского мыслителя Виктора Николаевича Тростникова видится весьма ценной тем, что в очень современной манере рассказывает о соотношениях телесного и духовного понимания любви. Можно сказать, здесь представлена квинтэссенция дискурса о любви, продолжающегося на всём протяжении христианской эпохи. Раньше, в трактовке Платона, любовь приобретала две основные сущности – «страсть» и «самопожертвование» (бескорыстное «агапэ»), обе они имели источником эстетическое чувство. Но, размышляя в контексте христианской этической культуры, важно подчеркнуть, что в своей земной человеческой любви личность по сути остаётся всё-таки равнозначной себе или группе людей, пусть даже в благости. А на дорогах к высшему пониманию любви личность способна приблизиться к познанию Бога. Погружение в воду, как некий пересмотр мира вещного и переход в новое состояние, а именно – крещение, – тоже находит своё место в этой концепции. Хорошо, что в книге Тростникова непростые размышления совсем не страдают сухой богословской «научностью» и не грешат ханжеством в отношении к плотской любви.
Этот путь от земного до небесного обрисован увлекательно, понятно и близко молодому и просвещённому современному читателю, который убедится, что любовь в её высшем проявлении есть любовь к Богу. И коллизии любви земной разрешаются в нашем представлении о Божественной Троице, которая в миру сродни Семье. Именно понимание сокровенной сущности Троицы, которое отличает христианство от ряда других монотеистических религий, и есть главная ценность, которую хранит Православие. Наверно, так любовь преходящая сливается с любовью вечной.
Р. Огинский
Часть 1
Цель предстоящего нам разговора – разобраться в значении одного-единственного, но часто употребляемого нами слова «любовь». Неужели же этому разбору надо посвящать целое исследование? Да, получается так, потому что слово-то одно, а значений много. Мешает ли многозначность нашей речи и письму? Как правило, нет. Услышав или прочитав слово, мы по всей фразе моментально понимаем, какое из его значений имеется в виду.
Но вот с «любовью» дело обстоит хуже. Правда, одно из значений опознаётся быстро. Каждому понятно, что «мой начальник любит лесть» или «моя дочь любит макароны» – это совсем не то, что «Ромео любит Джульетту» или «Господь любит праведных». В английском языке для макарон и вовсе другое слово употребляется – не «love», а «like». Но и взятое в более узком значении русское слово «любовь» – отношение между живыми существами, к которым можно причислить Бога, ангелов, людей и даже некоторых высших животных, например собак, – оставляет в себе несколько разных значений, которые мы сваливаем в кучу. В ней нам и придётся покопаться, раскладывая её содержимое по разным полочкам.
Место, которое занимает слово в нашей жизни, определяется выражаемым этим словом понятием, а различение понятий – дело не столько языкознания, сколько философии, ибо только она способна выявить сущность понятия, то есть его истинный смысл, чтобы по этому скрытому в нём глубинному смыслу его идентифицировать. Так что, взявшись за выполнение своей задачи, нам придётся немного пофилософствовать. И вот первый философский вопрос: отбросив ту любовь, где вместо «он любит» можно сказать «ему нравится», и говоря лишь о чувстве, связывающем между собой одушевлённые субъекты, можем ли мы выделить нечто такое, что присуще всем видам этой любви и является самым общим её признаком?
Посмотрим сначала, как об этом принято думать. В предисловии к изданной в первых годах ХХ века книге «Любовь в письмах выдающихся людей» известный поэт того времени Фёдор Сологуб писал: «Ни в чём так полно, радостно и светло не выражается душа человека, как в отношениях любви. Когда к человеку приходит любовь, могущественная сила, движущая мирами и сердцами, низводящая небо на землю и землю преображающая в сладостный Эдем, то в душе человека умирает всё случайное и раскрываются лучшие её стороны».
В чём же состоит это лучшее в человеке, дремлющее в обычном состоянии и просыпающееся лишь тогда, когда в сердце вспыхивает любовь? Сологуб отвечает на этот вопрос так: «Тот, кто любит, не только требует, но и отдаёт, не только жаждет наслаждений, но и готов к наивысшим подвигам самоотречения. Зажжённый любовью, он дерзает и на то, что превышает его силы».
Насчёт дерзновения тут всё правильно – всякий влюблённый с удовольствием повторит обещание киногероя: «С неба звёздочку достану и на память подарю». А как с остальным?
Мысль Фёдора Сологуба состоит из двух утверждений: 1) в любви раскрывается высшее человека; 2) это высшее в человеке есть альтруизм, отдавание себя другому, самопожертвование. Оставив в стороне вопрос о том, действительно ли отдавание себя есть проявление самого высокого, что есть в человеке, посмотрим, действительно ли влюблённость уничтожает эгоизм.
Фольклор вроде бы соглашается с этим. Вот песенка столетней давности: «Ваня Таню полюбил, Ваня Тане говорил: «Я тебя люблю, дров тебе куплю». И хотя Таня, как и положено невесте, набивающей себе цену, отвечает: «А дрова-то всё осина, не горят без керосина», всё-таки Ваня готов на материальную жертву, на покупку дров любимой Тане из своего бюджета. Разве это не альтруизм?
Жертвы, приносимые любящими, бывают и посерьёзней. В одном из своих рассказов Мопассан описал следующую жуткую историю. Юноша влюбился в некую девицу и признался ей в своей любви. Она пошутила: «Но ты ведь не бросишься ради меня с крыши?» Он моментально залез на крышу, бросился вниз и разбился насмерть.
Великий русский философ Владимир Соловьёв также отождествлял влюблённость с самопожертвованием. Вот его чеканная формулировка на этот счёт: «Смысл и достоинство любви как чувства состоит в том, что она заставляет нас действительно всем нашим существом признать за другим то безусловное центральное значение, которое, в силу эгоизма, мы ощущаем только в самих себе. Любовь важна не как одно из наших чувств, а как перенесение всего нашего жизненного интереса из себя в другое, как перестановка самого центра нашей личной жизни. Это свойственно всякой любви, но половой любви по преимуществу».
Заметим сразу, что термин «половая любовь» означает для Соловьёва любовь между полами в самом широком смысле, а не то, что мы в наш развращённый век воображаем при этих словах, – не одну только физиологию. Наше одичание достигло за последнее время такой степени, что слово «секс», означающее по-латыни «пол», мы воспринимаем как «совокупление», хотя изначальное разделение человечества на два пола имело гораздо более широкий смысл, чем обеспечение деторождения, которое, как показывают примеры низших животных, вполне может происходить без такого разделения. Это видно из Библии, где сказано: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1, 27). Этот текст нельзя истолковать иначе, как в том смысле, что в самом Божественном начале бытия, по образу которого создан венец Творения, присутствует фундаментальный дуализм, природу которого нам разгадать не дано, но который создаёт в мире некую «разность потенциалов», приводящую бытие в движение. В дальнейшем мы пристальнее вглядимся в эту дихотомию и с помощью Священного Писания обнаружим в ней наличие очень глубокого аспекта, совершенно не связанного с продолжением рода. Во времена Соловьёва ещё не было той примитивной трактовки слова «пол», которую навязала нам наша пещерная «массовая культура», поэтому, говоря «половая любовь», он не боялся, что выражение поймут иначе, чем понимает его он сам, – как сумму всех форм взаимного тяготения друг к другу противоположных полов, которые, в силу различия не только анатомического, но и психического, являются друг для друга несколько загадочными и потому интересными, а также необходимыми для обретения полноты в качестве дополнения. Не надо забывать, что перед тем, как создать Еву из ребра Адама, Господь сказал: «Не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему» (Быт. 2, 18).
Таким образом, если Владимир Соловьёв прав и приходящая к каждому человеку в свой час влюблённость, которую мы будем называть в дальнейшем также брачной любовью, характеризуется самопожертвованием ради другого, то оно и может быть взято в качестве универсального признака понятия «любовь», так как для других видов любви, не связанных с разделением людей на мужчин и женщин, самопожертвование является ещё более очевидным элементом. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13), – говорит Спаситель о дружеской и братской любви, так что здесь упомянутый признак, бесспорно, является основным.
В другом месте Иисус говорит: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13,35). Тут любовь прямо связывается с приобщением к Богу. Но тогда, может быть, приобщение к Нему и взять за главный признак любви? Апостол Иоанн учил, что Бог есть любовь; не добавить ли к этому и обратное утверждение: «Любовь есть Бог»?
Если любовь в самом широком смысле есть отдавание себя другому или другим, то такое утверждение будет верным, ибо бескорыстное самопожертвование не может быть чисто природным свойством человека. Природой в нас вложено как раз противоположное – инстинкт самосохранения, заставляющий нас быть эгоистами. В самопожертвовании, выражаясь церковным языком, «побеждается естества чин», здесь человек действует против собственной природы. Откуда же может прийти к нему эта противоречащая его жизненному интересу мотивация? Конечно же, только свыше. Отдать за друзей свою душу заставляет человека закон не здешнего, а иного мира, где действует принцип: «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода» (Ин. 12, 24). Ощутить космический масштаб этого принципа и согласиться с тем, что выгоднее исполнять небесный закон, чем земной, можно только с помощью Откровения, а оно ниспосылается Богом. Значит, опять-таки при условии, что половая любовь, в том числе и брачная, есть самопожертвование, общее определение любви становится кратким и простым: «Любовь есть прямое соприкосновение человеческой души с Богом».
Итак, обратимся теперь к влюблённости: действительно ли она от Бога?
Европейская культура Нового времени почти единодушно придерживалась именно этой точки зрения. Художественная литература, поэзия, песни, баллады, романсы, а позже оперы и оперетты дружно воспевали любовь как божественное, святое чувство. Само появившееся в это время слово «обожает», характеризующее чувство влюблённого, подразумевает, что он видит в предмете своей любви Бога. В оперетте «Сильва» герой восклицает, обращаясь к героине: «Ты – божество, ты – мой кумир!» Герцен писал своей невесте: «Теперь я понял: ты, Наташа, и есть Христос!» Ярким выражением этой концепции влюблённости служат и слова Фёдора Сологуба, приведённые выше. Её придерживались не только люди искусства, но и некоторые знаменитые философы, например Паскаль и Шопенгауэр. Согласно этому пониманию, Бог нарочно прячется за влюблёнными, подманивая их этим друг к другу, чтобы они вступили в брак и образовали семью, необходимую для продолжения человеческого рода.
Лев Толстой специально не философствовал на эту тему, но по его произведениям можно предположить, что в ранний период своего творчества он держался относительно любви того же мнения. Оно особенно для нас весомо, так как мало кто в мировой литературе изобразил влюблённость с такой силой и точностью, как он. Вспомним, например, сцену на катке из «Анны Карениной»: «Он прошёл ещё несколько шагов, и перед ним открылся каток, и тотчас же среди всех катающихся он узнал её. Он узнал, что она тут, по радости и страху, охватившим его сердце. Она стояла, разговаривая с дамой, на противоположном конце катка. Ничего, казалось, не было особенного ни в её одежде, ни в её позе, но для Левина так же легко было узнать её в этой толпе, как розан в крапиве. Всё освещалось ею. Она была улыбка, озарявшая всё вокруг. «Неужели я могу сойти туда, на лёд, подойти к ней?» – подумал он. Место, где она была, показалось ему недоступною святыней, и была минута, что он чуть не ушёл: так страшно ему стало».
Как тут не вспомнить поразительно схожую с этой ситуацию, описанную в Библии. Увидев на горе Хорив горящий и не сгорающий куст, Моисей услышал доносившиеся из куста слова: «Не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих; ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (Исх. 3, 5).
Сравнивая эти два эпизода, приходишь к выводу, что как Господь явился в образе куста Моисею, так Он явился и Константину Левину в образе Кити Щербацкой. Следовательно, художественными средствами Толстой утверждает то же самое, что Паскаль и Шопенгауэр доказывают философскими рассуждениями. И делает это он не однажды. Вот ещё одно место, на этот раз из «Войны и мира»: «После обеда Наташа, по просьбе князя Андрея, пошла к клавикордам и стала петь. Князь Андрей стоял у окна, разговаривая с дамами, и слушал её. В середине фразы князь Андрей замолчал и почувствовал неожиданно, что к его горлу подступают слёзы, возможности которых он не знал за собой. Он посмотрел на поющую Наташу, и в душе его произошло что-то новое и счастливое. Он был счастлив, и ему вместе с тем было грустно. Ему решительно не о чем было плакать, но он готов был плакать. О чём? О прежней любви? О маленькой княгине? О своих разочарованиях? О своих надеждах на будущее? Да и нет. Главное, о чём ему хотелось плакать, была вдруг живо сознанная им страшная противоположность между чем-то бесконечно великим и неопределимым, бывшим в нём, и чем-то узким и телесным, чем он был сам и даже была она. Эта противоположность томила и радовала его во время её пения».
Толстой и здесь не говорит прямо, что за громадная тень померещилась Андрею Болконскому позади Наташи, в которую он в этот самый момент окончательно влюбился, но слова «бесконечно великое и неопределимое» достаточно красноречивы. Бесконечным и неопределённым, то есть непознаваемым, является только один Бог. Вот Он-то, по Толстому, и прятался за Наташей и входил в душу князя Андрея. А находясь близко к Богу, сам начинаешь обожествляться. Чтобы увидеть, как это происходит, снова поглядим на Левина, но уже в то время, когда он получил согласие Кити и ждёт назначенного её родителями часа: «Всю эту ночь и утро Левин жил совершенно бессознательно и чувствовал себя совершенно изъятым из условий материальной жизни. Он не ел целый день, не спал две ночи, провёл несколько часов раздетый на морозе и чувствовал себя не только свежим и здоровым, как никогда, но он чувствовал себя совершенно независимым от тела: он двигался без усилия мышц и чувствовал, что всё может сделать. Он был уверен, что полетел бы вверх или сдвинул бы угол дома, если б это понадобилось».
В состоянии описанного здесь любовного экстаза, видя в любимом существе божество и кумира и сам становясь рядом с ним божественно всесильным и щедрым, человек ни секунды не задумается всё отдать предмету своей любви и даже прыгнуть по его приказу с крыши, как это сделал герой Мопассана. Поэтому, возвращаясь к проблеме отыскания универсального признака, характеризующего понятие «любовь», может показаться вполне логичным остановиться всё-таки на самопожертвовании. Любовь есть преодоление и упразднение нашего эгоизма. Найдутся ли какие-то аргументы против такого определения?
Аргументы против него, к сожалению, есть, и из-за них почти найденная формулировка оказывается никуда не годной, а нам приходится начинать наши поиски с нуля.
Часть 2
Принятое было нами определение рушится по той простой причине, что во влюблённости, которая, хотим мы этого или не хотим, прочнее и неразрывнее всего связана в нашем словоупотреблении со словом «любовь», момент альтруизма, отдавания себя другому является необязательным и, как правило, весьма кратковременным, а чувством, сопровождающим её с первого до последнего момента, чувством постоянным и ни для кого не делающим исключений, как говорят философы – имманентным, является как раз эгоизм.
В первый романтический период влюблённости, когда предмет этого чувства непомерно идеализируется и представляется бесплотным ангелом или даже божеством, далеко не каждый влюблённый думает об овладении своим предметом в физическом смысле – такая мысль часто кажется ему кощунственной, но овладеть его душой, всеми его чувствами, помыслами и желаниями, чтобы сделать его частью собственного «я», хочет каждый с самого начала.
Природный человеческий эгоизм, который воспитание приучает нас скрывать, хотя и не слишком успешно, высвобождается из-под контроля и достигает высшего своего выражения именно в период влюблённости, когда подчинение себе возлюбленного, полное им овладение становится заветной мечтой и смыслом существования. Когда Вронский влюбился в Анну Каренину, он почувствовал, «что все его доселе распущенные и разбросанные силы были собраны в одно и с страшной энергией были направлены к одной блаженной цели». Конечно, ни в чём другом Вронский не нашёл бы блаженства, как только в «победе» над Анной – выражение, которое означает успех в любви на всех языках. Но победа есть покорение, захват. А чтобы одержать её, нужна правильная стратегия, описанная Овидием в «Науке любви» и блестяще освоенная Евгением Онегиным.
Как рано мог он лицемерить,
Таить надежду, ревновать,
Разуверять, заставить верить,
Казаться мрачным, изнывать,
Являться гордым и послушным,
Внимательным иль равнодушным!
Как томно был он молчалив,
Как пламенно красноречив,
В сердечных письмах как небрежен!
Одним дыша, одно любя,
Как он умел забыть себя!
Как взор его был быстр и нежен,
Стыдлив и дерзок, а порой
Блистал послушною слезой!
Как он умел казаться новым,
Шутя невинность изумлять,
Пугать отчаяньем готовым,
Приятной лестью забавлять,
Ловить минуту умиленья,
Невинных лет предубежденья
Умом и страстью побеждать,
Невольной ласки ожидать,
Молить и требовать признанья,
Подслушать сердца первый звук,
Преследовать любовь и вдруг
Добиться тайного свиданья…
И после ей наедине
Давать уроки в тишине!
Думается, ни у кого не возникнет сомнения, что Пушкин, усвоивший стратегию любви на собственном богатом опыте, перечислил основные её приёмы вполне правдиво. Это не сатира, а реализм, такое поведение достаточно типично для пылающих «страстью нежной». А теперь скажите: где же здесь самопожертвование? Здесь нечто прямо противоположное – азартная охота на предмет этой страсти, который сам должен стать жертвой. А если жертва сопротивляется, охота превращается в настоящую войну, которую надо во что бы то ни стало выиграть, то есть одержать ту самую «победу». И это такая война, где не соблюдаются никакие Женевские конвенции, ибо победа должна быть одержана любыми средствами, включая самые аморальные и даже подлые: обман, ложь, притворство и тому подобное. Как же мог такой чуткий к понятиям человек, как Владимир Соловьёв, усмотреть в этом неблагородном поведении «перенесение всего жизненного интереса с себя на другого»? Тут, наоборот, всё подчинено собственному интересу; самоутверждающееся «я» пытается раздуться, как лягушка из басни, путём поглощения другого «я» и включения его в свой состав. И тут ведь не отговоришься тем, что это, дескать, не любовь, – по нормам человеческого языка, которые не нами придуманы, не нам их и отменять, влюблённость есть то состояние, которое прежде всего именуется любовью. И по своему личному опыту, и по наблюдениям за другими все прекрасно знают, как тираничны бывают влюблённые, какие повышенные требования предъявляют они к своим возлюбленным, как им всего от них мало; но стоит только начаться разговору о брачной любви в теоретическом плане, будто под действием гипноза люди начинают вторить Соловьёву: «Любовь – это преодоление эгоизма». В чём тут дело?
Здесь действительно срабатывает массовый гипноз такой силы, что ему почти невозможно противостоять, гипноз общепринятой идеологии. Это – повреждение общественного сознания, которое автоматически передаётся личным сознаниям. Где-то с XV века, когда в Европе началась апостасия – процесс отпадения человека от Бога, когда на место прежней картины мира, в центре которой помещался Бог, начала исподволь готовиться новая, с человеком в центре, – всё чаще и всё громче в литературе и искусстве стали воспевать влюблённость как высшее божественное чувство, и это воспевание в конце концов превратилось в культ брачной любви. По апостасийной логике это было абсолютно закономерно, ибо культ Христа, которым жили европейцы пятнадцать веков, не соответствовал уже новому мировоззрению и ему надо было найти замену. Ничего более подходящего, чем то возбуждение, которое было у Левина на катке и бывает у всех влюблённых в первые дни, не нашлось, и его сделали предметом культа. О том, что оно быстро проходит, намеренно забыли. Это привело к тому, что романы и повести о человеческих судьбах завершались вступлением преодолевших все препятствия героев в брак, ибо дальше любовная эйфория, заставлявшая их сдвигать горы, кончалась, и писать было не о чем. Не одно столетие просуществовала эта «усечённая» литература, вырывающая из всей судьбы человека очень кратковременный период, в котором усматривалось нечто возвышенное, и это возвышенное становилось предметом обожествления. А поскольку два разных типа сакральности не могут ужиться в обществе, прежняя сакральность, источником которой был Христос, начала отходить на задний план, что и требовалось Новому времени.
Сакрализация любовных восторгов имела, таким образом, серьёзное историческое значение, выполняя роль смазки, облегчающей движение социума по пути «прогресса». Для прямого отказа от Бога людям надо было ещё созреть, а чтобы они быстрее созревали, высокие чувства, раньше адресуемые Богу, стали переадресовываться тому таинственному, огромному призраку, которого Андрей Болконский своей чуткой душой почувствовал позади Наташи, когда в нём вспыхнула любовь. Но, выполняя «социальный заказ», обожествление влюблённости производило и побочный психологический эффект, приучая людей к мысли, что в любви не может быть ничего неблагородного: ведь она, как выразился Фёдор Сологуб, «низводит небо на землю». В итоге даже гнусное поведение таких ловеласов, как Онегин, перестало осуждаться. Любовь стала оправдывать в глазах публики всё, включая супружескую измену и измену государственному долгу (отречение великого князя Константина Павловича от престола из-за женитьбы на Лович, подхлестнувшее восстание декабристов, было прощено ему сентиментальным обществом). Как же устоять перед зовом любви – ведь в ней человек обретает величайшее, неземное блаженство!
Общепринятое отождествление любовной эйфории со счастьем убедительно доказывает, что идеология действительно обладает удивительной способностью массового гипноза. Другое доказательство этого – дарвинизм. Делая какие-то невидимые пассы, он внушает нам, что человек произошёл от обезьяны, хотя это утверждение совершенно абсурдно. Оно противоречит и фактам, и логике: отсутствует промежуточное звено, и геном обезьяны меньше похож на человеческий, чем геном водяной лилии; но, даже зная об этом, мы продолжаем считать обезьяну нашим предком, будто нас кто-то зомбировал. И то же самое с влюблённостью: видя, сколько горя она подчас причиняет тому, кто не сумел от неё уберечься, как из-за неё происходят убийства и самоубийства, мы упорно повторяем подсказанные нам кем-то слова: «В любви человеку даётся высшее счастье».
Как ни прочны идеологемы, против тех из них, которые ложны, надо возражать. Попытаемся же развеять устойчивый миф о блаженстве, доставляемом любовным экстазом.
В юности, начитавшись любовных романов, я сам был убеждён, что «нежная страсть» принесёт мне счастье, и с волнением ждал её прихода. И вдруг получил такое отрезвляющее свидетельство, не верить которому было нельзя.
Мне было лет пятнадцать. Я ехал из Москвы в Орёл без билета и на станции Скуратово был высажен ревизором. На платформе стояла скамейка, я сел на неё и стал ждать следующего поезда, чтобы продолжить своё незаконное передвижение по железной дороге. Но прежде моего пришёл другой поезд, на Москву. Из него тоже высадили «зайца» – молодого человека лет двадцати пяти, который, конечно, казался мне совсем взрослым. Он сел возле меня, выкурил пару папирос, а потом заговорил со мной. Видно было, что ему необходимо излить душу. Не помню, с чего он начал, но на всю жизнь запомнил фразу: «Ты ещё молод и этого не понимаешь, а когда вырастешь, поймёшь: любовь хуже всякой холеры». И по его нервному тону, и по глазам загнанного оленя мне было очевидно, что он действительно болен, что ему очень плохо. Да, тогда я не понимал той истины, которую он мне возвестил, но, когда вырос, много раз убедился, как он и предсказывал, что это истина.
«Мужик умён, а мир дурак», – гласит народная пословица. Это так. Каждый из нас чувствует верность поговорки «любовь зла» и, если у него есть семнадцатилетняя дочь, никогда не пожелает ей влюбиться без памяти, а скажет: «Избави нас Бог от этого несчастья». Но, отойдя от житейской реальности и начиная рассуждать по подсказке романтической литературы, то есть идеологической надстройки апостасийного общества, человек действительно становится дураком и верит явной нелепости, будто влюблённость отверзает нам небо.
Тут есть ещё одна параллель с дарвинизмом. Все самые крупные биологи – Агассис, Бэр, Дриш, Вирхов, Берг, Мейен – отвергали это учение, находя в нём несообразности. Зато биологи меньшего масштаба дружно его приняли, и чем их масштаб был мельче, тем больше энтузиазма они высказывали в отношении эволюционной теории. Точно так же самые значительные художественные писатели, истинные душеведы, гениально чувствовавшие внутренний мир человека, единодушно видели в любви главным образом сердечную муку; для них она была прежде всего страданием. «Страдания молодого Вертера» Гёте, «Жизнь» и «Монт-Ориоль» Мопассана, «Любовь Свана» Марселя Пруста, «Анна Каренина» Толстого ясно показывают нам неразрывность влюблённости и страдания. А вот авторы рангом пониже, прикрывающие свою бездарность ложной романтикой, хором воспевают влюблённость, как врата в рай. И мы верим мелюзге, а не великим. Впрочем, простой народ не верит, он солидарен с Мопассаном и Прустом: куплеты о любви именуются у него «страданиями» (например, знаменитые «Саратовские страдания»).
Причиной любовных мук и терзаний является ревность. Этот страшный и беспощадный зверь почти с первых дней прилепляется к влюблённости и не покидает душу до тех пор, пока не кончится сама влюблённость, отцепляясь тогда, как клещ от умершей собаки. Недаром говорится: «Не ревнует, значит, не любит». И как только ревность входит в человека, его судьба начинает зависеть от того, кончится ли его любовь раньше того, чем ревность заставит его убить либо того, кого он ревнует, либо того, к кому ревнует, либо самого себя.
По поводу распространённого в народе отождествления любви и ревности приведём одно место из повести Бунина «Митина любовь».
«Раз Катя, полушутя, сказала ему в присутствии матери:
– Вы, Митя, вообще рассуждаете о женщинах по Домострою. Из вас выйдет совершенный Отелло. Вот уж никогда бы не влюбилась в вас и не пошла за вас замуж!
Мать возразила:
– А я не представляю себе любви без ревности. Кто не ревнует, по-моему, не любит.
– Нет, мама, – сказала Катя со своей постоянной склонностью повторять чужие слова, – ревность – это неуважение к тому, кого любишь. Значит, меня не любят, если мне не верят, – сказала она, нарочно не глядя на Митю.
– А по-моему, – возразила мать, – ревность и есть любовь. Я даже где-то это читала. Там это было очень хорошо доказано и даже с примерами из Библии, где Сам Бог называется ревнителем и мстителем».
У Анны Карениной страсть к Вронскому затянулась, и ревность успела сделать своё чёрное дело. Этот случай особенно показателен. Ведь отчего Анна бросилась под поезд? Исключительно из-за ревности, которая не имела никакой причины, кроме самой этой страсти. Вронский обожал Анну, даже покушался из-за неё на самоубийство; он ни разу ей не изменил и не собирался изменять, он предлагал ей жить, где она хочет – хоть за границей, хоть в имении. Он относился к ней как к жене, а не любовнице, у них была общая дочь. Но что бы он ни говорил и ни делал, ничто не уменьшало её ревности, ибо её ревность сидела в её любви, а точнее, и была её любовью. Конечно, сама она оправдывала свою ревность будто бы объективными причинами, но посмотрите, какой субъективной была эта объективность.