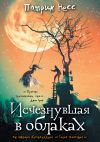Текст книги "Безумная тоска"

Автор книги: Винс Пассаро
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Сиреневые дымовые шашки на выпускном; «Союз геев и лесбиянок». Ослепительный, жаркий майский день. Пресса была здесь не ради «Союза геев и лесбиянок», но в связи с угрозой забастовки из-за университетских инвестиций в Южной Африке. Раздраженный Луис, искавший хоть какого-то внимания, швырнул наполовину полный стакан чуть теплого кофе из «Чокс» в Джейн Поли[67]67
Джейн Поли (р. 1950) – американская телеведущая, писательница.
[Закрыть] – вышел недолет, но охрана выставила его за пределы кампуса. На плечи Джорджа легла обязанность задокументировать это для «Очевидца». По словам Луиса, когда он кричал охранникам: «Я выпускник!», – ответом было:
– Выпусти пар. Она не станет подавать в суд, так что просто вали отсюда.
Он пошел в «Чокс», где взял еще кофе, и полчаса спустя снова проник в кампус. Репортер одного из местных новостных каналов приметил его и попытался взять интервью:
– Почему вы бросили стакан с кофе в Джейн Поли? Вы руководите демонстрацией? Вы выступаете за вывод инвестиций?
– Нет, мы выступаем за равные права для геев и лесбиянок.
На этом интервью закончилось. Они не успели среагировать вовремя, выключив камеру и микрофон.
– Забавно, – усмехнулся Луис. – Столько всего, но именно эта фраза вертелась в голове. И неважно, что было потом. Вот что для меня значит писать: рождаются слова, и я невольно ощущаю – ну, иногда, – что должен создать из них устойчивую конструкцию. Сегодня было «море взыграло во снах». Потом, после того, как это случилось, был «Союз геев и лесбиянок», их шумное сборище со всякой тарабарщиной. А все, чего мне хотелось, – а я же был звездой, я запустил кофе в Джейн Поли, – все, чего мне хотелось, – вернуться домой и работать с морем, взыгравшим во снах.
12
Осень 1978-го. Съемная квартира на Клермонт-авеню. Анна рассказала своему тогдашнему бойфренду Джеймсу о подруге детства, Нэнси. Вот только никакой Нэнси не было: это случилось с ней самой, но без Нэнси история получалась слишком откровенной, слишком правдивой. Нэнси была темноволосой пухленькой милашкой двенадцати лет, ее тело уже развивалось, и однажды она пошла в магазин – почему не поехала на велосипеде? Мы не знаем… В общем, пошла она в магазин, потому что мама просила купить молока, и был там мужчина, в машине сидел, да, просто сидел в машине. «Эй, эй!» – позвал ее он. Она остановилась, посмотрела на него. «Подойди сюда на минутку», – сказал он. Она сомневалась – что-то было не так, это точно – но уйти не могла, она же была воспитанной девочкой. Люди здесь жили размеренно, были хорошими, ответственными взрослыми с авторитетом, не подлежащим сомнению, это был обычный городишко, милый, рабочий городок при заводе – господи, там делали сладости, – она подошла поближе, и он сказал: «Смотри, малышка, смотри сюда», – а у него были расстегнуты штаны, и он держался за пенис – да, за свой пенис! – и водил по нему рукой, боже, он был огромный, багровый, ужаснее этой штуки она еще ничего не видела. «Слушай, детка, – сказал он. – Сейчас ты возьмешь его в рот». Тогда она повернулась – целую минуту она стояла перед ним как вкопанная, но повернулась и убежала! Она бежала, бежала, свернула на Сидар-стрит, потом на Поплар, чтобы оторваться, хоть потом ей и пришлось идти назад по Элм, чтобы вернуться на Уиллоу-стрит, где она жила.
Нэнси, о, Нэнси. Она вбежала на кухню, хлопнув дверью.
«В чем дело?» – спросила мать.
Нэнси никак не могла отдышаться.
«Что случилось?»
«Ничего. Просто бежала».
«А где молоко?»
«Молоко?»
«Я тебя за молоком посылала! Нэнси, ради всего святого!»
Когда мать злилась, она всегда говорила «ради всего святого».
«А. Я забыла».
«Что с тобой случилось?» – повторила мать. Видишь ли, она поняла: что-то не так.
«Ничего. Я не хочу об этом говорить», – и Нэнси убежала к себе наверх.
Конец.
В конце Анна всегда говорила «Конец».
– А как же молоко? – спросил Джеймс.
– За ним пришлось идти матери.
– Она оставила Нэнси дома?
– Нет. Нет, Нэнси была слишком сильно травмирована, чтобы остаться одной. Когда мать уходила, Нэнси побежала за ней и поехала с ней в машине. Они проезжали мимо того места, где был припаркован автомобиль того человека, и она посмотрела туда, но там уже ничего не было. Его там не было. «Куда ты смотришь?» – спросила мать, но она не ответила. Она даже не могла вспомнить, как выглядела его машина. Тогда мать купила ей мороженое. Она все поняла. Все поняла.
Джеймс барыжил на территории кампуса и вне ее: спиды, кислота, а может, еще что похуже, – она предпочитала не знать об этом, в студентах не числился, жил на западе 50-й, и тогда ей нравилась его безнравственность.
– Все это с тобой случилось, так ведь?
– Нет. С Нэнси.
– Ну-ну.
Она улыбнулась ему, в некотором роде одобрительно. Но не сказала, что эта история вспомнилась ей, потому что его член был таким же багровым и уродливым.
Трахнуть соседку своей девушки всегда плохая идея; и не просто соседку, но подругу; не просто соседку и подругу своей девушки, но и любовницу твоего собственного соседа по комнате, который не только твой сосед по комнате, но еще и твой друг. Так как ее назвать, эту женщину, которую не стоит трахать: любовница твоего друга и подруга твоей любовницы? Все они так или иначе были соседями. Трахаешь ее, а она и не против, связки и сухожилия напряжены, глухо урчит и трахает тебя в ответ – можно поискать это в разделе «плохих идей» в начале списка. По крайней мере, среди первых пятнадцати пунктов, после «не отрезай себе мизинец ножницами для разделки птицы, во всяком случае, не из-за любви» – подобный иронический совет Аллен Гинзберг однажды включил в письмо Уильяму Берроузу, зная, что тот поступил именно так. Плохая идея. Но в какой-то момент противиться ей стало невозможно. И вот он оказался не в том месте, но в нужное время, и его моментально затянуло. Утро, мягкий зимний солнечный свет, 116-я улица, комната его девушки в общаге, но Марианна еще спала, его впустила Элиза, и он проследовал за ней, в ее комнату. Ее ночная рубашка просвечивала. Час для него был еще слишком ранний, еще не было восьми; он снова не спал всю ночь, снова был под спидами, снова был в состоянии непрекращающегося возбуждения. Поднявшись со стула у изножья кровати, он подошел к ее краю:
– Можно я присяду?
У него и так стоял, а когда он смотрел на нее, стояк становился еще сильнее.
– Да, – ответила она так тихо, как только могла. После того как он представился по домофону, она прошла к двери по коридору в одной ночнушке и впустила его, Марианна еще спала и ничего не слышала. Длинный коридор с пятью комнатами. Элиза смотрела на него, стоя в дверях, и сказала:
– Привет.
– Привет, – сказал он.
Они шли по коридору и говорили; темноволосая ирландка в ночнушке, коса струится по спине. Нет, она не спала. Читала для испанского. Хуан Рульфо. Знаешь такого? Он не знал. А должен. Должен. У нее были тонкие лодыжки и хорошо развитые ступни, очень сильные, но ногти были слишком длинными, и это слегка пугало. Она ушла в свою комнату, оставив дверь открытой, он пошел прямо за ней, еще о Рульфо – мексиканец, первый из магических реалистов, в сравнении с ним Гарсиа Маркес всего лишь Доктор Сьюз – нет, это неправда. Но ты знаешь, сказала она. Она знала, что тот был влюблен в Гарсиа Маркеса.
– Аксолотль? – спросила она.
– Что?
– Кортасар, – сказала она. Затем: – Неважно.
А теперь вот это. Каким-то образом оказался сидящим на ее кровати.
– Расплети косу.
– Не хочу.
Он держал ее в руке.
– Пожалуйста.
Она села, не сводя с него глаз, и принялась разнимать пряди волос, затем тряхнула головой, как сногсшибательная лошадь, и снова легла. Он расправил ее волосы, черные на белых простынях, дав прядям со лба скрыть кружева на груди. Ее простыни совсем как у его матери. Она просто смотрела на него. На ее лице читалось дозволение. Некий превалирующий процент готовности. И ужас: она знала. В этом и была разница между людьми: некоторые знали, к чему все идет, и, да поможет ей Бог, она была из этих. Он коснулся ее щеки, шеи, не сводя с нее глаз.
– Словно графиня с картины Сарджента, – сказал он. Ее глаза изучили комплимент, слегка удовольствовались им, затем оттолкнули: в ее глазах он мог читать весь ее страх, ее любопытство, ее непокорность. Лицо женщины. Как река: столько частей, единые, но все время в движении, всегда разные в любой момент времени, но управляемые внутренними структурами и контурами личности, ландшафт из подводных камней, порождающий стремнины и водовороты на поверхности. Абсолютное, неизъяснимое, превращенное в жидкость. Что можно было прочесть на его лице? Восторг и желание. И страх, страх, сравнимый с ее страхом, два страха, как две части пазла: хочется сложить их вместе. Но они не состыкуются, ведь страх – чувство не из приятных.
– Давай, поцелуй меня, – сказал он.
– Скоро придет Джон, – сказала она.
Он приблизил свое лицо к ее лицу и повторил шепотом:
– Рискни.
Она слегка подалась ему навстречу. Их глаза были открыты, они искали друг друга. Ее дыхание, чуть хриплое с утра. Их языки встретились, затем она отстранилась, отвернулась и молча легла на подушку. Он решил, что она злится. Снова провел рукой по ее волосам. Коснулся шеи. Она не двигалась. Хотел было встать, когда она удивила его: вновь потянулась к нему, обвила его шею руками, притянула его лицо к своему и опять поцеловала, крепче, чем прежде. Его левая ладонь скользила по легкому теплому хлопку, пока не обхватила грудь, пальцы нашли сосок, твердеющий под тканью, ее глаза закрылись, поцелуй стал настойчивее, и он ощутил, как пахнет ее кожа, каждый раз шокирующее чувство – новый запах чьей-то кожи. Вкус новых губ. Он продолжал наблюдать за ней, помог ей подняться на колени и смотрел на нее, засунув руку под ночную рубашку, пока ласкал ее зад, живот, бедра, затем проник между ног, где все было мокро, намокли даже волосы вокруг пизды – смотрел, когда они разомкнули объятия и разделись – под ночной рубашкой больше ничего не было. Ее голое тело завораживало: почему это зрелище всегда было столь изумительной наградой? Он стянул ботинки, штаны и набросился на нее, не снимая рубашки и пальто, кашемирового пальто из комиссионки. Трахаться в пальто ему еще не приходилось. Роскошная, она разметалась на простынях, притянула его к себе, ее бедра блестели от влаги, он увидел это, едва она раздвинула ноги, а затем ее ноги сомкнулись на его талии, и она стала двигаться навстречу ему. Просунула руки под пальто, обняв его, ноги остались снаружи. Он входил в нее полностью, на всю глубину, и в какой-то миг у обоих перехватило дыхание, они раскрыли рты, лица исказились, словно в агонии, но то была не агония, а удовольствие, столь близкое к боли, что лишь благодаря прошлому разум сознавал, что есть что, и это удовольствие превосходило все прочие среди плотских. Говорят, героин лучше, но он в это не верил. Тот самый миг, когда разгорается страсть, и так близко блаженство, вместо обычной пустышки, когда блаженство губит страсть. Невероятное удовольствие. Он попытался двигаться жестче, но она так вцепилась в него, что пришлось просто зарыться в нее, двигая бедрами без какой-либо амплитуды. Им нужно было спешить: этого требовали обстоятельства, их тела, и все кончилось быстро – он кончил, чувствуя, как будто взрывается голова, но кричать было нельзя, и, предвидя стон, она прижала ладонь к его рту, почти запихнула ее туда. Позже он вспоминал тот утренний секс и вкус ее ладони, и эта мысль мгновенно переносила его назад во времени, мгновенно рождала желание обладать ей. Она не отпускала его, и он оставался внутри ее с минуту, может, дольше. Дышали тяжело, он наполовину лежал на ней.
– Джон обычно звонит в домофон? – спросил он, подразумевая «Он не застанет нас врасплох?».
– Почти всегда, – ответила она.
Тогда он спустился ниже, на что она сказала:
– Нельзя, он может быть уже у двери, – но все равно открылась ему и запустила пальцы в его потную шевелюру. – Ну и волосы у тебя, – сказала она.
– Ну и волосы у тебя, – раздалось в ответ промеж ее белых бедер.
Одна из его рук скользнула вверх по ее телу, он взялся за ее волосы, пальцами другой вошел в нее, неглубоко, слегка коснулся языком ее клитора и начал неспешно ласкать ее, двигая пальцами внутри и двигая языком по кругу. Он чувствовал, как отвечало ее тело. Ускорился. Чувствовал внутри ее свою сперму, ее запах, ощутил ее вкус, спустившись чуть ниже; ее было так много, что под его пальцами она вспенилась, как мыло, и она коротко вскрикнула, хрипло и грубо, похоже на лай, вцепилась зубами в подушку, кусая ее и взрыкивая, ее волосы, волосы, волосы на подушке, и лобковых волос так много, и вокруг вульвы, они спускались прямо на бедра сплошными зарослями. Она брыкалась, таща его за собой, крутилась с боку на бок, и когда все закончилось, отпрянула, оттолкнула так сильно, как толкают надоевшее домашнее животное. Отпустила подушку со следами зубов и мокрым пятном и легла, задыхаясь; он тоже потел, пытаясь отдышаться. Но надо было валить, пока их не застали: он быстро поднялся и принялся одеваться. Вытер руку о рубашку. Знал, что запомнит это. Забавно, как он догадался. Она надела ночнушку.
Он взглянул на ворох простыней и подушек, слегка поправил их, перевернул подушку со следами зубов. Подошел к ее зеркалу, посмотрелся в него. Стоя к ней спиной, провел пальцами по своим влажным волосам.
– Боже, – выговорила она.
– Я не он, – отозвался Джордж. – Я глас вопиющего в пустыне.
Она поднялась, попыталась ударить его, не сильно, но он увернулся. Затем обнял ее, сказав:
– Это было прекрасно, и ты тоже прекрасна.
– Прекрасно и неправильно.
Она не противилась объятиям, но и не отвечала на них, будто сводя все к нулю. Джордж не возражал, он ликовал, полный любви – да, влюблялся он действительно легко, – и видел тьму, поглощавшую ее, тень на ее лице, как облако, закрывшее солнце.
– Может, и так, но знаешь, в сравнении с бомбардировками Камбоджи это не так уж плохо.
– Ты не католик, – сказала она.
Кажется, она начинала злиться.
– Слава богу, что так.
От этих слов она помрачнела еще больше. Теперь она весь мозг Джону выебет. Выебет и высушит.
– Тебе лучше уйти, – сказала она. Он взглянул на нее, желая попрощаться, но она отвернулась, сев к нему спиной. Она не шутила.
– Окна открой, – сказал он.
Ее счастье было не за горами.
– Проветри комнату.
Она не ответила, не сдвинулась с места. Он открыл окна за нее. Затем ушел, закрыв за собой дверь, прошел по коридору в своем длинном пальто, воспользовался общим туалетом, подмылся, вытерся полотенцем своей подружки, как уже делал раньше, только раньше вытирался он после нее; дважды умылся, все лицо в ее соках. Пшикнулся каким-то пыльным дезодорантом, найденным у раковины, взял грязную расческу, принадлежавшую одной из девушек, между зубцами налипла какая-то темноватая дрянь и светло-коричневые волосы. Но он все равно ей воспользовался. Взглянул на свое отражение в зеркале: ну и дела, смотришь в свои собственные глаза, знаешь, что существуешь, но не способен это осознать. Потом отправился в комнату Марианны, постучал, она открыла дверь, сонная, и улыбнулась ему. В уборной и теперь здесь он должен был ощущать вину, должен был чувствовать себя ужасно, паниковать, как обычно он чувствовал себя, согрешив, о да, он был ужасным грешником, но ничего подобного: он будто похудел на тысячу фунтов и теперь мог парить, прыгать по лунной поверхности. Он опять возбудился: сейчас он бы трахнул свою подружку, и от спидов у него опять встал. Да, спиды это нечто. Но ему ужасно хотелось вернуться в комнату Элизы. За широким окном Марианны было бледно-голубое зимнее небо, голые серебристо-коричневые кроны деревьев блестели в его лучах, и ему было так хорошо, как никогда раньше, и день был полон надежд, обещаний, и перед ним плыло будущее, его можно было коснуться, его легко было поймать, как детский шарик на веревочке.
Вечером Элиза отменила встречу с Джоном, собиравшимся в кино с кем-то из ребят и одной-двумя подругами, придумала какую-то хрень и пошла к Джорджу на Клермонт-авеню, где он снимал квартиру с Джоном и еще одним парнем. Кроме Джорджа, там никого не оказалось.
– Я чувствовала тебя внутри весь день, – сказала она. – Весь день, боль аж до позвоночника дошла.
– Готов поспорить, поэтому ты так злишься, – ответил он.
– О господи, да, я охуеть как злюсь. Зачем ты это сделал? Зачем пришел и сделал это?
Он смотрел на нее.
– Между нами что-то было. Уже давно было. Как большое красное…
– Если скажешь яблоко, я закричу. Будь уверен. Это точно.
– Как большой кусок торта.
– И ты взялся за вилку. Торт можно было бы поставить в холодильник.
– Слишком много всего убирают в холодильник.
– Знаешь, эта метафора торта зашла слишком далеко, но мы выжмем ее до конца. Ты мог бы оставить торт в покое и не оставил. Да, между нами что-то было. Пусть даже так.
– А что, секс обязательно должен сопровождаться всеми этими «мог бы» и «не мог бы»?
– Да.
– Почему?
– Как насчет религиозных и моральных устоев? Обычно не поощряющих оголтелую еблю без разбора? Биологического выживания – правил привязанности и обязательств? Кто будет заботиться о детях, если будет иначе? Обеспечивать их? Тогда мужики будут их жрать, вот что тогда будет. Как морские свинки и медведи гризли. Ты не должен был этого делать.
– Если припомнить, так и ты тоже. Я помню, что ты отвернулась, а я уже хотел встать с кровати…
– Так встал бы! Так бы поступил… – она осеклась.
– Давай, говори уже.
– Так бы поступил джентльмен.
– Начнем с того, что джентльмен бы не оказался в твоей комнате, и как бы там ни было, сейчас 1979 год и никаких джентльменов больше нет.
– Пиздобол ты сраный, вот ты кто.
Он держал ее за бедра, слегка раскачивая их, крутя ими, так что его начинающий выпирать член терся о ее лобок.
– Как называется этот выступающий мыс там, внизу? Тазовый хомут?
– Тебя дезинформировали, – ответила она. – Чушь какая-то.
Он где-то слышал это выражение.
Он думал о нем позже, когда сидел на кровати, а она возвышалась над ним, стоя на матрасе, призывая закинуть ее ноги себе на плечи, что он и сделал; она держалась за его голову, он приподнял ее спину, она откинулась, он приблизил свое лицо к ее промежности и начал работать языком, губами, зарываясь в нее, пока она подавалась навстречу: вот он, тот самый хомут. Интрижка продлилась меньше двух месяцев. Она была раздражительной, злобной женщиной, и на тот момент самым сильным эротическим переживанием в его жизни было подчинять ее себе, чувствовать, как она кончает. Воздух был пронизан враждебностью. За месяц до выпускного, когда между ними все уже было кончено, она все-таки рассказала Джону об измене, как и ожидал Джордж, – да, она была той еще сукой, все, что могло удержать ее, обращалось в оружие. Джон немедленно расстался с ней и перестал общаться с Джорджем, тем временем пытавшимся порвать с Марианной, на лето улетавшей в Индию, а потом на год в Сан-Диего. Что-то связанное с океанологией. Конец учебы – конец всему. С Джоном он все же примирился, но Элизу больше не видел и не слышал. Он не скучал по ней, но ему не хватало ее сексуального потенциала, всей мощи чувства обладания ей. Как будто нашелся идеально подходящий протез для конечности, что он потерял когда-то и не признавал этого. Позже он понял, что эта сила проистекала из отсутствия страха, он знал, что на самом деле неинтересен ей. Она считала его беспечным, поверхностным. Пустышкой. И моральным уродом. Так что он ей не нравился – не слишком. И это было вполне ничего. Значит, она не могла его уничтожить.
13
Прошло две недели после выпуска 1979 года, был День поминовения, пришедшийся на воскресенье, и Анне нужна была помощь: она переезжала в новую квартиру. Ей вспомнилась сцена из романа Джоан Дидион: неловкость женщины на коктейльной вечеринке, где помимо нее двое мужчин, с которыми она спала. Сейчас Анна была с тремя – в отсутствие иных мускулистых вариантов пришлось пригласить троих бывших. Чувство было совсем как у Дидион, специфическое. Тем более что каждый из них хорошо знал о существовании других. Некоторое позерство было неизбежно, как и насмешки над ловкостью и силой.
Трое бывших помогают ей с переездом. Доказательство их верности и привязанности… Вот Грегори, актер и перспективный сценарист, из числа решительных американцев, настоящий Эдвард Олби, создавал отвратительные сцены разрушительной близости. Он был красивей, чем остальные, просто сногсшибателен, из тех мужчин, что будут оставаться красивыми всю свою жизнь, и он был милым. Говорил полушепотом и был неубедительным, слегка ненадежным, как и его голос. Смотрел на мир ехидным, удивленным взглядом.
Вот Дэвид, родители при деньгах, видно, что разбогатели недавно, судя по его лицу, походке и манере одеваться. Из Майами. Все повторял, что его мать просто копия Джанет Ли, ее поздняя версия, с застывшей копной волос; Анна не понимала, как можно захотеть такую. Ох уж эти мальчики со своими мамами. Раньше он был странноватым, вспыльчивым, легко обижался, лелея старые обиды, но было в нем кое-что: пыл, чувство стиля, постоянная аура вожделения – он был из тех парней, про которых точно можно сказать «женщин он любит, и трахаться тоже». Что он и делал. Причем совершенно улетно – к тому времени, как он прекращал наслаждаться пиздой, лаская ее пальцами, ртом и как-то раз, накурившись, даже шепча ей по-испански – да-да, именно так, – она чувствовала, что как будто отрезана от своей пизды, что, кроме нее, для него больше ничего не существует. И они остались друзьями. Вот так. Дважды в год он возил ее в дорогие рестораны в центре города, давая повод слегка приодеться. В качестве награды она целовала его в губы. Нет, нельзя так говорить. Она была искренне благодарна за те вечера, была ласковой, а он милым, даже немного смешным, и так хорошо с ней обращался… она хотела быть с ним такой, отдавая дань ему и тому, что меж ними было. Но все-таки это было наградой.
И Джордж. Тот, что был для нее важен.
Она тоже была для него важна, она знала, что он чувствовал это, регулярно демонстрируя свою глубокую привязанность к ней, к ее телу на этой планете. Ему не по нраву было тащить два здоровенных комода с зеркалами вверх по лестнице, один за другим, на пару с докучливым Дэвидом, решившим отправиться в юридический колледж Нью-Йоркского университета в своих прессованных джинсах. Наконец он сказал ему прямо в лицо:
– Ты свои джинсы гладишь.
– В химчистку сдаю, это их работа, – последовал ответ.
– Джинсы? В химчистку?
– Ага. Не хочу с ними возиться.
– Ты же понимаешь, что до Пако Рабана и Кельвина Кляйна, да неважно кого еще, их делали для мужчин, гонявших мулов и месивших навоз?
– Культура все изменила. Теперь их носят такие, как я, кто знает поименно всех швейцаров в «Студии».
Он имел в виду «Студию 54»[68]68
«Студия 54» – культовый ночной клуб в Манхэттене, на пересечении 54-й улицы и Бродвея.
[Закрыть]. Завсегдатаи были на короткой ноге не только с персоналом, но и со всем заведением.
Ее квартира: дрянная, но кое-где проглядывало старинное дерево. Джорджу это нравилось. Напоминало о лодках, на которых он работал. Дерево было похоже на красное, под рассохшимся, запятнанным лаком, кое-где полностью слезшим, виднелись золотистые и розоватые прожилки. Ему захотелось забрать его. Общий туалет был в конце коридора. Когда-то это был особняк, затем пансион, затем гостиница с одноместными номерами, а сейчас здание дожидалось, пока его не выкупит и не восстановит кто-нибудь богатый. Туалет был огромный, выложенный впечатляющим кафелем – нефритовый фон со сценкой в китайском стиле, цветами и каким-то господином. Четыре этажа дешевых, неухоженных квартир с плохой планировкой, но не ее – три комнаты в нетронутой задней части некогда красивого здания из песчаника. Краткосрочная аренда. Оплата помесячная, а за старые квартиры еженедельная. В стене спальни торчал гвоздь, который закрасили рабочие по найму, о’кей, сделано наспех, плохо, это нормально, обычное дело, вот только такого никто из них еще не видел: на гвозде висела проволочная вешалка для рубашек. Висела, когда прибыли рабочие, и они закрасили ее вместе со стеной.
Она рассказывала им это, пока они вытаскивали вещи из грузовика на тротуар. Джордж переступил порог, взглянул на стену и увидел на ней барельеф в виде вешалки, высоко, чуть справа от центра, от окна подальше, к двери поближе.
– Потрясающе, – сказал он.
В одном из шкафов обнаружилась баночка с красной краской для пола и старая задубевшая кисть, и позже он обвел вешалку ярко-красным, превратив в шляпу, а снизу пририсовал физиономию клоуна. Клоун, как обычно, зловеще улыбался, а в глазах не читалось ничего, кроме грусти.
– Вот тебе личный гомункул дробь цирковой артист, – сказал он ей.
Она ответила:
– Дробь ты употребил не к месту, но спасибо. Очень полезно.
Она не трогала клоуна все полтора года, пока жила в той квартире. Смотрела на него, будучи в разном настроении. Что-то было в его улыбке в тот день, в том, как ей улыбнулся Джордж. И то же самое она видела в лице клоуна. Ощущала что-то интимное, настоящее. Его плечи; он атакует ее громоздкую мебель. И пот. Но у всех этих мальчиков, этих молодых мужчин, были вполне соблазнительные тела, так что в конце концов приходилось признать: двух тел ей следовало сторониться, одного желать. Потом она пришла к выводу, что ее подталкивало все неоконченное, что лежало меж ними. Невысказанное. Так или иначе следовало признать, что они любили друг друга, да, почему к этому так сложно прийти? Сказать это, пусть тихо? Лишь спустя какое-то время она позволила себе пропустить это слово сквозь разум. Но ничего, можно было любить друг друга и пойти своей дорогой, хотя бы зная, что чувствует каждый из них, даже если сейчас они были избавлены от обязательств, даже если их отношения затухали. Вечером, когда с переездом было покончено, когда она избавилась от остальных, он стоял, готовый уйти, но взглянул на нее, и она подошла ближе, обвила его руками, а он поцеловал ее. Они видели это друг в друге, когда снова занялись сексом, и после, когда говорили. Они приняли это из необходимости – зная, что разойдутся, – теперь, когда учеба закончилась, и перед ними лежал путь к сотворению себя, перемена мест, и они уже не встретятся на знакомых маршрутах. Знакомые маршруты – в каждом районе, где она когда-либо будет жить – Верхнем Вест-Сайде, Гарлеме, Нижнем Ист-Сайде, какое-то время на Проспект Хайтс, недолго в Форт-Грин и снова в Верхнем Ист-Сайде, – будут известные маршруты, где она встретит или не встретит кого-нибудь, где ее ждут желанные и нежеланные встречи. Подъезд, зассанный мужиками. Вонючая бургерная с вытяжным вентилятором, выходившим на улицу. Цветочная лавка. Мальчик или мужчина, на которого она наткнется или которого захочет увидеть, чтобы потом расхотеть с ним видеться.
Они скурили одну сигарету на двоих, затем разделили косяк. Говорили. О планах. Надеждах. Прошлом. У них теперь официально было прошлое.
Она сказала:
– Ты мне собирался о чем-то рассказать. Тогда, на втором курсе. Перед тем как мы разошлись.
Он знал, что она имеет в виду. И она знала, что он знал. Он ничего не сказал. Затем:
– О боже.
– Что-то про твою мать, – сказала Анна. – Мне всегда было интересно.
– Боже мой.
– Ну мать-то твоя, так что в этой истории мужчина ты один.
– А?
– Боже твой.
– Боже мой, – отозвался он оглушенно.
И в тот момент вид его был паническим, умоляющим.
– Ладно, забудь.
– Неволей ко всей вселенной воззовешь. Я никому об этом не говорил.
– Знаю.
– То есть никому из тех, кого знаю. Только… – он помолчал, повел рукой, – профессионалам.
На самом деле еще об этом знали соцработник, тот коп Уиндем и бесплатный психотерапевт.
Она коснулась его. Положила руку на предплечье. Поцеловала плечо, все такое же мощное, как и в тот вечер, когда они впервые встретились. Он вздохнул.
И начал говорить. Про себя он называл это «невыносимой ночью». Само воспоминание, сам факт случившегося был подобен камню, плотине, засевшей в памяти, и невозможность изгнать его делала его невыносимым. За некоторое время до случившегося мать начала приходить к нему в комнату, когда он спал, – нечасто, по его прикидкам, раз в несколько недель, может, дольше. Трудно сказать. Приходила к нему, целовала его, трогала его грудь и плечи.
Едва он сказал про грудь и плечи, кровь бросилась ей в лицо, ее охватила тревога, самый настоящий ужас, ведь и сейчас, и раньше ее влекло к его груди и плечам, а затем волной адреналина ее накрыл стыд за все то наслаждение, и лишь острое чувство недопустимости оставить его в тот миг не дало ей отстраниться.
Он заметил это. Ощутил, как напряглось ее тело, но вместо того, чтобы отпрянуть, она лишь крепче прижалась к нему. Ее мышцы должны были среагировать и притянули ее к нему, вместо того чтобы оттолкнуть. Он понял это не сразу, лишь позже, вспоминая об этом, и понял, что ее реакция была платой за услышанное. Несмотря на ее привязанность, несмотря на ее вовлеченность, его история была постыдной, отвратительной, отталкивающей. Несмотря на все сочувствие и всю любовь. Было приятно знать это. Позже он восхищался ее способностью тянуться к нему даже тогда, не оттолкнуть, но обнять его: воспоминание об этом было острым, как меч.
Он рассказал ей самое основное, добавив немного деталей, но не все: в одну историю нельзя было уместить всего, всех его переживаний, всех фрагментов, запечатленных в момент обострения чувств и отпечатанных в его психике. Он не знал, не мог сказать, сколько длились эти материнские визиты, по меньшей мере несколько месяцев. Он сказал Анне, что только недавно сумел признаться себе самому в том, что это действительно происходило с ним. Он думал, что такими волнующими были его сны, сны о женщине, ласкающей его в темноте, о ее жадных, настойчивых поцелуях.
– Она вставала на колени у края кровати, словно молилась, – сказал он. – Я знаю это, я вижу это, но как это возможно, если тогда я спал?
Анна ждала продолжения.
Все было у него в голове, говорил он. Все было во сне, в тех снах, что он помнил. Он не видел ни ее лица, ни тела, но знал, что она рядом, стоит на коленях. Он видел, хоть и не мог видеть. Сон-и-не-сон, будто фантазия, но такая реальная, четкая, повторяющаяся во времени, что была практически воспоминанием, как что-то, что он видел, хотя и не знал, видел ли это в действительности. Во время этих ночных визитов он лежал совершенно неподвижно, упорно не открывая глаз, превращая все в сон, в череду снов, пока шли месяцы, почти год, когда ему было шестнадцать, затем семнадцать. В его памяти они так и остались набором снов, которые он помнил, хотя позже и понял, что они были реальными, помнил как свои, накатывавшие словно прилив, сны в восьмом классе и мог сказать «я помню, что было в этих снах». Должно быть, все началось, когда ему было пятнадцать. Он рано вырос, округлились мускулы плеч, спины и рук, окрепла грудь. Он возмужал. В связи с этим он постоянно вспоминал, как однажды она зашла к нему в комнату, когда он лежал на кровати и дрочил, раскинув ноги, и она все увидела, сказала «Ой!», закрыла дверь, а после попыталась извиниться. Может быть, это послужило отправной точкой всему, что было потом.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?