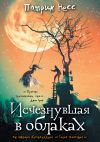Текст книги "Безумная тоска"

Автор книги: Винс Пассаро
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Ужасным было и то, что во снах ее поцелуи, касания ее рук были почти сверхъестественно приятными. Конечно, у него вставал, и это тоже стало частью сна, его готовность и ее заинтересованность. Самые лучшие эротические сны в его жизни – да вообще, в чьей бы то ни было, ведь секс был настоящим, пусть и не доведенным до завершения.
Но тогда… О, тогда она не смогла устоять – сейчас, когда он делился этим с Анной, в нем росла ненависть к матери, ненависть, ненависть, ненависть и в глубине боль, подогреваемая гневом, кипящий котел боли – конечно, ей нужно было дотронуться до него, конечно, ей нужно было гладить его сквозь трусы, пока однажды ночью она не спустила их, сняла свои трусики, которые он, проснувшись, действительно проснувшись, в ужасе спустя несколько мгновений увидел на полу, самое отвратительное зрелище, какое он мог представить: она стягивала с себя ночную рубашку, пытаясь его оседлать. Тогда он проснулся – даже он не мог спать в такой момент, и это было слишком даже для него, одолеваемого собственной подавленной сексуальностью. Он закричал – он до сих пор физически ощущал этот крик, этот вой, рвавшийся из глубин самопознания, и злобу, о существовании которой он не подозревал, но которую принял, – вскочил, отшвырнув ее, как чудовище, напавшее в ночи. Она отлетела на добрых шесть футов, грохнулась на пол и все твердила: «О, Господи, мое плечо, ты мне плечо сломал, Господи Иисусе», – а он стоял над ней, натянув штаны, еле сдерживаясь, чтобы не пнуть ее. Он схватил фланелевую рубашку со спинки стула и вышел на улицу. Была осень, он шел босиком, он привык ходить так в порту, прошел полмили к центру города, к Городской Лужайке – прямо так ее и называли, прямо как в ебаном восемнадцатом веке, хотя город основали в семнадцатом, так что кто знает – густая роса на траве, туман стелился по земле, от влажной травы у него промокли ноги и штаны, так что когда он сел, закатал их до колен, и ветер холодил его кожу, и он слушал, пытаясь опустошить разум, слушал сверчков, поющих о том, что уже пришла осень. Его всегда успокаивало их пение, хоть оно и предвещало наступление осени, начало учебного года, и кто мог знать, что будет дальше? Он думал о том, зачем тут сидит. Старшеклассник, которого ничего не ждет здесь, в Сейбруке, тем более теперь, после того, что она сделала, – это было полной неожиданностью.
Прошло немного времени. Он все сидел. Было холодно, на севере и к западу в небе виднелись облака, сквозь которые пробивался бледный свет луны. Он попытался выровнять дыхание. В конце концов, ему это удалось. Затем появилась полицейская машина, развернулась, остановилась. Вышел коп. Бодрой походкой направился прямо к Джорджу, отчего тому стало совсем неуютно.
– В чем дело, парень? Час довольно поздний.
Джордж раздумывал, как лучше ответить.
– Посмотри мне в глаза, – продолжил коп.
Джордж выполнил требование. Сказал, как зовут его мать. В полиции ее знали: раздражительная алкоголичка.
– Наверное, она вам уже звонила.
Полицейский вернулся к машине, связался с диспетчером. Спустя некоторое время он вернулся обратно к скамье, на которой сидел Джордж.
– Вызывала «Скорую». Сказала, что упала. Ее забрали в неотложку.
– Она не упала, – сказал Джордж, глядя ему в глаза. В них было что-то знакомое. Он хотел проникнуть прямо в мозг полицейского, со всей его полицейской осторожностью и амбивалентным полулюбопытством.
– Она забралась на меня, пока я спал, – продолжил он. – Пьяная. Я проснулся, сбросил ее на пол.
Коп уставился на него, покачал головой.
– Плохо дело, – проговорил он.
– Да, – согласился Джордж.
– И вот теперь ты сидишь тут, мерзнешь, – сказал коп. И снова покачал головой. Он был еще молод, чуть за двадцать. Джорджу его лицо показалось знакомым. И наоборот.
– Я тебя, часом, на лодочной станции не видел? – спросил коп. – Ты у О’Коннора работаешь, да?
– Знаю вашу лодку, – ответил Джордж. – Тридцатифутовый шлюп? Голландский? Красивый. Каждый день на нее смотрел.
– Еще моему деду принадлежала, – сказал коп. – Купил ее не в Голландии, в Дании. Дошел на ней до Белфаста, потом до Плимута, потом сюда. Пересек Атлантику с экипажем в три человека за пятьдесят дней.
– Ого, ни хуя. Я вас не узнал в этой фуражке. Вы же на ней под парусом ходите, с такой клевой блондинкой. В смысле, клево, что она умеет ходить под парусом.
– Пялился на мою жену, значит?
– Простите.
– Да ладно, скажу ей, что ты считаешь ее клевой, она здорово обрадуется.
– Завтра.
– Ага, завтра. Работал я на О’Коннора, еще в старших классах. У него до сих пор в кабинете распятие, а под ним на полке журналы с порнушкой? И банка с техническим вазелином вместо мозгов?
– Ну да. – Джордж видел, что полицейский внезапно понял: порнуха О’Коннора может повернуть разговор не в то русло, учитывая обстоятельства этой ночи.
– Так, значит. Ты Джордж? Джордж Лэнгленд? Тоффхилл-роуд?
– Он самый.
– Может, позвонить кому, Джордж? Ты же не можешь здесь остаться. Технически зона отдыха закрыта, ты несовершеннолетний, и сейчас три часа ночи.
Джордж наклонился, вцепившись в скамью.
– Да я в поряде, сейчас домой пойду.
– Садись в машину.
– Сам дойду.
– Садись.
Это было похоже на приказ. Джордж подчинился, сев на пассажирское место. Коп открыл для него дверь.
– А вас как зовут? – спросил его Джордж, едва тот уселся за руль.
– Уиндем. Сейчас офицер Уиндем. На лодочной станции можешь звать меня Тедди.
– Тедди. Помню, точно слышал. Офицер. Офицер Уиндем.
Уиндем улыбнулся:
– Жрать охота. Да и по времени перерыв. А ты как?
– Денег нет.
– Я угощаю. – Уиндем поднял рацию, взглянул на Джорджа. – Да ты еще и босиком. Ничего, я что-нибудь придумаю. Один-восемь, двигаюсь семь-семнадцать на… – он посмотрел на часы, – на ноль-три-двадцать-два. Прием.
– Вас понял, один-восемь. Лэнгленд обнаружен, прием?
Уиндем посмотрел на Джорджа.
– Парень со мной, едем на семь-семнадцать, затем я отвезу его домой, прием.
– Вас понял, мать Тереза, прием.
– Конец связи.
Уиндем отвез его в «Иден Рок» на Пост-роуд. Когда они вышли из машины, он велел ему подождать, открыл багажник и достал пару полицейских ботинок:
– Вот, держи. Велики будут, но ничего, дошлепаешь.
Полчетвертого, утро, но здесь были люди, и кое-кого Джордж знал, и знал, что они не натуралы, в такой час и в таком месте других не бывало, и они с почти комичной поспешностью выпрямились, будто крутанув ручку веселого шума вниз, увидав, что следом за Джорджем вошел коп. Да, объясниться будет нелегко. Это из-за матери. Он уже слышал, как скажет это. Они поймут. Просто пробормотать пару слов, отвернуться. Вот блядь… Справа от входа в закусочной была большая зала, освещенная тремя большими стеклянными люстрами, столики и стулья с круглой спинкой были обиты красным, а слева вдоль окон тянулась длинная стойка, где обычно садились Джордж, Уиндем и местные, из тех, что помоложе и потолковей. В одной из кабинок было свободно. Официантка заигрывала с Уиндемом, называя его «дорогой». Он заказал бургер со швейцарским сыром и беконом в ржаной булке, чашку томатного супа, картошку фри.
– А тебе чего? – спросил он.
– Чизбургер.
– Давай делюкс, – предложил Уиндем.
– Чизбургер делюкс.
– Как тебе его приготовить, детка? – Уиндем был «дорогой», он был «детка», ну прямо опрятная счастливая семейка.
– Средней прожарки.
– Чеддер?
– Да. Можно, пожалуйста, майонеза добавить?
– Конечно, детка. – Она подхватила меню. – Чаю со льдом?
– Ага, – кивнул Уиндем.
Джордж согласился.
Уиндем сел и посмотрел на него. Так сразу и не поймешь, сколько всякой херни должен носить и таскать с собой коп, пока не увидишь, как он раскладывает все это на столике, чтобы просто усесться. Одна рация, судя по виду, весила фунтов восемь. Уиндем выкрутил громкость на минимум; еле слышное бормотание прерывали помехи.
– Я должен составить протокол и прикрепить к тебе соцработника.
– Мне восемнадцать.
– Нет, тебе семнадцать, восемнадцать тебе будет через месяц.
Джордж вопросительно взглянул на него: откуда ему все известно?
– Все есть в архиве. Мне передали по рации. Как бы там ни было, тебе должно быть восемнадцать, но если так, ты подпадаешь под статью о применении насилия против матери, хотя не думаю, что делу дадут ход. Но судимость сильно осложнит твою жизнь. Колледж, работа. Тебя спрашивают, задерживался ли ты по подозрению в уголовном преступлении, а не признали ли тебя виновным. И ты обязан сказать «да». Так что лучше оказаться в категории трудных подростков.
– Не хочу я ни в какие категории.
Уиндем, тщательно подбирая слова, заметил, что, сломав плечо матери-алкоголичке после того, как мать-алкоголичка попыталась забраться к нему в постель, он не сможет просто взять и отделаться от этого дерьма и снова скрести и натирать воском корпус шестидесятивосьмифутового ялика какого-нибудь богатого типа. Ему придется найти друга, у которого можно будет пожить, пока не закончится учебный год, и вот тут пригодится соцработник.
– А что, дома будет полный пиздец, если ты у кого-то поживешь остаток года, а потом съедешь в общагу колледжа?
– Пиздец будет точно, насчет полного не знаю, – ответил Джордж.
– Видишь ли, если соцработник и кто-то вроде меня, может, кто-то из начальства, скажет твоей матери, что будет так, ей придется с этим смириться. Все можно сделать на добровольной основе, не меняя твоего правового статуса, без геморроя.
Когда они наелись, Уиндем отвез его домой, мать еще не вернулась из больницы. Из его комнаты пропали трусы. Даже сквозь боль и в такой неразберихе она сообразила, что нужно от них избавиться. Одурела, как ебаный дикий кабан. Хитрость почище лисьей: она бы этих лисиц на завтрак жрала. Он стянул с кровати простынь, улегся на одеяле. Включил радио. Ночной нью-йоркский эфир Вина Скелсы – Allman Brothers, потом The Band, о’кей, но потом поставили Pink Floyd – биение сердца, мужской смех, женский крик, и он перевернулся и выключил радио. Стало тихо, он лежал на спине в темноте. Ветер трепал ветви дубов за окном, они скреблись по крыше, и желтый уличный фонарь отбрасывал бледные тени на потолок и стены, тени трепещущих листьев, похожих на кающихся грешников в ритуальном танце.
Он много чего рассказал Анне, не все, конечно же, и этого хватит. Удержаться было нелегко, он помнил все до последней детали, каждое мгновение, каждый образ, голова кишела ими, словно крысами.
Она умерла от рака печени, еще до того, как в июне он закончил учебу. В последние несколько месяцев у нее раздулся живот, она вся пожелтела, и у нее развилось что-то вроде токсической деменции из-за циркулирующего в крови аммиака… Он не жил с ней, у него была комната на цокольном этаже, с ультрафиолетовой лампой, лавовой лампой, плакатом Хендрикса, комната, покинутая поступившим в колледж братом его друга Уильяма, чья семья жила у воды. Он навещал ее урывками. Отдавал себе отчет – с ужасом, безысходностью – в том, что бросил ее. Она умерла довольно быстро. О ее последних неделях он расскажет ей как-нибудь в другой раз. В конце концов, она больше не могла говорить: просто умоляюще смотрела на него большими глазами. В наследство от нее ему досталось то, что он долго не мог понять женщин своего возраста с их неуверенностью, противоречивыми идеями и неотъемлемым страхом, воспринимая все это как отказ. Изначально и почти до конца его сильнее всего влекло к женщинам, что были намного опытнее, и чем опытнее, тем лучше. Об этом Анне он не сказал. Она не расплакалась, но смахнула несколько слезинок. Поцеловала его: да, его плечи, грудь, в губы, легко, и он почувствовал вкус соленых, холодных высохших слез и тепло ее влажных губ.
– Мне очень жаль, – проговорила она. Теперь ее голова покоилась на его груди. – Так жаль.
– Спасибо. Удивляюсь тому, насколько все это невероятно – вот так взять и поделиться с кем-то. Типа: ого, вот это айсберг, когда эхолот включаешь.
У нее вырвался хриплый смешок.
– Спасибо, что поделился со мной. – Голос звучал глухо, она говорила прямо в его грудную мышцу. Они так и не оделись. Разумеется, у него встал, и, конечно же, они снова соединились: медленно, задевая друг друга, как простыни на веревке, колышимые ветром, до конца, пока оба не выдохлись, хотя ни он, ни она не кончили, и оттого все было еще слаще, еще нежнее, без громкого крещендо.
Они лежали на ее матрасе, на полу, рядом ватное одеяло, на них ничего, на окнах тоже; если подумать, то зрелище было что надо.
– Может, пойдем возьмем по пивку? – предложил он. – Еще не так поздно.
– Конечно, – сказала Анна, медленно отделяясь от его тела.
Они встали, оделись.
– Ты вообще когда-нибудь трусы носишь? – спросила она. – Помню, иногда надевал.
– Почти никогда. Если штаны тонкие или если ночью вспотею, то да.
– А когда сюда шел, не думал, что вспотеешь?
Он посмотрел на нее с забавной улыбкой.
– Я про помощь с переездом, – уточнила она.
– Не знаю. Не помню, о чем думал. – Он засмеялся, и она тоже.
Той ночью они не спали вместе. Вот и все. Матрас на полу был не таким уж удобным. И между ними теперь все было иначе. Попрощавшись с ней, он два часа шел по Бродвею перед тем, как отправиться домой, чувствуя, как преображается оттого, что рассказал ей об этом, переживая прошлое вновь. Перед тем как бросить ее у дверей, на тротуаре, он обнял ее, поцеловал в лоб, в щеки, наконец, в губы и сказал:
– Не помню, откуда это, но «я никогда буду думать не о тебе».
– Боже, что за бред, – сказала она. – Это же вранье! – Она отстранилась. – И почему мужчины столько врут?
– Пытаемся сделать что-то красивое и подарить вам, – ответил он. – Сделать мир куда красивее и лучше. Самим стать красивее и лучше в том большом, красивом мире, что дарим вам. Что-то вроде рыцарства в наш век связей с общественностью.
– Ну, спасибо. Вполне себе милое вранье. Тогда и я скажу кое-что, раз уж такой случай: прощай. Будь сильным и смелым. Ты и правда такой. Пусть так и будет.
– Ты тоже сильная и смелая. А еще добрая, умная и красивая. Так что ты далеко пойдешь.
Она усмехнулась, но чувствовала воодушевление при мысли о будущем – она хотела далеко пойти. Он коснулся ее щеки и уже развернулся, чтобы уйти, но она сказала:
– Стой! – и обняла его, очень крепко.
– Никаких слез, – сказал он.
– Никаких слез, – сказала она.
После они поцеловались еще раз, совсем как у входа в Карман Холл три года назад, только дверь была другая. Как похожи эти два поцелуя, отметил он. Короткие. Было в них что-то, чего тогда он не понимал, но понял теперь. Сейчас, как и тогда, чувство было почти такое же, как от тех поцелуев во сне, о которых он ей говорил, навязчивое чувство, когда тебя снова целуют вот так – так нежно, – и только ей это удавалось, целовать его именно так. Он отложил это осознание на потом, чтобы поразмыслить над ним. Посмотрел на нее, улыбнулся ей легко, скупо, улыбкой, в которой была вся грусть этого вечера, затем повернулся и зашагал прочь.
Величием Господним полон мир…[69]69
Ориг. The world is charg’d with the grandeur of God (из стихотворения Джерарда Мэнли Хопкинса God’s Grandeur. 1877).
[Закрыть] Сколько мыслей высвободилось, стоило ему поделиться с ней. В его голове звучал голос двоюродной бабки, как-то, спустя пару месяцев после смерти матери, до его переезда в Нью-Йорк сказавшей следующее:
– Отец твой, благослови его Господь, знаю, как ты по нему скучаешь, деточка, отец твой, деточка, был святым. Святым был. Сколько ему от матери твоей досталось – прости, но это правда, – сколько он вынес, тебе никогда не узнать. Ты даже не представляешь, деточка. Не хочу, чтобы ты знал. Это же просто ужас. Просто ужас. Больше, чем кто-либо, если спросить. Знаешь, он ведь ради тебя это делал. Он тебя любил, безумно любил. Это его и сгубило. Она его убила, как болезнь, это она его убила. Прости, но я должна была тебе сказать. Ты себе даже не представляешь, деточка. Вот что она сделала.
Вот такой была его двоюродная бабка. Напыщенной, по-своему зловредной. Но кое-что действительно было правдой: в плане интимной близости мать его при жизни была настоящей террористкой.
В сентябре, когда только начался первый курс, на второй, может, третьей неделе, во сне ему явилась юнгианская пизда. Большая, влажная, отделенная от тела, принадлежащая не женщине, но самой вселенной. Затем вспыхнул яркий свет. Он слышал собственный голос, как в резонаторе, усталый, зловещий: «Предназначаю всем им этот свет…» Потом он занимался сексом… на столе для настольного футбола? Нет, невозможно. К тому времени он уже успел переспать с двумя проститутками и одной подружкой, Кэрри. Он чувствовал себя очень неопытным, но теперь перед ним был весь мир. Нет, не настольный футбол, что за бред, это не мог быть футбол, это был стол для боулинга с шайбой в «Голд Рейл», бургер-баре между 111-й и 110-й. Яблоку негде упасть, бар забит, ресторан тоже, все столики заняты, он видел лица всех, кого знал, нынешних профессоров и школьных учителей, друзей, родственников, он видел, как они сидят за столиками и смеются, улыбаются, болтают – кажется, улыбаются ему и смеются над ним, – а на слегка наклоненном автомате для боулинга, что стоял возле бара, на белой, деревянной, уходящей вверх дорожке он трахал это создание с идеальным телом – телом из «Заводного апельсина», после того, как Малкольма Макдауэлла перепрограммировали, привели эту голую женщину, которую он не мог потрогать, так как ему внушили, что он заболеет, если попытается, – тем самым телом, с торчащими, возбужденными сосками, большой, идеальной грудью, чуть округлым животом, ногами, как у прыгуньи, мощными, увитыми мускулами. Прямо как в комиксе; он трахал одну из фантазий Стэна Ли – у него был мощный стояк, а она простерлась перед ним на столе, и он почти что врубался в нее своим членом, задумчиво вбивал его в нее, медленно, вперед, и назад, и опять вперед, и чувствовал, как внутри горит спокойное пламя. Его взгляд медленно блуждал по этому телу кинозвезды, от пышного влажного куста спутанных волос внизу живота к груди, плечам, длинной шее, и вот оно: лицо, пленительное, изможденное, она смотрит на него, и это лицо его матери, постаревшее, измученное, чудовищное, – он обвел глазами толпу, и все смотрели на него. Затем все скрылось во мраке.
То, чем он поделился с Анной, стало первой брешью в плотине. Когда он был подростком, ему постоянно снилось наводнение, приливные волны, о которых предупреждали, и они прибывали, нависали над ним, захлестывали его, пока он хватался во сне за фонарные столбы или другие предметы; другие сны были о том, как вода поднималась, спокойная, отражающая свет, безжалостная, и он следил за тем, как она подбиралась к оконным карнизам. Теперь он понимал, чем на самом деле была эта вода – фактами. Он пытался найти ту версию себя, что была непричастна к случившемуся, и не мог, и в лавке с холодными закусками, у газетного киоска, пока он ждал поезд, его мучили воспоминания; ощущения, внезапный, всепоглощающий ужас от того, что он увидел перед собой – ее, – и то, что было внутри его, он сам. Ему не хватало воздуха, крутило живот, буквально хотелось разнести все вокруг, хотелось, чтобы кто-то его ударил. Он постоянно носил в себе ту долю секунды, когда еще не совсем понял (но инстинктивно понимал всегда) то, что знал, помнил, что хотел в тот миг. Господи, да у него тогда колом стоял. Она его воспитала так, чтобы он захотел этого. Лишь этот миг он помнил отчетливо, остальные воспоминания были смутными. Он спал, он не мог слышать происходящего, видеть его: он спал, спал. Должно быть, она пришла и целовала его, в губы, в податливом, бесконечном стремлении, пока он спал не во сне. И у него вставал, как тогда, и в нем росло вожделение, как тогда, подобно наводнению. Губы. Сладкий, сладкий же сон ему снился, эти любящие поцелуи с их страстью, с их негой. Любви и нежности в этом сне было больше, чем она дала ему за все годы строгого материнского отношения. О, надо же. Вот он, в ее руке. Не открывая глаз, он пребывал в глубоком, темном туннеле, не спал, но истово верил в то, что спит; и, как и в другие подобные ночи, но в эту ночь куда сильнее, чувствовал все каждой клеткой своего тела, как никогда не бывает во сне. Ему было семнадцать. Ему приходилось думать, что это сон, чем еще это могло быть? И с тех пор на протяжении долгих лет, стоило женщине нежно, бесстыдно, жадно, непристойно или похотливо коснуться его рукой или губами, он чувствовал, что за его возбуждением и даже иногда любовью скрывается разгорающийся гнев, стремление выебать ее в глотку и утопить в библейском потопе семени. Затем настала ночь, когда его мать решила пойти дальше – стянула с себя сорочку, он слышал это, чувствовал каждое ее движение, не зная, что это было. Но узнал, когда в конце концов, в итоге, все-таки открыл глаза и увидел ее, стоявшую в двух футах от его головы, голую, темный треугольник лобковых волос и ее познавшая мир пизда, возвышавшаяся там, а все остальное бледное, как рисовая бумага в свете луны, и пока он был парализован, пытаясь пропустить через себя то, что увидел, она забралась на него, и наконец он доказал себе, что не спал, закричав, даже взревев – ни до того, ни после он никогда не чувствовал такой злости, он мог ее убить – черт бы тебя побрал, будь ты проклята – и отшвырнул ее прочь, на пол. Она упала на плечо и сломала ключицу, так никогда и не свыкнулась с мыслью, что это он ее искалечил, кричала и плакала, голая, на полу. Волосы на голове, как смятая шелковая простыня. Он встал и вышел, вышел из комнаты, перешагнул через нее, что важнее всего, ушел от нее, не зная, куда идти, вышел из дома прямо в спортивных штанах и фланелевой рубашке, босой, без куртки, в октябре в Новой Англии, и зашагал, но куда? Где было безопасно? Куда ни пойдешь, на пути стеной стояла беда. Как можно было очиститься от этого, забыть это, куда, в конце концов, ему было идти? Ему было почти восемнадцать, ей сорок три. Он шел по городу, темному городу, все вокруг закрыто, дошел до зоны отдыха, немного посидел там на скамье – пока не показалась патрульная машина. Он вспомнил, как поднял ее, словно ребенка, пальцы на ребра с двух сторон, и вверх! И сейчас все еще чувствовал ее кожу на своих пальцах. Поднял так легко, будто она была ребенком, и швырнул на пол так, будто творил насилие над ребенком, и руки все еще чувствовали ее кожу и вес ее тела на вытянутых пальцах. Черт бы ее драл. Будь она проклята. Пение сверчков, веселье осени, обещавшей тепло очага и урожай, смерть, потерю, тайны.
Спустя немного времени, сидя на той скамье, с промокшими ногами, ощущая воздух, но не чувствуя холода, провалившись в свой собственный кокон со спокойствием смертельно раненного, чем больше он чувствовал, тем яснее видел собственную жизнь. Той, какой она была и какой она будет в туманном, но все же определенном будущем взрослых лет. Всех лет, что были впереди. Он чувствовал в себе странную силу, вдруг осознал, что победит, а она проиграет, точно не зная, что она умрет, но знал, что она проиграет, а цена, что ж, о цене он еще не имел понятия, не зная, что подобные победы и внезапные, радикальные перемены, когда врезаешься во взрослую жизнь на горящем самолете, требуют неизбывной платы, еженедельно, даже ежедневно вымогая проценты из его жизни, его изувеченного «я»; еще не понял, что неимоверный стыд не исчезнет, подобно стыду за какой-то мелкий прошлый проступок, но будет расти, примет форму его повседневной жизни, его тела, как одежда, разнашивающаяся со временем. Явились призраки, порезали шины и насыпали сахара в бак его психики и прошлого. Той ночью он не спал, или так ему казалось, но, наверное, он все же задремал, поскольку, встав около шести, обнаружил ее внизу, в комнате, которую его семья, включая отца, называла зимним садом, где было полно растений, за которыми ухаживали разные квартиросьемщики. Она лежала на кушетке, более или менее одетая, нечестный прием: прекрасно было видно, что лифчика на ней нет, и она сказала: «Ты мне ключицу сломал». А он ответил: «Все, что в тебе сломалось, ты сломала сама». Поднялся к себе наверх, оделся и ушел. Он плотно наелся с Уиндемом, и есть до сих пор не хотелось; пошел в центр района, потом назад в «Иден Рок», в этот раз сел за стойку, заказал кофе. Это было для него в новинку: надеть костюм полузрелости и одиночества, вынужденного уединения. Он помнил, всегда помнил, как вернулся домой перед рассветом, в четыре утра или позже, пока она еще была в больнице, и увидел, что это место, единственное, знакомое ему по-настоящему, перестало быть его домом, его жилищем в глубинном смысле. Здесь ему все было знакомо, и чувство было такое, будто он вернулся сюда спустя много-много лет, а здесь все странным образом переменилось, съежилось, ведь любое из тех мест, где ты бывал когда-то в прошлом, на поверку оказывается куда меньше, чем ты думал. Так все и было, только прошло всего лишь восемь часов, и свидетельство реальности всего, что случилось восемь часов назад, было перед ним – половина яблока, уже потемневшая, которую он оставил на тарелке в кухне перед тем, как лечь спать, – все вокруг было в янтарных тонах. Все вокруг было сплошным воспоминанием, зловещим сном. Каждая вещь вокруг была знакомой и в то же время давно позабытой и от этого казалась имманентно чужой. Больше он никогда не жил с ней в одном доме, почти не разговаривал с ней, пока после Рождества она не заболела. Умерла в апреле, до того, как он окончил школу. За всю свою жизнь об этом он сказал одной только Анне… Сказал и увидел, как она плачет, но сам никогда не плакал, никогда – не пролил ни единой слезы, вспоминая о матери, и, конечно, Анна все понимала, видела то горе, что он держал в себе, словно за стеклом, за дверью со сломанной задвижкой, которую не откроешь, чтобы его выпустить. Анна обняла его, и он встал, прошелся, проверил, дышит ли, как человек, вдруг очнувшийся от смутного, пугающего сна, и сказал: «Может, пойдем, возьмем по пивку?» Иногда ему казалось, что он чудовище, напрочь лишенное способности чувствовать. Некоторые женщины считали так же. Он притягивал к себе людей, а затем отталкивал, так как быть любимым означало подвергнуть себя опасности; тебя хотели, в тебе нуждались, но любовь была штука ненадежная и не сулила ничего хорошего.
Ее смерть принесла облегчение. Она умерла. Все обстояло так, будто он ее убил – убил, чтобы избавиться от ее сковывающих нужд и чудовищного наследия, – он всегда так считал, но не говорил об этом вслух. Смерть, исподволь трудившаяся в ее теле, распрямилась пружиной в ту ночь, когда он швырнул ее на пол. Он чувствовал свою вину за содеянное, словно был преступником, убийцей, но жалости в нем не было. Ему не хотелось попасться или подвергнуться наказанию, он поступил бы точно так же, и ему следовало бы сделать это раньше. Она говорила, что ему стоит стать юристом: безжалостный, последовательный, он мог спорить с ней до умопомрачения. А затем все было кончено. Рано утром первого апреля 1975 года, во вторник на пасхальной неделе, перед рассветом его мать умерла. Ему было восемнадцать, до школьного выпускного оставалось два месяца. Несмотря на то что болела она давно, Джордж не знал, чем она больна и от чего умрет, вплоть до Страстного четверга, епископальной службы с омовением ног – тогда доктор отвел его в сторонку, фактически вывел из приемной, где он сидел с бабушкой и дедушкой, ее родителями, которые вряд ли простили ее и еще сильнее разозлились, когда он сказал им, что она скоро умрет; она лгала не только ему, но и им тоже, до последнего. Его бабушка, мать его матери, с упрямым ртом и слезами на щеках – вне себя от гнева. Ее отец, черствый, эгоистичный, злобный, всегда был и будет таким; все худшее в ней, вероятно, посеял он. Джордж вышел вслед за доктором, и доктор, ясное дело, был добряком, повел Джорджа в отгороженный ширмой полутемный угол, они встали у стеклянных дверей, снаружи светили фонари, и доктор сообщил ему, что у его матери тяжелое заболевание печени и долго она не проживет, вероятно, ей осталось максимум несколько дней, и, несмотря на то что она всем говорила, что у нее просто анемия и ей нужно больше отдыхать, чтобы поправиться, она тяжело больна уже несколько месяцев и скоро умрет. В тот вечер понедельника он видел ее в последний раз: под тентом, вся в трубках, она не могла говорить, щеки ввалились, в свои сорок три она выглядела на семьдесят, большие глаза следили за ним, не отрываясь от его лица, пока он ходил у ее койки, поправляя простыни, капельницу, глаза, в которых он видел грусть и сожаление, но вместе с тем нечто невероятное, нечто новое – страх, в них явно читался страх, он никогда раньше не видел ее напуганной. Она истекала кровью, она умирала, и теперь ей наконец было чего бояться. Джордж коснулся ее руки сквозь хлопковое одеяло, так он помнил, он коснулся ее или попытался, хотя это и было невозможно из-за тента, клейкой ленты, трубок, двух одеял, этих широких белых хлопковых больничных одеял вафельного плетения, грубых на ощупь. Он не помнил, говорил ли ей что-нибудь. Были свободны только предплечье и рука, сухие, как пудра. Ее палата была в дальнем углу отделения, рядом никого, и опять везде темнота, темнота по углам, свет только в центре. И в комнате, и в темноте громким эхом отдается его гнев и прощание. Она знала, что он в ярости, может быть, она боялась именно этого, а не смерти, – расстаться с ним без прощения. Воспитывая его, она совершила не одно преступление, и оставалось еще одно – покинуть его до того, как придет зрелость.
И когда в два часа ночи тот же доктор позвонил ему на адрес его бабушки с дедушкой, где он оставался, будто на ночное дежурство, и сказал, что ему очень жаль, он ответил: «Спасибо, спасибо за все, что вы сделали». Когда доктор, наконец, сообщил ему, что она умерла, облегчение заполнило его целиком, словно свет, всепоглощающее, настолько сильное, что он был потрясен, шокирован им, это казалось ему неприкрытой безнравственностью, которой он стыдился. Но стыд был не так силен и не мог заглушить это чувство, остановить захлестнувший его поток.
Все религиозные отправления, связанные с ее уходом из мира живых: бдение у гроба (дневное и вечернее), похороны, поминки и вся эта чушь насчет того, как она его любила. «Еще как любила», – хотелось добавить ему. Но вместо этого, как славный протестантский мальчик, он улыбнулся, сказал всем спасибо, сказал всем: «Вы так добры, да, она говорила о вас, да, очень любила вас, просто обожала, да, спасибо, она была замечательной женщиной, да». Кто-то из стариков сказал: «Я знаю, что между вами были какие-то разногласия, но сейчас все это неважно». Погоди-ка, вообще-то это очень важно… Джордж кивнул, легко улыбнулся ему. «Вы так добры, спасибо. Спасибо. Если мне что-то понадобится, да. Да, знаю, спасибо. Вы все еще ощущаете ее присутствие, я думаю, что понимаю, о чем вы. Да, она очень любила жизнь».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?